



Рубрики статей: |
Фареры 1 Смотритель маяков На Фарерских островах в ноябре солнце садится вскоре после трёх часов пополудни. Если день солнечный - то тени сначала становятся очень длинными, а потом пропадают, скрываются в одной гигантской, которую отбрасывает гряда холмов. Если день пасмурный – то небо на востоке становится густо серым, потом фиолетовым а потом совсем чёрным. Западный небосклон подражает восточному, опаздывая лишь на короткое время. Посёлки светятся желтыми огнями, делая немного веселее угрюмые громады островов.
На Фарерских островах в ноябре солнце садится вскоре после трёх часов пополудни. Если день солнечный - то тени сначала становятся очень длинными, а потом пропадают, скрываются в одной гигантской, которую отбрасывает гряда холмов. Если день пасмурный – то небо на востоке становится густо серым, потом фиолетовым а потом совсем чёрным. Западный небосклон подражает восточному, опаздывая лишь на короткое время. Посёлки светятся желтыми огнями, делая немного веселее угрюмые громады островов.
Самый южный из них называется Сюдурой, и в одном из его заливов на восточном берегу находится посёлок Трангисвогн, а так же одноимённый порт. В порту есть три маяка – один на вершине каменистого холма, над гаванью, два других построены в море, на каменных скалах, в нескольких милях от берега. Ярко красные, с нарядными белыми полосами на боках они выглядят очень живописно. Редко кто из пассажиров парома, или проходящих кораблей не выходит на палубу, чтобы посмотреть на высокие башенки, поднимающиеся почти от самой воды. По дну проложен кабель и управляются маяки с береговой станции. Раз в неделю смотритель посещает их на катере, осматривает лампы, механизмы, следя, чтобы всё работало исправно, и огонь не погас среди ночи. Смотрителем работал человек по имени Марин. Он был грузен, темноволос, немолод и немногословен. Днями обычно сидел в будке станции, на самом краю каменистого берега, ковырялся в механизмах, собирал и шлифовал линзы, паял чего-то в хитрых коробочках, полных разноцветных проводов. Вечером, включив маяки, он всегда сидит ещё некоторое время и смотрит, как отражаются их белые вспышки в темнеющей воде. Подозревают, что в это время Марин разговаривает с маяками, как с живыми людьми. Разговора не слышал никто, но губы его и правда шевелятся, хотя темно, и никто не может быть уверенным, в том, что его глаза увидели в сумерках. Но сейчас Марину ежедневно приходится садиться в катер и плыть к дальнему северному маяку, чтобы включить его. То ли недавним штормом оборвало кабель управления, то ли контакты разъело морской водой – но теперь свет на капризной башенке можно зажечь, только поднявшись на неё. Питание подавалось исправно – электрический ток подводился по отдельной старой линии. И тем не менее, только выйдя из гавани и проделав путь в полторы мили на катере можно заставить его работать. День двенадцатого ноября, ровно в половине третьего Марин спустился к катеру, и запустил машину. Дизель деловито затарахтел, выбросив облако чёрного дыма. - Видели бы это «зелёные», - подумал Марин,- крику было бы... Но до ближайших зелёных было несколько десятков миль. На небольшом островке некому было следить за тем, как дымит старый катер. Он работал – и этого достаточно, а свежего воздуха здесь больше чем хватает. Марин стал к штурвалу за стеклом в узкой рубке. Два радиатора в углах скоро прогрели воздух, стало уютно, как в небольшом домике, который неторопливо перемещается по воде. Легко слушаясь руля, катер прочертил пологую дугу и вышел из гавани. Ему, правда, не хватало мощности для эффектных движений, но это всё же не скутер, да и смотрителю маяка совсем не обязательно перепрыгивать с волны на волну, добираясь до цели. Хотя, иногда хотелось. Немолодая, но крепкая посудина уверенно взбиралась на пологие волны Атлантики, и достаточно лихо скатывалась с них. Ветер не сильный, но очень холодный. Даже здесь, у обогревателей, чувствовалось колючее его дуновение. Минут через двадцать Марин ошвартовался у подветренной стороны деревянного прича ла, построенного у скалы. Ветер отгонял катер, и накинуть швартовую петлю удалось только с третьего раза, побегав между штурвалом и кнехтами правого борта. Включив и проверив режимы маяка, закрыл дверь в комнатку и вышел на причал. Небо на востоке уже потемнело, скалы на берегу стали казаться тяжелее и значительней. Подтянул канат, сбросил петлю и уверенно перепрыгнул на палубу. Ветер отгонял от причала и разворачивал катер. Подождав, пока нос не стал смотреть на юго-запад, он дал полный ход. Палуба под ногами на время задрожала. Марин удовлетворённо прислушался к шуму винтов, взбивающих пену за кормой, и оглянулся на белую полосу, которая отмечала его путь. Полоса быстро удлинялась. Ну, скутер не скутер, а гонять всё равно здорово. И вообще это было приятно – стоять в рубке у обогревателя и самому вести катер в гавань. Начинались сумерки, по правилам надо бы всматриваться в линию темнеющего берега, чтобы читать многочисленные береговые навигационные знаки. Но это полагалось, а лихому капитану старого катера достаточно было увидеть яркий бело- голубой дом на высоком левом берегу бухты. Это была его обитаемая навигационная веха. Там жила и работала семья начальника метеорологической станции. Летом они с детьми часто возились во дворе и шумно приветствовали проходящий катер. Марин кричал в ответ во всю глотку : «Динамо Загреб!!!», намекая на раскраску дома. Хозяин с детьми, бывало, изображал шутливую «волну», он был заядлым болельщиком команды «Manchester City». Когда дом показался в правом иллюминаторе, Марин лихо положил руль влево, и катер вошел на акваторию порта. Пожалуй, сегодня опять получилось слишком лихо, потому что волна гулко ударила в борт, катер сильно тряхануло, опытный мореход едва удержался на ногах. Немедленно его вызвал по рации дежурный по порту и ядовито поинтересовался, не нужна ли помощь. Пришлось отшучиваться. Ошвартовав катер у каменного пирса, он заглушил машину, запер рубку и стал рядом, глядя на восток. Темнело, небо совершенно сливалось с морем, горизонт не различить. Серое пространство изгибалось в складки волн всего в паре сотен метров от берега, дальше - единое свинцовое пространство неба и моря. Серии вспышек, которые маяки бросали над водой, помогали установить примерную границу воды и воздуха. Два коротких импульса и один длинный – южный маяк, и равномерные длинные сигналы – северный. Убедившись, что всё в порядке (и вдоволь пошевелив губами), Марин пошел в по каменной набережной к дому. Волны разбивались о каменный парапет, запуская вверх эффектные белые фонтаны. Ветер подхватывал мелкие солёные брызги и метко швырял Марину за шиворот. «Так и заболеть недолго… Зайти что ли в «Пещеру», и очаровать взглядом стакан грога?..» Но эта простая задумка осталась не исполненной, в конце каменной дороги он свернул в гору, к дому. Было совсем тихо, только ветер завывал в крышах и водосточных трубах. В посёлке жили очень спокойные люди, не любящие лишнего шума. Да и сама природа Фарер скорее располагала к тишине. Жители острова пасли овец, рыбачили, то есть занимались весьма нелёгким, но размеренным и неторопливым трудом. В холмах безмолвно ходили отары, рыбаки выходили из гавани, обменявшись негромкими приветствиями. Относительно шумной и суетной работой в порту, на почте, и даже на метеорологической станции занимались в большинстве своём приезжие. Они же держали несколько баров (в том числе и музыкальную «Пещеру»), ресторанчик и аптеку. Был ещё и супермаркет сети «7/11», там работали самые суетные представители диаспоры. Люди, которые выбирали жить здесь, были похожи друг на друга. Скандинавы и шотландцы, французы немцы и славяне искали тишины и берегли её, в себе и вокруг. Места вокруг были весьма дикими, но приключений мало кто искал. Единственному полицейскому – мрачному потомку викингов, работы было мало, в основном - приглядывать летом за туристами. Этих здесь хватало, молодые патлатые экстремалы лазали по скалам, жгли костры и фотографировались на ветреном берегу, пели песни на холмах, а потом напивались в барах на набережной. Но и они относительно безобидны, так что жизнь в целом была очень спокойной. Туристам радовались – они приносили доход, да и приятно было видеть новые лица, слышать молодой смех. Большинство тех, кто постоянно жил на острове, были существенно старше 30. В порядке вещей было ходить встречать паром из Торсхавна, чтобы поглазеть на прибывших. Многие специально ходили в бары и кафе, чтобы поболтать с незнакомцами. - Привет, прихвостень фашистский! – весело закричал человек, стоявший у белого деревянного забора. Это был Игорь, хозяин единственной аптеки на острове. Шумный и добродушный одесский еврей любил болтать с Марином на русском. - А, это ты, морда семитская! Выглядишь неплохо, как это наши тебя проглядели? Или патронов не хватило? Отвечать полагалось бойко и, по возможности, цинично. - Нужно говорить «морда жидовская», - с готовностью засмеялся Игорь. - Плохо учили в Хорватии великому и могучему! - Мой дед сидел в Мордовии, там русскому учат хорошо. В Хорватии почти ничему не учили. Особенно ругаться. - А кто здесь ругается? Тебе бы разик встретить поезд Москва – Одесса в июле… Эх, пошли лучше пропустим по маленькой. Этот ветер вреден для южан. Нужна дезинфекция! - Нет, спасибо, мне надо домой. - Кому ты там нужен? Кот гоняет в овраге за коптильней, я видел собственными глазами. Мухи и те передохли от скуки! Хотя, какие мухи в декабре? В общем – там пустота и скука смертная. Пошли давай, я угощаю! - Нет, Игорь, не сейчас. У меня есть дело. Подав руку, Марин опять пошёл по улице в гору. Неудачливый совратитель смотрителей маяков крикнул ему вслед: - Отказываешься выпить с другом? Кто же из нас после этого жидовская морда? И довольно заржал. Марин остановился, улыбнулся Игорю и помахал рукой. Запахнув ворот куртки, зашагал дальше, вспоминал деда. Тот воевал четником и отсидел десять лет в советских лагерях, как следствие. Когда Марин родился, старый Марин был худым и крепким стариком, жил в небольшом доме в деревне под Пулой. Летом там было здорово - высокие скалы, море, виноградник на склоне, – это одни из самых приятных воспоминаний в жизни. Дни были долгими, море – тёплым, а жизнь - простой и беззаботной. Внук – тезка пользовался полной свободой и покровительством почтенного старика. Дед умер в 84м. Через несколько лет началась война. Все происходило очень быстро, даже не верилось в реальность происходящего – сначала угрозы по телевидению, демонстрации, какие то тёмные люди вечером на улицах. Откуда-то пришли танки, стали слышны разрывы на севере от города. Потом один, только один авианалёт, – и у Марина не осталось ни дома, ни родных. Он ушел воевать вместе с двумя лучшими друзьями, а вернулся без них. В это то же не верилось сразу, внук пожил несколько месяцев в доме деда, оформил паспорт беженца и уехал навсегда. Так было легче. Несколько лет ходил электриком на американском танкере, потом попал сюда с судном геодезистов двенадцать лет назад. И остался, жизнь началась заново – среди мрачных серых скал, в долгих и тяжелых туманах северной Атлантики. Это было совсем не похоже на синее море и виноградники на склонах, поэтому новую жизнь редко тревожили воспоминания о старой. Игорь был не совсем прав – кот ждал Марина, сидя на деревянных ступеньках крыльца. Ободранный рыжий атлет, гроза окрестностей, стремительно подбежал к хозяину и стал тереться о сапоги. Марин подхватил его левой рукой, прижал к себе. Пока открывал ключом дверь, снимал сапоги, включал свет – кот не сопротивлялся. Висел на руке, будто игрушечный, лапы - четыре палочки, хвост дёргался из стороны в сторону. Марин бросил его на кресло, снял куртку, вошёл в комнату и включил телевизор. Он редко смотрел на экран, но шум наполнял дом, делал его немного более обжитым. Потом неспешно приготовил ужин, молча поел, наблюдая за игрой команд английской суперлиги. Кот получил свою часть рыбы, аккуратно съел её, умылся и лёг Марину на колени. Так они просидели некоторое время, выключив телевизор. Тишина. За окном бушевал ветер, бросал в стекло мокрый снег, негромко пел в дымоходе. А в комнате от этого было ещё уютнее. Можно, пожалуй, растопить камин по случаю такой погоды, но подобный повод зимой случается почти ежедневно, и Марин не торопился. Хорошо было молча сидеть, чувствуя на коленях вес и тепло живого существа. Если бы ещё от него поменьше воняло рыбой… Часовая стрелка приближалась к девяти. Переложив кота на соседнее кресло он встал. Потянувшись, подошёл к зеркалу и причесался. Затем поднялся на второй этаж по короткой лесенке. Там была оборудована импровизированная вторая кухня, уютнейшее место в доме, бывший тупиковый отросток коридора с высоким окном, выходящим на гавань. Напевая себе под нос «Пьяницу Боба», Марин стал варить кофе, поглядывая в окно. Собственно, он приступал к делу, ради которого торопился сюда. Началось всё летом, три месяца назад. Самое уютное в доме окно имело весьма широкий подоконник, у Марина была привычка сидеть там, пить кофе и смотреть на закат. Он забирался с ногами, поджимал колени к подбородку, упершись ступнями в противоположный откос окна. Даже осенью и зимой, когда он возвращался домой затемно, всё равно сидел здесь с чашкой, обозревая крыши домов, огни в гавани, и тьму океана, изредка прорезаемую вспышками его маяков. Это было его любимое место в доме, наблюдательный пункт, центр жилища. Острые крыши домов поселка, да и всё, то он видел в окно, напоминало иллюстрации к сказкам Андерсена из детской книги. Почти сорок лет назад у него была такая, бледного глазастого мальчика очень привлекали аккуратные литографии, как будто нарисованные карандашом. Казалось, что это черно-белые фотографии сказочной страны. Цветных фото в то время практически не было, в ателье ретушеры раскрашивали одежду, волосы, лица и глаза детей вручную. Поэтому на карточках, которые он помнил, был мальчик с неестественно красными губами и глазами, синими, как стеклянные шарики из банки с краской. Те шарики так приятно было держать в руках, перекатывать в карманах школьной формы. Они были школьной валютой тоже, за каучукового гедеэровского индейца полагалось двадцать шариков. Интересно, куда они девались, когда он подрос? И бывают ли такие теперь? Он бы купил горсть, даже за большие деньги. И шариков, и индейцев, пожалуй, ещё и модель «Тандерболта», на которую в детстве не хватило денег. Так вот, летним вечером, сидя на подоконнике и благосклонно рассматривая привычную панораму города через стекло, он заметил в окне второго этажа следующего дома незнакомку с чашкой кофе в руке. Она была немолода, соломенные волосы пострижены совсем коротко, как у мальчишки. Высокая, крупная и загорелая. Правой рукой держала чашку у рта, левой опиралась на подоконник. Синий свитер грубой вязки с широким воротом был того особенного оттенка, который носят только шведки. Через несколько минут Марин слез с подоконника, поднял кружку в руке и наклонил голову в знак приветствия. Дама поклонилась в ответ без улыбки. Они посмотрели друг на друга ещё немного, и отошли от окна одновременно. Завтра дама появилась снова, они стали так встречаться каждый день. Марин молча смотрел на соседку и пытался угадать, кто же она. Откуда, что здесь делает? Надолго ли? Нравы в посёлке не отличались церемонностью, можно было зайти и запросто задать эти вопросы ей самой. Но зачем? Если она уедет скоро (а это наверняка, ведь это окна апартаментов, которые сдаются), что ему даст это знание? Пустоту потом? И Марин просто стоял у окна. Он молча смотрел, изредка отвлекаясь на крыши, на пролетающие листья, а потом на снежинки. Дама поступала так же, каждый вечер взрослые, совершенно незнакомые люди проводили десятки минут, разглядывая друг друга в окно. Это была замечательная игра, как в школе. Неделю назад она подошла к окну в строгих учительских очках с прямоугольными линзами в тёмной оправе. Марин улыбнулся, попросил знаком подождать, сбегал в комнату за биноклем. Гордо выпрямился, и поднёс бинокль к глазам. Некоторое время крутил колёсико, наводя резкость. Когда изображение стало чётким, увидел, что дама смеётся. Прищуренные глаза её блестели, это придавало лицу очень озорное выражение. Авторитетная штука – бинокль, - с уважением подумал он тогда. Допил кофе, почистил зубы и отправился спать в самом прекрасном настроении. Назавтра, идя с работы, угостил выпивкой нескольких человек в баре и узнал, что квартиру напротив его окна снимает шведская писательница, которая работает над книгой. Зовут её Эмма и на английском она почти не говорит, ни с кем не общается, аренду оплатила до весны. Немедленно прикинув, сколько там ещё вечеров осталось до весны, Марин улыбнулся. Получалось много. Однажды они встретились в универсаме. Не удивительно, ведь в посёлке был всего лишь один универсам. Марин отходил от кассы, неся в каждой руке по бумажному пакету, поднял голову и заметил, как знакомая незнакомка входит в торговый зал. Впервые он увидел Эмму в её полный рост, а не до подоконника. Соседка улыбнулась, проходя мимо, и подняла правую руку в приветственном жесте. Марин старомодно поклонился и вышел на улицу через стеклянную дверь. Потом резко повернулся и посмотрел в освещённый магазин. Шведка стояла у витрины с пакетом молока в руке и смотрела на него. Спокойно, с доброжелательным интересом. У неё вообще всегда был очень уютный, располагающий вид. Марин улыбнулся женщине и пакету молока, и пошёл домой. Вечером того дня они так же стояли у окна с кофе в руке, разве что немного дольше. Уснуть Марину было трудно, он долго вертелся в постели, вызывая шумные протесты кота. Неясные образы и не выраженные, не успевшие сформироваться мысли и мечты скользили где-то по краю сознания. Сосредоточиться на них невозможно, но спать они тоже не давали. Назавтра Марин проспал. Проглотил завтрак на скорую руку, быстрым шагом направился к порту. Скоро восемь, утро туманное, но светлое, он едва успел переключить режим маяков. Дежурный по порту звонил и выразил неудовольствие. Слушая ворчание в трубке, нерадивый смотритель маяков показал телефону язык. Выйдя из гавани на катере, и осторожно пробираясь сквозь туман к маякам он думал о вчерашней встрече и о том, какие мысли она в нём пробудила. Эмма перешла из разряда милой картинки в окне в разряд живых людей. Это что-то меняло, но вот только непонятно что именно. Он осмотрел механизмы, чуть настроил звук ревунов и на обратном пути сделал обычный крутой поворот у бело-голубого дома. На этот раз волна пощадила, но дежурный всё равно не видел этого из-за тумана. Два маяка перекликались в молочного цвета пространстве жалобными звуками, будто раненные одинокие звери, которые прощаются навсегда. Когда-то он читал рассказ Бредбери, и с тех пор звук ревуна казался ему криком живого существа. Из тумана проступил огромный силуэт парома, пришлось опять резко перекладывать руль. Тихонько отругав собственную рассеянность, Марин взял себя в руки, и стал думать о работе. А спустя ещё несколько дней произошел, пожалуй, самый приятный для него в этом году сюрприз. День был солнечным и очень тёплым. С утра он решил посетить оба маяка, чтобы почистить линзы, помыть стёкла, убраться внутри немного, готовясь к наступающей долгой зиме. Около полудня отчалил, солнце грело вовсю, ветра не было. Проходя мимо дальнего пирса, он увидел, что на самом конце волнолома сидит Эмма верхом на куртке и что пишет в блокнот. Марин нажал на кнопку, густой бас гудка спугнул сидящих чаек. Писательница подняла голову и улыбнулась, узнав соседа. Потом резво вскочила и помахала катеру, будто останавливая такси. Марин не сразу поверил, и она повторила жест, подпрыгивая от нетерпения, как ребёнок. Катер немедленно заложил вираж, лихо причалив к каменному боку пирса. При этом было содрано несколько дюймов свежей краски с борта, но все присутствующие сделали вид, что так и надо. Не переставая махать и пританцовывать, Эмма крикнула «Халло!» и запрыгнула на палубу, держа в руках куртку и блокнот, едва катер коснулся пирс Улыбнулась, хлопнула его по плечу ладонью и вопросительно указала на маяки. Марин кивнул и улыбнулся в ответ. Вот это да! Пока катер шел к ближайшему из маяков, гостья ходила рубке и палубе, трогая руками разные предметы. Особенно ей понравился ноктоуз, она постучала по стеклу ногтём, поцокала языком и произнесла что-то несомненно одобрительное. Потом показала Марину надпись «Мальме» на бронзовом ободке компаса, указала на себя и подняла большой палец кверху. «Какой удачный у меня ноктоуз,- подумал капитан, - никогда бы не подумал». Они ошвартовались у причала южного маяка, забрались на него вдвоём и стали приводить в порядок. Грязи там развелось достаточно, к тому же оба сразу перемазались по уши, натирая белой пастой гранёные бока линз. Работать вместе было весело, они много смеялись, что-то говорили друг другу, не понимая ни слова. Хотя она, кажется, немного понимала английский, по меньшей мере, сразу вытерла нос от пасты, когда Марин сообщил ей об этом, демонстративно глядя в сторону. Стирая пыль со стекол, смотритель задался вопросом: откуда берется пыль в открытом океане? Разумного ответа придумать не удалось, и он стал заполнять смазкой механизм редуктора. Эмма стояла на площадке, глядя на горизонт. Со вторым маяком справились быстро. Когда Марин запирал дверь, гостья похлопала ладонью по стене, и сказала «Гут», задрав голову кверху. Марин улыбнулся в ответ, ему этот маяк тоже нравился. А потом мелькнула мысль, что если бы Игорь услышал слово «Гут», то он обязательно высказался в каком-нибудь антифашистском духе. На обратно пути Эмма захотела попробовать управлять катером. Она подошла к штурвалу, положила на него руку и вопросительно улыбнулась. Море было спокойно, но и в противном случае капитан не стал бы отказывать шведской гостье в просьбе. Она подошла к делу очень ответственно и вцепилась в штурвал, закусив губу и нахмурив брови. Когда Эмма немного освоилась, Марин чуть двинул вперёд рычажки управления газом, катер задрожал и прибавил ходу. Новоиспечённый кормчий крикнула что-то возбужденно, глаза блестели. Кататься ей явно понравилось. На входе в гавань, когда бело-голубой дом въехал в правый иллюминатор, Марин сменил её у штурвала. Семья метеорологов стояла у дома в полном составе в ряд, все пристально глядели на катер. Чтобы не разочаровывать их и не нарушать ритуал, Марин срочно надел бело-голубую вязаную шапочку, высунулся из рубки и завопил что есть силы «Динамо Загреб!!!» Ребята у дома только и ждали этого. Они прокричали невнятную кричалку, взявшись за руки, а после этого все задрали на животах голубые футболки. У каждого на белом и незагорелом пузе были выведены синей краской большие буквы МС, «Manchester City». Марин засмеялся, сорвал левой рукой шапку и помахал ею. Все ещё дрожа от смеха он повернул голову к Эмме. Она смотрела на машущих фанатов но не смеялось, даже наоборот, лицо её было сосредоточено и невесело. Вздохнув, Марин сделал вид, что не смотрел в её сторону. Остаток дороги они провели в молчании. Настроение почему-то испортилось, казалось, от них ускользнуло нечто важное, то, что объединяло и давало ощущение причастности к некоей тайне. Тайне, связанной с маяками на камнях, перепачканными носами и солёным вкусом брызг. Когда они вышли на набережную, Марин сделал осторожную попытку реанимировать настроение. Он показал на кофейню, милое и уютное место, где был всегда хороший кофе и вкусные кексы. Эмма посмотрела на него без улыбки и сделала отрицательный жест ладонью. Потом протянула руку, прощаясь, коротко и отрешённо улыбнулась, и быстро пошла к дому. Хотя им было по дороге, Марин не пошел следом. Стоял и смотрел ей вслед. Она повернулась на миг в самом конце переулка и исчезла за углом. «Как жаль, - обижено подумал маячник, - как всё глупо и обидно». Он нахмурился и топнул ногой, точно ребёнок, у которого отняли любимую игрушку. Но винить было некого, шумно вздохнув Марин пошел домой. Ровно в девять Эмма подошла к окну, как ни в чём не бывало. И потом всё вернулось в обычное русло – он спешил домой, делал кофе и стоял у окна. Иногда она опаздывала на несколько минут, Марин уже успевал расстроиться и подумать, что всё, высокой шведки не будет. Но она появлялась всегда, вечер за вечером проходил в странном ожидании 9 часов и в не менее странном отрешенном созерцании. И сейчас, взяв чашку и добавив сливок, он подошёл к наблюдательному посту у подоконника. В окне напротив горел свет, но оно оставалось пустым. Марин походил по кухне, и придвинул кресло к окну. Сел и стал смотреть, ожидая, что писательница допишет и появится. С момента её появления он почему-то избегал сидеть на подоконнике, боялся спугнуть что-то хорошее. Просидел почти час, а её окно всё оставалось пустым. Начался снегопад, белые точки мчались из темноты к оконному стеклу и резко уходили в стороны. Ветер выл в щелях, от этого ощущение пустоты и одиночества усиливалось. Так неуютно за стеклом, и это ощущение медленно перебиралось внутрь его самого. Капля за каплей, как первые дождинки, которые сбегают по стеклу, прокладывая дорогу ливню. Стало понятно, что на сегодня всё, день окончен. Это был первый вечер пустой вечер, но Марин давно готовился к нему, всегда хотел, чтобы его настроение не зависело от того, появится ли сегодня Эмма в окне. Но оно, это самое настроение зависело, сильно зависело. Он думал об этом, когда она опаздывала, уговаривал себя, что ничего плохого не произойдёт, мир не перевернётся. Каждый день приходил страх, что Эмма не появится. И вот она не подошла к окну, этот день пришел. До сих пор несколько раз только задерживалась. И Марин очень злился на неё тогда. И потом злился на себя за это. Её сегодня нет в окне – и пустота и непонятная боль становятся всё сильнее. Опять детская обида, опять вопросы: чего так, надоело ей, что ли? А даже если и так – трудно подойти на минуту? Он встал, подошёл к буфету, достал тяжелую зелёную бутылку с парусником на желтой этикетке, налил и сделал большой обжигающий глоток. Медленно поставил пустой стакан на стол, и посмотрел в стену, прямо перед собой. На стене не появились никакие огненные письмена или знаки, но в них не было нужды. Что сейчас будет - ему и так хорошо известно. Слишком хорошо. Это случалось с определённой периодичностью, несколько раз в год. Марин уже умел точно различать симптомы приближения приступа тяжкого, удушающего отчаяния. Чувствовал сейчас себя водолазом, надолго опущенным на предельную глубину. Очень хотелось наверх, к свету и воздуху, он торопливо поднимался, но всякий раз на пути вставала кессонная болезнь. Казалось, кости начинает давить огромный каток, свет тускнеет, воздух теряет кислород, им уже нельзя надышаться. Понять всё это ему было трудно, разные причины приходили на ум потом, когда приступ проходил. Здесь и недовольство жизнью, которая сложилась именно так, и нельзя ничего изменить. И отсутствие надежды. Угнетало и собственное одиночество, и недовольство собой. Невыносимо было осознавать, что ты не умеешь справляться со всем этим. Марин ни к чему не стремился теперь, ничего не хотел для себя, не видел, как всё исправить. Жизнь пуста, или, скорее недостаточно наполнена. Непонятно, как сделать её полной, непонятно, отчего ему сейчас больно. Пожалуй, известно лишь имя этому – безнадёжная, непреодолимая тоска. Одинокая тоска по тому, чего у тебя нет, чего ты не знаешь и не в силах понять. Она закипает в крови водолаза, словно азот. Кровь становится густой и тёмной, отказывается двигаться по венам, жжет их невыносимо. Если бы у него был кто-то, с кем можно разделить свою тоску, нет, тогда бы они делили радость, ведь тоска – удел одиноких. Но родных нет и друзей не стало, а завести новых нет ни сил, ни желания. Ни на что нету желания и сил. Держать себя в руках больше невозможно. Что ей стоило подойти к окну? Шагнув к кровати, Марин плавно поднял подушку, засунул её угол в рот, закусил его и упал лицом вниз на жесткое одеяло. Горький, удушающий воздух рванулся из лёгких наружу, он зарыдал, скорее заревел, как то морское животное из «Ревуна», изо всех сил прижимая ладонью подушку к лицу. Приглушенные всхлипы и крики пугали кота, он весь подобрался на кончике кресла и замер, глядя на хозяина. Покачиваясь на кровати, большой человек бил кулаком по стене и мычал, а большой кот сидел на краешке кресла и насторожено смотрел. Кончик хвоста дёргался. Прошло минут двадцать, Марин взял себя в руки и встал. Кровь снова начала бежать по венам, компрессор в груди был слишком мощным, чтобы отчаянье могло его остановить. Конечно, хорошо бы стать Томасом Хадсоном и научиться предупреждать эту кессонную болезнь. Но смотритель маяка и так справлялся с этим как мог. Сегодня, кстати, ещё легко отделался, последние два раза его вытошнило. Бросил подушку, пошел в ванную, умылся холодной водой. Выпрямившись, долго смотрел с неприязнью в зеркало на своё опухшее мокрое лицо и красные глаза. Кот запрыгнул сзади на стиральную машинку и тоже стал смотреть внимательными глазами. -Ты сам не красавец, - огрызнулся человек у зеркала. И потом, от меня хоть рыбой не воняет. Кот наклонил голову набок, и сипло мяукнул. Он любил, когда с ним разговаривали. Марин улыбнулся и, прижав рыжего собеседника к груди, направился в комнату. Надо было ложиться спать, чтобы завтра утром не чувствовать себя маслом, размазанным по простыне. Быстро убрал на столе, снял покрывало и лег, отбросив мокрую подушку на пол. Сон не спешил к нему, пустота внутри не хотела становиться желанным забытьём. Уже и кот миролюбиво подобрался под руку, лизнул несколько раз шершавым своим языком щеку в районе уха и уснул, положив голову в углубление ключицы хозяина. Было темно, потолок казался просто продолжением, бесконечным продолжением темноты. Без звёзд, без лёгких белых облаков. От кошачьей морды ощутимо пахло сырой рыбой Когда лежать стало невмоготу, Марин осторожно снял одеяло, отодвинул кота, и поднялся на кухню. Свет в окне напротив всё ещё горел. И тут догадка осветила темноту неведения и растерянности, - с Эммой было что-то не так! Поэтому она не появилась, ведь свет всегда гас в после десяти, а сейчас уже почти одиннадцать. Ни о чём больше не думая, Марин натянул свитер и брюки, путаясь в штанинах. Накинул пальто, сунул ноги в сапоги и побежал через задний двор к её дому. Входная дверь была уже заперта, он постучал в окно, разбудил консьержа и сказал, не объясняя причины, что ему срочно нужно видеть Эмму. Тот недовольно открыл и поковылял наверх, вслед за ненормальным хорватом, пролетевшим двенадцать ступеней в три прыжка. Марин постучал, ответа не было. Нетерпеливо толкнул дверь, и она открылась. В прихожей горел свет, дальше в комнате на полу сидела женщина, опираясь спиной о стену. Рядом лежала опрокинутая сумочка с лекарствами. Эмма тяжело и неровно дышала, глядя перед собой. Лицо было неестественно белым, губы – синего цвета. Марин рванулся вперед, опустился на колени рядом, глаза писательницы следовали за ним, но она не шевелилась. Взяв руку, автоматически нащупал пульс. Сердце билось очень часто, но неровно, толчки пульса появлялись сериями. Он вскочил и схватил трубку телефона. Гудка не было. За спиной раздались шаги подоспевшего консьержа. Он растеряно замер рядом. - Телефон не работает уже несколько дней,- сказал консьерж сонным голосом, - всё собирался починить… и осёкся, глядя на лицо ночного гостя. -Так ты мог починить телефон и не сделал этого? – прорычал Марин, сдерживая бешенство,- звони врачу, пусть немедленно приедет! Консьерж плохо соображал, он повернулся и медленно побрёл к двери. Тогда Марин в один прыжок догнал его, схватил за шиворот, тряханул, чуть оторвав от пола, и рявкнул на ухо: - Зови врача! Бегом!! Она умереть может! После этого швырнул проснувшегося человечка в направлении коридора. Тот поспешно заковылял в свою комнатку, где был телефон. Вернувшись к Эмме, Марин первым делом осмотрел все лекарства, лежащие на полу. Названия ничего не говорили, и он отшвырнул их в отчаянии. Наклонился, просунул руки под спину и под колени, медленно и с напряжением поднял женщину и положил на диван. Эмма всё так же смотрела перед собой, дышала толчками. В правой её руке был зажат флакончик с таблетками. Осторожно разогнув пальцы и отняв лекарство, Марин отвинтил крышечку и посмотрел внутрь. Небольшие белые таблетки, на вид рыхловатые. Может быть, это то, что надо, может быть, Эмма хотела принять именно эту таблетку, но не успела? Помедлив, поднёс флакончик к её глазам, дама посмотрела Марину в лицо, перевела взгляд на флакончик и опустила веки. Ничего не понятно, что же делать дальше? Ждать доктора? Или попробовать сделать что-то самому? Надо собраться с мыслями, а то можно наломать дров. Мы не можем контролировать бег наших мыслей. Бывает, что в голову лезет такое… Человек сопротивляется, старается вытеснить непрошенную мысль за пределы своего сознания, а она всё проникает и проникает непонятным образом в наглухо закрытую для неё голову. Иногда трудно поверить, что такая нелепость или глупость, или уже совсем что-то непотребное родилось в твоём мозгу, кажется, что все мысли подобного толка подсовывает нам кто-то снаружи. Какое-то извращённое и злое сознание генерирует ядовитые мысли и снабжает население планеты в изобилии. С ними можно совладать, прогнать. Но это никогда не бывает легко. Очень простая, уместная, но страшная мысль из этой серии в тот миг посетила Марина, – а вдруг она ела все таблетки подряд, чтобы покончить с собой? Сюда иногда приезжают люди, готовые расстаться с жизнью. Когда эта непрошенная версия полностью завладела вниманием – пришлось предпринимать дополнительные усилия, чтобы отправить её в мусорную корзину для ненужных или использованных ядовитых мыслей. Да и не особо верилось в такое, писательница была совсем не похожа на самоубийцу. Марин всё же быстренько стал трясти упаковки с лекарствами, заглядывать внутрь коробочек и пластинок. Почти все были полными, страх немного ослабел. Итак, нужно было решиться. Лучше ей не становилось, а доктор приедет минут через 15, самое раннее. За это время может стать хуже, может даже непоправимо хуже. Марин достал одну таблетку из тюбика, который Эмма держала в руке, набрал стакан воды и встал на колени у дивана. Он не знал, как дать лекарство, поэтому поднял ей голову и просто поднёс таблетку к её рту, чуть надавив большим пальцем на нижнюю губу. Эмма, похоже, владела мышцами лица, губы чуть вытянулись вперед и раскрылись. Марин положил таблетку в рот и поднёс стакан. Она сделала несколько глотков, но уголки рта не слушались, и изрядное количество воды пролилось на шею и подушку. Взяв полотенце в ванной, он промокнул воду, осторожно прикладывая полотенце. Потом сел, взял её руку, нащупал пульс, неуверенно вздохнул, и стал настороженно смотреть в лицо, пытаясь увидеть там признаки улучшения. Оно было всё так же бескровно, губы оставались синими, отчётливо был виден тщательно нанесённый макияж, неброский, но уместный. На шее была тонкая серебряная нить, усеянная шариками, белая блуза и тёмно синий жилет были весьма ей к лицу. Но вот фланелевые пижамные штаны явно не вписывались в строгий наряд. Тут что-то не так, подумалось Марину. Он начал размышлять над этим несоответствием, чтобы не дать шанса другим мыслям пугать его, пока врач не пришел. Может быть, Эмма переодевалась, и ей стало плохо? Вполне возможно, хотя сам он никогда бы не стал надевать жилет до брюк. Кто знает этих женщин, может им так удобнее? А может, она пришла, и начала облачаться в пижаму? Хотя и тут не очень логично получается, порядок переодевания и в таком случае виделся ему иным. Не может же быть всё так нелогично, даже у писательниц? И вдруг он понял, и от этой догадки кончики ушей стали горячими: она переоделась, чтобы подойти к окну! Что там ниже подоконника – не важно, всё, что он бы увидел – это блузу и жилет. Улыбнувшись, Марин с благодарностью посмотрел на соседку. И удовлетворённо заметил, что, скорее всего, он не ошибся с лекарством. Щёки её чуть порозовели, дыхание стало ровнее. Смотрела по-прежнему прямо в потолок, но, в целом, было совершенно очевидно, что ей легче. Марин сел рядом и осторожно погладил кончиками пальцев руку. Ладонь чуть дрогнула. В это время вошёл врач. Молча и быстро осмотрел её, консьерж приволок носилки. Марин с врачом осторожно положили Эмму, укрыв одеялом. Потом подняли носилки и отнесли к машине врача. Пока ехали, Марин держал её за руку и смотрел в лицо. Явно было лучше, потому что она, кажется, несколько раз чуть заметно улыбнулась. По меньшей мере, он хотел бы думать, что это было так. В больнице Марин рассказывал о том, что произошло, пока врач суетился, настраивая какой-то аппарат с кучей проводов. Рассказав про таблетку, он подал доктору флакончик с лекарством. Тот прочитал название и задумался. Потом сказал что-то медсестре, взял Марина за локоть и вывел в соседний кабинет. Усадил за стол и сел напротив. Он был изящным и политкорректным датчанином, но сейчас говорил взволнованно и резко, странно скругляя окончания английских слов. - Ты дал лекарство, не зная диагноза и не зная, что это за лекарство? -Да,- неохотно ответил Марин. - Ты понимаешь, что мог убить её, ты понимаешь, что это преступление? Доктор уже почти кричал, насколько это было возможно при его корректности. – Почему ты не дождался врача, я могу отдать тебя под суд за это, если с ней случиться беда! Марин закрыл глаза. Всё, что произошло сегодня вечером, весь страх, отчаяние, обида поднялись в нём тяжелой волной, веки задрожали от ярости. Хотелось выплеснуть это на доктора, раз он сам нарывается. Сдержался, через секунду стало легче. Медленно привстал над столом, опираясь на кулаки, приблизил своё лицо к лицу доктора, сказал, медленно печатая слова: - Заткнись! Ей стало лучше, может она и не дождалась бы твоего прихода. Иди к ней, зачем ты теряешь время здесь? - Если ты повредил ей своими действиями – я напишу заявление завтра в суд. Я не хочу, чтобы обвиняли меня. - Валяй! Но если ты не пойдёшь к ней сейчас – я сверну тебе шею до суда! Врач встал. Он был вполовину меньше смотрителя маяка, но совсем не испугался. В глазах его мелькнула насмешливая злость. - Сейчас за неё ты можешь не опасаться. Я умею ставить диагноз, и я умею читать названия лекарств. После этого молча вышел. Марин пошел было следом, но медсестра быстро выставила его в коридор. Она уже успела прицепить датчики и теперь на экране аппарат бегали разноцветные линии. Сев на стул, Марин и громко сказал: - Я хочу знать, что с ней. Ответа не было. Тогда он стал ждать, глядя прямо перед собой, не одни только скандинавы упрямы. Так прошло около получаса, без мыслей, без движений, как в космосе. Вышел врач, Марин поднялся ему навстречу настороженно. Тот подошел ближе и сказал: - Её положение стабильно, опасности сейчас нет. Завтра её увезут в Торсхавн, я вызову вертолёт. Помолчав, добавил,- ты дал правильную таблетку. - Я знаю… Что с ней? - Ты ведь не знаешь даже и названий лекарств, что тебе даст диагноз по латыни? Сердце. - Это я знал и без твоей латыни, -Марин протянул руку врачу и улыбнулся. Спасибо! - Иди домой,- доктор улыбнулся в ответ,- от тебя воняет спиртным. - Ты обижаешь всю семью Дэниэлсов, да и Уокеров своими словами, и я завтра не премину подать на тебя в суд, защищая их достоинство. Тоже мне придумал: воняет. От меня пахнет спиртным! - Не торопись в суд,- засмеялся врач. Я сейчас же искуплю свою вину перед ними. Он вышел и вернулся с двумя наполненными стаканами. Несколько минут они сидели, потягивая янтарный огонь. Напряжение спало, и было приятно просто сидеть и молчать. - Она спит, сегодня у всех был трудный вечер. Иди домой, тебе здесь нельзя оставаться в любом случае. На улице ветер всё так же швырял снегом. Марин не был хорошо одет, а от больницы до дома двадцать минут пешком. Пришлось бежать по пустым улочкам, чтобы не замёрзнуть. Он втягивал носом морозный воздух, шумно выталкивал его ртом. Как необычно выглядят улицы, если по ним бежать ночью, будто и правда попал в сказочный город. Свет фонарей вычерчивает на снегу замысловатые тени, снежинки стайками влетают из темноты. В морозном воздухе лай собак звучит по-особенному, и окна домов светятся уже вовсе сказочным, тёплым желтым светом. А над всем этим нависло фиолетовое небо. «Я – тролль, улыбнулся он про себя на бегу, - я последний выживший тролль. Выживший из ума… Я сделан из серых камней, и мне крайне необходимо успеть в свою пещеру до восхода солнца. Иначе я стану глыбой базальта навеки, или меня заметут блюстители порядка за преднамеренно тролльское поведение … Троллей давно запретили… Собаки разгавкались…демаскируют… они никогда не могли простить троллям дружбу с котами… Или котам дружбу с троллями?... Какая чушь лезет в голову, какая восхитительная несложная чушь… » На душе было легко, никаких следов кессонной болезни. Даже тревога за Эмму спряталась куда-то, ведь всё обошлось. И по совершенно пустой улице бежал беззаботный смотритель маяка, сопровождаемый лаем собак. Концы шарфа мотались на спине. Шарф был выдан добродушным доктором – покровителем реликтовой популяции Фарерских троллей. В конце улицы Марин остановился и посмотрел назад. Посёлок безмолвствовал, только собаки заливались лаем во дворах, отмечая маршрут, по которому он только что пробежал. Чтобы отомстить собакам он набрал побольше воздуха и свистнул протяжно и оглушительно. После этого скрылся в переулке. Собаки опешили на секунду, а потом весь посёлок взорвался лаем. Кот недовольно заурчал, но не проснулся, когда Марин попытался подвинуть его, укладываясь. При такой погоде этот рыжий меховой шланг спал целыми сутками, не всегда прерываясь на еду. Снег не перестаёт, несмотря на то, что ощутимо похолодало. Если завтра будет продолжаться так же, то вертолёт не прилетит. Придётся или ждать окончания снегопада, или вызывать медицинский катер. Снег не прекратился, ни утром, ни днём. Но метеослужбе порта ему сказали, что к вечеру ожидается ясная погода. В полдень Марин перезвонил дежурному по порту и предупредил, что исчезнет на пару часов. Он вышел на набережную и быстрым шагом направился к дому кюре. Настоятель храма уже год как уехал, он болел сильно последние годы. Они были приятелями, кюре угощал Марина вином, которое его отец присылал со своего виноградника. Вино пахло тёплыми склонами Средиземноморья, можно было пить его и вспоминать вино, которое делал его дед на другом берегу далёкого голубого моря. На место приходского священника пока никого не прислали, и прихожане убирали пустом доме по очереди. На праздники приезжал священник из Торсхавна служить мессу, и оставался ночевать. А так дом был совершенно пуст, ключ лежал под подоконником. Марин вошел и направился в мансарду, там кюре, человек юга, устроил крохотный зимний сад. Это было единственное место на острове, где сейчас были цветы. Марин написал записку с пояснениями и осторожно нарезал охапку желтых, похожих на ромашки, цветов. Запер дом и пошёл в больницу. Войдя в палату, он торжественно водрузил цветы на столик. Сто процентов, это был единственный букет в посёлке, можно было и погордиться собой самую малость. Посидел некоторое время, они молча посмотрели друг на друга. Эмма даже улыбнулась правым уголком рта. На этот раз Марин был уверен. Потом опять пришла суетливая медсестра и выставила Марина за дверь, цветы оставила. Надо было готовить Эмму к перелёту, вертолёт ожидался к пяти вечера.. Он и прилетел в пять. Смотритель маяка вышел из станционной будки на краю берега, и стал следить за красной машиной, задрав голову. Она ловко приземлилась у больницы, как стрекоза на камыши. И через десяток минут снова взлетела. Небо было чистое, облака поднялись к 600 метрам. Поэтому вертолёту не надо было жаться к воде, на что Марин рассчитывал. Тогда они летели бы над бухтой, совсем рядом с ним. А так вертолёт поднялся вверх, перевалил через холм и исчез. Вместе с ним навсегда исчезла и вечерняя игра, и робкая надежда на то, что она может перестать быть только игрою когда-нибудь. Марин ещё долго стоял и смотрел в небо. Небо никуда не улетает, маяки тоже остаются. Днём, отнеся цветы, он заходил в квартиру писательницы, забрал вещи, которые упаковала жена консьержа, и отнёс их в больницу. Доктор предполагал, что после лечения в клинике Торсхавна, её увезут домой для реабилитации. Шансы на то, что Эмма сможет заехать сюда после Торсхавна нулевые. Вещей было много, и Марин несколько раз останавливался передохнуть. В холщевую сумку были набросаны музыкальные диски, он просмотрел их. Это было не очень прилично, но сдержаться было трудно, ведь по музыке, которую мы слушаем, можно многое сказать о нас самих. Чайковский, Григ, Chris de Burg, ABBA, Агнетт Фалькског ещё несколько каких-то шведок, много джаза. Он обратил внимание на неизвестный ему совсем новый диск Radiohead “The Bends”. Наверное, что-то стоящее, раз попал в такую достойную компанию. Сам Марин относился к новой музыке без интереса, его вкусы застыли на The Beatles, Rolling Stones и Manfred Mann. Перед самой больницей он решился и запихнул между дисками маленькую деревянную модель северного маяка. Он её давно вырезал и раскрасил сам, от маленькой красной крыши вниз сбегали наклонные красные полосы. Вечером он зашёл в супермаркет и спросил Radiohead. Продавец немного удивился, сказал, что привезёт на следующей неделе. И правда, через несколько дней он сам вечером он постучался к Марину в дверь. Диск были запечатан, а парню хотелось послушать. Они вместе попили кофе под музыку, в гостиной стоял старый Кенвуд с хорошей акустикой. Radiohead оказался достаточно тяжелой для восприятия группой, правда Марину сразу понравилась печальная лирика The Bends, Black Star и Iron Lung. Оказалось, эти аккуратно причёсанные интеллектуалы думают так же, как их патлатые предки. Музыка только вычурнее стала, но не лучше. Потом он слушал эту музыку сам. Один раз с Игорем, когда тот пришел играть в шахматы. Игорю не понравилось, слишком шумно. Он знал, что эта музыка как-то связана с ночным происшествием, но ничего не спрашивал. Хотя, его любопытная натура изнывала от недостатка информации. Марин знал, что этот крикливый и циничный человек умеет беречь чужие тайны, и даже хотел бы рассказать всё ему, но не смог. Они так и продолжали передвигать фигуры на доске, выпили всё чилийское, которое гость приволок в большой бумажной сумке. Когда Игорь ушел, кот немедленно занял нагретое кресло. Марин вымыл посуду, ссыпал шахматные фигуры в ящик стола. Он сегодня проиграл три раза, он всегда проигрывал, потому что не любил думать на несколько ходов вперёд, а предпочитал бросать фигуры в атаку и обострять ситуацию, где только возможно. Игорь кряхтел, и жаловался, иногда заставлял оппонента переделывать особенно безмозглые ходы. Он хотел чистой победы, а Марину нравился сам процесс. Погасив свет, он направился к кровати. Свет фонаря ну улице падал на бронзовое распятие, которое висело над изголовьем. Марин подошёл, коснулся пробитых ног Спасителя кончиками пальцев. - Ты ведь тоже был один,- сказал негромко, - Ты был всегда один. Улыбнулся и поцеловал распятие. -Нет, не всегда. И никто теперь не бывает один, что бы там мне не казалось. Эта история с больницей и визитом такого яркого вертолёта, надолго стала любимым предметом обсуждения в баре посёлка. Она была известна со слов консьержа и доктора, рассказ продавца музыкального отдела о странном заказе Марина только подогрел интерес. Хорвату задавали много вопросов – главный из которых был: что привело его в дом напротив в ту ночь? Как он догадался, что писательнице плохо? Марин молча пожимал плечами. Один раз кто-то вслух высказал предположение, что Марин не первый раз приходил туда вечером. Неразговорчивый смотритель маяка и на этот раз не сказал ни слова, но, подойдя, выбил тому зуб одним хорошим ударом. После этого подобные рассуждения прекратились, на острове не принято было задавать много лишних вопросов, особенно стоимостью в один собственный зуб. Полицейскому сказали, что оба виноваты, и он отстал. Потерпевший не хотел продолжения, и только доктор пошутил потом, что пора бы ему начинать спонсировать дискуссии на эту тему, потому что починка зубов – доходное дело. Через полгода почтальон принёс Марину большой желтый конверт. В нём была книга со смешными иллюстрациями, очевидно сказки. И фото писательницы. Эмма стояла у высокого маяка и улыбалась, озорной и чуть ироничной открытой улыбкой, как это умеют очень красивые и умные женщины. В левой руке держала деревянную модель маяка. На обороте было несколько слов на незнакомом языке. Марин долго сидел у окна и вертел фотографию в руках. Он не станет даже пытаться перевести надпись. Пусть эти слова остаются загадкой, теперь всегда можно придумать самому, что она там хотела сказать. Марин встал, подошел к окну в кухне и поставил фото на подоконник. Позже он смастерил рамку из светлого дерева, и повесил фото на откос. Было ещё много вечеров, зимой, летом, осенью и опять зимой. Он подходил к окну в девять, Эмма всегда приветствовала друга радостной улыбкой, и никогда уже не опаздывала. Он улыбался в ответ. Иногда одевался красивее, включал музыку, приносил вино и пил его, сидя на подоконнике, глядя то на портрет, то на серую массу океана, то на мигающие маяки. Иногда было очень грустно чувствовать, что где-то в Швеции, у окна стоит высокая писательница и смотрит на запад. Иногда было очень приятно чувствовать это. Ведь она вспоминает о сутулом смотрителе маяка с самого южного острова Фарер. Изредка к ним присоединялся кот. Он забирался на колени хозяину, долго возился там, пихался лапами и недовольно урчал, устраиваясь. Наконец, сворачивался клубком, опирался задом на живот Марина, а голову клал на колени. Не спал, а смотрел в окно, чуть прикрыв мохнатыми веками свои непонятные тёмные глаза. Марин почёсывал кончиками пальцев у кота за ушами, тот благодарно урчал, иногда поглядывая на хозяина. Он был хорошим другом, этот кот, ненавязчивым, знающим себе цену и не по-кошачьи преданным, настоящий тролльский кот, последний на свете. Так они сидели до глухой ночи. Изредка щёлкали датчики на батареях отопления, ветер, взяв разбег над Атлантикой, грустно выл в щелях оконной рамы. Тяжёлые серые тучи закрывали вершины невысоких гор, горизонт становился непроглядно чёрным, в посёлке гасли огни, и в доме становилось совсем темно. Тихо, пусто и очень темно. Только в кошачьих глазах отражались короткими искорками пульсы маяков. Рейтинг: +3
Вставить в блог
| Отправить ссылку другу
Как это будет выглядеть? Фареры 1 Смотритель маяков острова, маяки, Фареры
Отправить другуСсылка и анонс этого материала будут отправлены вашему другу по электронной почте. Статьи на эту тему:Серебрянная свадьбаБоги и короли. |
||||
|
© 2008-2025, myJulia.ru, проект группы «МедиаФорт»
Перепечатка материалов разрешена только с непосредственной ссылкой на http://www.myJulia.ru/
Руководитель проекта: Джанетта Каменецкая aka Skarlet — info@myjulia.ru Директор по спецпроектам: Марина Тумовская По общим и административным вопросам обращайтесь ivlim@ivlim.ru Вопросы создания и продвижения сайтов — design@ivlim.ru Реклама на сайте - info@mediafort.ru |
|||||
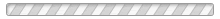
Комментарии:
Оставить свой комментарий