



Рубрики статей: |
Роксана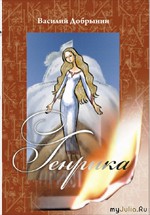 Рассказ из Книги «Генрика».
Рассказ из Книги «Генрика».К чему выдумка, если жизнь, глубиной впечатлений и яркостью красок, не уступает ей?! ISBN 978-966-96890-1-6© Добрынин В. Е., 2007.© Добрынина М. А., обложка, 2007. Слуги-персы, и эфиопы-рабы, добивали льва, вонзая короткие копья и длинные пики в него, уже красного от лучей уходящего солнца и крови. Начинается смерть, закат победителя и угасание царства — подумал, наблюдая за этим сверху, царь Александр Великий. РОКСАНА АЛИ РОКШАНЕК — Мне скучно здесь, в этих стенах. Я хочу повидать мир, проехать по бесконечным дорогам, которые тянутся через всю Вселенную. А меня заставляют выйти замуж за мальчика, воюющего в саду. — Почему ты не уйдешь смотреть мир? — Одна? А кто будет заплетать мои волосы? Растирать мое тело душистым маслом? Нет, пусть великий Ахурамазда пришлет мне такого могущественного человека, который провезет меня, через дальние страны, до места, где небо сходится с землей. — Я знаю женщину, — сказал Спитамен, — она одна, без могущественного человека, с младенцем на руках, прошла пешком всю Персию, до Вавилона, разыскивая мужа, попавшего в рабство. — Шла пешком, как нищая? — Да. Обезобразив лицо раскаленным гвоздем, кутаясь, как прокаженная. — Да? И зачем? Это было больно… — Безумно больно! Но, нужно было затем, чтобы не приставали мужчины. Она нашла в Вавилоне мужа и помогла сбежать. В Мараканду они вернулись вместе. Это была моя мать. — Значит, у них стало все хорошо? — Если я перед Вами, — то, да, хорошо! — Скажи мне, а он ее любит? — Рокшанек, не избегаю повтора: безумно! — Да, ты уже так говорил. Но у нее лицо… — Безобразное у нее лицо! — А он ее любит… — А Вы бы?... — Нет, Спитамен, подобное мне не по силам. — Не по нраву! Рокшанек поджала прекрасные губы. Подумав, она не сдержала себя: — Почему ты, упрямый скиф, перебил меня? — Потому, что, Рокшанек, любить человека с обезображенным, как у моей мамы лицом, и Вам по силам, но — не по нраву. А это — совсем не одно и то же! — Ты прав! — Спасибо. — За что? — За то, что Вы говорите правду. Рокшанек внимательно присмотрелась. Нравился ей этот скифский мужчина-упрямец. Захотелось смутить его. — Скажи, — подумав, спросила она, — А вы там не обрезаете? Он видел, какими глазами смотрела Рокшанек. Он понимал. С достоинством, очень спокойно, он дал ответ: — Нет. Родниковой воды в этом мире много. Нет. Скифы не делают так. — Может быть, это лучше? — Я думаю: да. Но это не истина, если другие делают именно так. — Тебя можно сбить с толку? — Нет! — Вот так твердо? — Да! У Вас не получится сбить меня с толку!. — Будь вправе, я б покорилась тебе, Спитамен! — Не хотел бы… — Странно. Великолепная женщина Вам предлагает себя, а Вы не хотите? Я знаю, что Вы не хотите. А почему? Я деликатна? Я могу это узнать? — Можете. Я любил, и оскорбил любимую. Теперь я попробую сделать все, чтобы вернуться к ней. — Спитамен! Вы меня слышите, Спитамен? У Вас ничего не выйдет. — Может быть. Дайте мне право, платить за свои ошибки, а помощь мне не нужна. Спасибо. — У меня, Спитамен, еще не было близости. Я не познала восторга такого действа. — Но, Вы окликали Ахурамазду? — Что это значит? — Он Вас услышит. Вы станете женой Македонского. — Это Ваш враг! — Враг. Но, не важно. Он — именно тот, «который провезет меня, через дальние страны, до места, где небо сходится с землей». При этом Вам будут заплетать волосы, и растирать тело душистым маслом. — А ты не хочешь меня, Спитамен? — Не хочу. — Это меня обижает! Чего ты смеешься? — Рокшанек, я не смеюсь. Улыбаюсь: твой человек, твой мужчина — он, Македонский! — Все-таки он? Я не знаю его… — Неважно. Но все-таки он! Он покоряет чужие страны, потому, что так хочет. Но получит тебя, потому, что так нужно тебе. — Согласна. О чем ты грустишь? — Мой сын попал в плен. Будь он свободен, он бы тебе показал полмира. — Он молод? Красив? — Да, он красив и молод. — Но он же — не Македонский… — Али! — Спитамен поднялся. Грохнула куча металла на теле: меч римский, короткий, скифский — заточенный с двух сторон… Он весь был в оружии, все гремело. — Али, — сказал скиф, — боль моя: ты увидишь сына. А мне б не хотелось, чтоб ты могла видеть сынишку — Ты не хочешь меня. И не хочешь, чтоб я могла видеть сына. Ты оскорбляешь меня, Спитамен! Спитамен промолчал. Он смотрел на восток. Туда же, сейчас, несомненно, смотрел Македонский. — Как твой сын попал в плен? Спитамен обернулся. Он смотрел на Рокшанек глазами доброго и терпеливого человека: — Хотел спасти мою маму. Усмешка слетела с ее губ скорее, чем она ее попыталась спрятать: — Такую… — сказала Рокшанек и замолчала. — Ты права, ее бы не взяли в плен. Не берут некрасивых женщин. Ее могли просто убить. — Но, — Рокшанек думала вслух, — твой сын способен мне показать полмира? — Способен! — Но он же в плену, а я не могу долго ждать. — Не жди! Он уходил. Воитель, великий воин, он еще был живым. Он проиграл свой мир Македонскому. Он потерял любимую, он ничего уже в этом мире не значил. Никакого страха: он хотел, и не боялся смерти. Хотел одного — чтобы смерть бы имела смысл. Пыль оседала. Всадник долго осматривал мир. По плечам пробежала тень одиноко парящей птицы. Он глянул вслед и выскользнул из седла. Сын Спитамена: отец это чувствовал остро, — рвался на волю. Спитамен был готов прямо здесь лечь в траву, сказать: «Прощай мир!», глянуть в небо и умереть — он боялся за сына. «Откуда, — хотел спросить он, — откуда такая тоска?» Мир хранил тишину, Спитамену никто не мог ничего сказать… АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ Детаферн опустил мешок на пол, вынул оттуда персидский башлык, затем, опустив в мешок обе ладони, вынул голову. Держа за волнистые волосы, развернул ее лицом к Александру. Это была голова молодого скифа. Полуприкрытые веки, печать задумчивости, застывшая в неподвижных чертах молодого лица — по-своему было лицо прекрасным. Легкий, темный пушок на губах — свидетельствовал о его, ставшей вечной, юности. А грустный изгиб рта, создавал впечатление искренности и правдивости. — Кто это? — спросил Александр. — Сын Спитамена! — Нравится голова, но жаль, я не смогу ее долго возить как трофей, как щит Дария… Лисипп! — Я здесь, — отозвался великий ваятель. — Ты сможешь вылить из бронзы такую же точно? Он был в числе самых смелых врагов. — Ходили слухи, что сын Спитамена в рабстве… — Сбежал он, Роксана. И сумел стать виднейшим в числе моих личных врагов. Лисипп! — повторил Александр. — Я сделаю точно такую!* — ответил великий ваятель. — Он тебе не грозит?: — спросила Роксана. — Кто? — уточнил Александр. — Сын Спитамена. — Как? — рассмеялся Великий, — Без головы? «Полмира!...» — подумала женщина. Позавчера еще, это была Али Рокшанек, теперь — Роксана. Мог тот, юный витязь, чью голову увековечит царь, показать полмира. Она поняла Спитамена, и пожалела о том, что это теперь не имеет смысла… ЦАРЬ ЦАРЕЙ И ОТЕЦ — Я завоевал пол-мира, отец, — сказал Александр, когда царь Филипп, давно умерший, явился во сне. — Нет, — возразил он сыну, — ты завоевал весь мир! — Отец, — покачал головой Александр, и склонился ниц, — мы не вправе так говорить. Завоевано много, мне годы нужны, чтобы объехать царство, посещая в нем каждый город. Не хватит отдельного города, всех его зданий, вместилищ, чтобы собрать богатства моих земель в одном месте. Все так. Но мы даже не знаем карты мира. Может быть, там еще столько земель, что на них мое царство — жалкий клочок? — Так может быть, сын мой, — ответил Филипп, — мир бесконечен. Но я тебя старше, и я это знаю: ты покорил в этом мире главное. А остальное — уже не имеет значения. Мир за пределами царства, которым ты правишь, — второстепенен. Он не имеет значения, и не стоит завоеваний. — Не стоит? — Да. Так же, как в женщине. Покоришь ее сердце — получишь все. Хотя ведь не все в ней тебе, в самом деле, нужно. Но ты же получишь, когда покоришь ее сердце. — Завоевал сердце мира… — Да, но думал ли ты, чего может стоить сердце грозного полководца, когда в нем разочаруется женщина? — Женщина? Ты говоришь мне о постороннем, отец! — Нет, ни слова о постороннем, — ответил отец, и сон потерял его облик. — Разочарование… — проворчал Александр спросонья, и постарался выкатить тело из мягкой, теплой во сне, паутины объятий Роксаны. Александр сравнил небо и землю: «Разве это не обожание?!» — усмехнулся он, небрежно, легонечко потрепав, как круп лошади, тело женщины, где-то повыше бедра. Она спала крепко, не зная, что там, у Александра, в душе. Он отстранился, и, наблюдая со стороны, подумал: «Я — это может быть, разочаруюсь в ней. Это будет потерей, но не для меня…». «Али Рокшанек»… — вспомнил он ее прежнее имя, и невидимый кем-нибудь, сам для себя, усмехнулся. НЕ ВОИН, НО ВЕЛИКИЙ ЦАРЬ Гефестион был первым из тех, кто стал падать ниц перед троном. Это был трон великого перса Дария. И по обычаю, персы: от приближенного, до последнего, — вдруг оказался б он здесь, — падали ниц и целовали царские ноги. Но теперь восседал Александр. И он не одернул: «Дружище, Гефестион, поднимись. Мы воины-кровные братья, пред богом и солнцем мы оба равны!». Он мог бы добавить: «Жизнью обязаны мы друг другу! Забыл?» И тысячам, сотням тысяч воинов, был Македонский обязан жизнью. Но он ничего не добавил. С улыбкой отнесся он к церемонности Гефестеона. Жест почитания был добровольным и Александру он вышел по нраву. Царь воздержался, искренность так и осталась в словах за зубами, а новая церемония стала священным долгом. «Уже не воин, но великий царь…» — подумал Каллисфен. Каллисфен стал одним из первых и, кажется, даже — единым из тех, кто не стал падать ниц. Оратор, философ, историк, племянник Аристотеля, он был, разумеется в свите, в числе приближенных к царю. «Не моя в том заслуга, а дяди», — считал он, но оставался, ибо скорее, так было нужно царю и его государству, чем Каллисфену. — Мы с тобою, — шутил Александр, — стоим на одном и том же уровне перед народом. Меня любят и уважают за то, что я способен грозить всему миру; а ты не способен грозить никому, но тебя просто любят. Шутил Александр нередко, но Каллисфен на такое сравнение не отозвался ни разу. — Ты что, — спросил Александр, — не рад? — Нет, — ответил философ. — Всенародной любви и равенству с Македонским? — Да. — Почему? — Потому что это погубит меня. — Каким образом? — Не знаю, но лучшим образом погубить человека нельзя. Александр его не понял. Но главное было не в том, что не понял, а главное в том, что Каллисфен не стал падать ниц. Факт очень плох был тем, что не могли его не замечать другие. Александр хмурился. Впервые он свел брови вместе, заметив, что философ не восторгается смертью Дария. — Каллисфен, это мой триумф! — сказал он. — Дарий не был в числе побежденных, и не был взят в плен, — заметил философ. — Разве то, что мой враг был убит своими, не делает чести мне? — Предательство, без исключений, не делает чести! КАЛЛИСФЕН На прочих великих не походил Александр тем, что в свите, где были стратеги, льстецы и философ, не было прорицателей и толкователей снов. Не оспаривал он, полководец и царь, влияния звезд, но не мог с ним считаться. Звезды велели подумать, дать отдых телу, а вместо обеда дрожала земля под копытами, стрелы свистели, звенело железо, метались в пыли, как в тумане над полем боя, крики ярости, стоны, проклятия богу и всем владыкам. По земле лилась кровь, ноги воинов и копыта коней, топтали, скользили по ней, и сбивали в горячую бурую жижу. — А удивился бы Аристотель, — подумав, спросил Александр, — скажи я ему, что великий воин — тоже философ? — Нет. — Почему? — Потому, что так должно быть. — Значит, отчасти, и ты признаешь, что я — тоже философ? Так вот, Каллисфен, согласно моей философии, факт, что Дарий убит своими, делает честь Александру вдвойне. — И чем же? — Свидетельством в пользу того, что ближайших друзей его я победил еще до того, как сумел поразить мечом. — Друзей, — возразил Каллисфен, — не убивают. Ты победил не друзей царя Дария. — Проклятье! — сказал Александр. Он не сдержался, и тут же об этом жалел. Не надо ему было бы, чтобы философ увидел растерянность в этом великом лице. — Что ты сказал? — очень тихо, не сразу, спросил Каллисфен. Александр был готов подавиться слюной: разве можно было его собеседнику не услышать: «Проклятье!»? Но Каллисфен уточнял. — С тобой, — пояснил Александр, — спорить практически невозможно. — А я,. — Каллисфен думал вслух. Зеленые яблоки глаз его, отошли, за какую-то ширму, в тень. Александр увидел и оценил это. Все было так. — А я, — отвечал Каллисфен, — устал возражать всему миру… — Это из-за меня? — Пожалуй... — Каллисфен, почему мой отец, когда я говорю, что мое царство — клочок во вселенной, мне говорит о женщине? А, Каллисфен? Ведь он говорит посторонние вещи... — Нет, Александр, отец твой не говорит посторонних вещей. — То есть? Каллисфен смотрел Александру в глаза. — А ты хочешь подумать над тем, что спросил, Александр? Или ты хочешь, чтоб я тебе просто ответил. — Нет, — серьезно сказал Александр, — я хочу думать. Каллисфен помолчал, для того, чтобы царь подумал. — Дарий, и ты… — заговорил Александр, — и царь Филипп, вы мне говорите о некотором разочаровании… Так? Каллисфен это выслушал, но промолчал. — Я понял тебя, Каллисфен. Я понял! — угроза, далекая, спящая, прозвучала в голосе, — Ты полагаешь, что я разочаровал покоренный мир? — Нет. Но ты сделал для этого много. — Зачем в этой жизни мне нужен философ? — Вопрос не ко мне! — Извини, Каллисфен. — Александр, я понял вопрос. Ответить? — Конечно. Я жду, Каллисфен. — Над женой ты допустишь насилие. Это бывает. Но над своим же народом подобное не допустимо. Солдаты насилуют вражеских жен: кто об этом не знает? При этом солдат остается солдатом в своем государстве, и гражданином. А будут насиловать те же солдаты, жен у своих граждан, у наших друзей... — Я тут же такому, вот этой рукой, отрублю это место и голову! — Ты дал хороший ответ. Но, — Каллисфен улыбался, — все выглядит мягче и проще. Как в женщине, ты разочаровался в своем народе? Вместо Роксаны, ты ляжешь с другой... — В народе!... — резко сказал Александр. — А в народе: ты в нем разочаруешься, — значит, у тебя его нет! — Нет? А куда же он может деваться? Беглым, внимательным взглядом воина, царь оценил философа. Каллисфен сейчас мог бы в сердцах, нанести удар пикой ли мечом. — Дальше! — потребовал он. — Александр, — сказал Каллисфен, — разочаруется он, твой народ — значит нет тебя. — Хочешь сказать, мой народ меня больше не обожает? — Не так пока, царь. Но… «Мир! — вспылил про себя Александр, и глянул на солнце: а больше смотреть было не на что. — Мир, — сказал про себя Александр, — мной покорен! Так зачем мне теперь философ?» — А! — он вернулся к теме, — Царь — спросил он, — без них ничего не стоит? — Да, без народа он — ничего! «Так зачем мне теперь философ?» — подумал опять Александр. ПИР АЛЕКСАНДРА И ПРАВДА, КОТОРОЙ НЕЛЬЗЯ ДОВЕРЯТЬ Мараканда была теперь центром мира. Царь пировал, и ему целовали ноги. Это нетрудно: склонившись, коснуться губами атласных туфель. «А что тут такого? — смотрел сверху, из трона Дария III, царь Александр, — Я вам подарил целый мир, так коснитесь губами ног, я же этого, бог видит, — стою!». — Каллисфен! — не сдержал себя Александр. Стража услышала и засуетилась: философа надо найти! Александр стал пить вино. «Стану злым! — усмехнулся он. Кулак влетел в золотистого цвета, стеклянное блюдо. Объедки клочками прилипли к лицу человека, которого царь посадил с собой рядом. — А! — сказал тот, — Ничего… — и стал утирать лицо. — Каллисфен! — грянул кто-то из стражи. — Как бога тебя объявляют! — сказал Александр, и посмотрел на атласные туфли. — Я не всегда тебя слышу, — сказал Каллисфен. Он заметил, царь в этом не сомневался, заметил, куда смотрел только что царский взгляд. Каллисфен себе не изменял. Мироносцем в короткой паузе, стала Роксана. — Скажи ему, царь, — попросила она, — пусть свободный и мудрый подданный, скажет нам: а что сделал ты в этом мире? — М-мм… — Александр отвлекся, — А знаешь ли, Каллисфен, о чем эта женщина спрашивала меня ночью? «Почему ты не хочешь Индию?» Я ответил, что это глупо, и пояснил, что идти мне в Индию — не в ее интересах. В новой стране, а она прекрасна, я буду тем же, кем здесь — победителем. Македонский не ходит по миру иначе, как покоряя его. А это значит, я в новой стране, выберу новую женщину. Я постарался, чтобы Роксана меня поняла, Каллисфен. Но, я воитель, и жаль, не могу быть настолько мудрым, как ты — свободный философ и гражданин. Но и женщина, видишь, по-своему тоже права. Возьми, — Александр подал полный кубок вина. Скифский, тяжелый, серебряный кубок. — Каллисфен, я не стал бы просить тебя рассказать обо мне. Мне было бы просто неинтересно об этом слышать. Но пусть же услышат другие. А я постараюсь увидеть себя как отец мой, как ты и «весь мир» — он хотел сказать, но сказал, — как Роксана, — со стороны. Человек себя должен видеть со стороны. Выпей, — чуть уловимо он подтолкнул полный кубок в руке Каллисфена, — Я хочу, чтоб ты выпил, потом обернулся к народу и сказал им, а не мне, всю правду, которую ты, я же знаю, — понимаешь великолепно. В голос скажи, не таясь, хорошо, Каллисфен? Красноречием, кажется, он впечатлил Роксану. Каллисфен поднес к губам кубок. Александр понял, что своего добился, он знал, чем побудил Каллисфена к слову. Он ведь сказал, что человек себя должен видеть со стороны. Каллисфен вернул пустой кубок. Их окружала полная тишина. Каллисфен не так часто как те, кто подобен ему, говорил с народом, но оставался им всегда понят — Македонский, — сказал Каллисфен, — не ходит по миру иначе, как покоряя его. Но, как человек, он способен недооценить себя. Не согласен: не так плох Александр, как думает сам о себе, гражданине и муже. Его сердце способно любить, храня его преданным, верным, заботливым человеком. Воин, которому нет в этом мире равных, он прошел путь посредника и примирителя. Запад, Восток как две части света, стали теперь одной частью великой цивилизации. Время бесследно затянет раны полей, где пролита кровь победителей и побежденных. Меч Александра, посеявший смерть, принес мир на те поля брани, которые раздирали Азию до вторжения. Теперь две великих культуры уже открывают себя друг другу. Этот добрый великий процесс обещает быть долгим и плодотворным. Европа и Азия преисполнены светлых идей и прекрасных порывов. Наука двух цивилизаций получит бесценный дар, а народы — благополучие и процветание. Я сказал все, потому что другие слова, будь они верны, или сомнительны — лишни, ведь Александр на этом не исчерпал себя. Роксана внимательно всматривалась в лицо Каллисфена. Она продолжала слушать: ведь ей речь на греческом переводили. Выслушав, она обратила внимание, что Александр доволен речью. — А он, — спросила она Александра, — о тебе сказал правду? — Да. Он сказал только правду. — Но он же хвалил тебя. Просто хвалил. Нельзя доверять такой правде. — Правде похвальных речей? — уточнил Александр, не скрывая, что заинтересовался мыслью Роксаны. Он был способен ценить интересные мысли. — Да, именно так я хотела сказать. — Каллисфен! — громко позвал Александр, — Ты сказал правду, но это — не вся! — Никому не дано, Александр, сказать всей правды. Она бесконечна, поскольку неисчерпаем сам человек. — Это софистика, Каллисфен, а я хочу ясности. Если мне не дано в этой жизни увидеть обратную сторону луны, то обратную сторону правды, я хочу знать. Говори, Каллисфен, ты способен сказать, и только что убедил нас в этом. — Да, Каллисфен, говори…- несмело, в толпе поддержали царя. — Обещаю, я с уважением выслушаю тебя и приму как должное то, что не будет по нраву. — Ты не мог не стать победителем, Александр! — сказал Каллисфен. Александр насторожился, потому что он знал Каллисфена и угадал, что тот скажет дальше. «Неужели, — он усомнился, — скажет?» — Потому, что в этом заслуга, прежде всего, твоего отца. Он объединил Македонию и Грецию, он создал армию, ввел успешную форму правления в государстве. Он многое сделал, чтоб ты, полный сил и задора еще не растраченных лет, мог повернуть на восток лицо. За спиной колыхалась армада жаждущих крови копий, земля рокотала под сотнями тысяч копыт боевых коней. Слава великих побед и завоеваний сама приходила к тебе, как наследие от отца к своему ребенку. Ты сжег Персеполь, и ничего не построил до нынешних пор. По великим просторам прекрасных земель, ты нес только лишь разрушения. Ты уничтожил две древних культуры: Сидона и Тира, культуры других побежденных тобою народов. Потомок эллинов, ты искореняешь греческое в войске своем и в быту сограждан. А себя окружаешь сановниками из побежденных тобою персов, не замечая, что сам покоряешься им, перенимая их роскошь и лесть. Улыбка печали, ненужной печатью ложится на лица воинов, от того, что ты, на персидский манер, одевая себя, заставляешь теперь целовать тебе ноги. — Довольно! — сухо сказал Александр. Где-то, совсем в стороне, прозвучал вдруг плач младенца, и быстро стих. Тишина воцарилась в кругу онемевших в испуге людей. Показалось: сейчас будет пролита кровь. Но кровь не пролилась. Не будет сегодня кровопролития — его не хотел Александр. — Я стал теперь вдвое сильнее, — сказал Александр, — пусть не увидел обратную сторону луны, но выслушал правду, и полную правду! Я знаю, кто я, и знаю теперь истинное отношение Каллисфена к себе. — Я готов, Александр! — спокойно сказал Каллисфен. — И ты думаешь, я возражу тебе? Нет, ты умрешь, хотя смерть неуместна, когда идет пир. Но, как философу, я возражу тебе мыслью философа: смерть бывает уместна. Смерть — это чье-то слово, и так же имеет значение! Слово за мной, Каллисфен! Уведите его! ВРЕМЯ ШУТОВ И ЖОНГЛЕРОВ Царь не восхитился мужеством Каллисфена. Он подумал совсем не о том. «Чем же Роксане мог так не понравиться мой философ?» — подумал он. «Теперь, — поняла Роксана, — придется найти певцов, жонглеров, шутов и танцовщиц. Аура скованности и неуюта уже никогда не покинет пиры Александра. Только теперь будет вдвое больше слов лести и похвалы. Теперь вдвое чаще мне будут напоминать, что я — царица. Это само по себе придет, уже завтра…». Каллисфеном царь не интересовался. Философ был помещен, сродни зверю, в клетку. Под солнцем, без крыши над головой. Воды ему получалось также, вдосталь: дождливые тучи, блуждая по небу, не знают ограничений. Гефестион не сдержался первым: — Допускаешь ли ты, — спросил он, — что можешь помиловать Каллисфена? — Я просто не думал об этом. А что говорит он сам, чем живет, о чем просит? — Он просит только папирус в свитках, чтобы описывать славу твоих походов. — Давай, пусть пишет. Через полгода, царь вспомнил об этом: — Много ли написал Каллисфен? — спросил он, — Если что-то еще человеку сказать? — Написал он много. Ему еще есть что сказать, но он обовшивел и умирает... — Ни слова не говорил о прощении? — Нет. Он сказал, что прощения будет просить у бога, но никогда — у тирана. — Что ж, «Смерть — это то же слово, и так же имеет значение!» — не забыл Александр свой философской мысли. ПОКЛОНИСЬ БАЗИЛЕВСУ В гостях у царя были скифы. Он говорил с ними о походе на Индию. Это интересовало их тем, что великий завоеватель откроет им путь для набегов. Ведь он же не вечен, а набеги продолжатся и без него. Александр тоже по-своему видел скифов, они ему были нужны, ведь он же поглядывал в сторону Индии. Он решил удивить их. В бассейне царя уступившего место под солнцем завоевателю Македонскому, готовилось зрелище. По правую руку от Александра, расположились скифы, вокруг была, в полном сборе, вся знать. Из глубины дворца доносился утробный рык. Запряженные мулы, выкатили к середине арены повозку с клеткой. Вряд ли кто-нибудь сразу узнал в человеке, который поднялся и вышел из клетки, философа Каллисфена. Он был изможден, беспорядочной гривой венчалась его, некогда гордо посаженная голова. Нагота, показалось людям, совсем не смутила его. Он как бы ответил им: «Что же, располагаю тем, что есть, пусть уже ничего не осталось!». Ему кинули плащ. С достоинством он подобрал и надел его на себя. — Поклонись базилевсу! — сказали ему. Он поднял бессильную руку и отвернулся. Рык повторился и прозвучал уже громоподобно. Слуги — персы, готовились выпустить льва и злили его раскаленным железом. Запахло паленой шерстью. В руке Каллисфен держал свитки. Он очень хотел их сберечь, но им на земле этой, кажется, не было места. На арену вылетел раздраженный лев. Растерялся в начале, громадный зверь. Он не знал неволи: был пойман недавно, и специально, по распоряжению Македонского. Лев пробежал вдоль бассейна, остановился и присмотрелся к миру. Каллисфен обратился к солнцу, которое уже уходило с неба. — К тебе, лучезарный Феб, создающий свет правды, к тебе, величайший из просветителей, я, свободный искатель истины и мудрости, обращаюсь с последним словом! Я ухожу из этого мира, где призывал людей выше всего любить свободу, правду и точную истину. Что мог мне сделать тиран, требующий поклонения, равносильного поклонению солнцу? Я рад, что способен послать свой последний привет, тебе, солнце; что даже плененный и помещенный в клетку, я сохранял гордость свободного ученого, мыслителя и поэта. Мои мысли, моя бессмертная душа, сохранятся в моих записках, переживут меня, и переживут очень многих царей! Пришел день, который свернет в моей жизни последний исписанный свиток. Но дух мой сильней и бессмертней тела и он улетит далеко за пределы небесных светил, и будет недосягаем воле великих и мелких тиранов. Моя слава переживет меня, пусть лишен я отечества, дома, друзей. Отнято все, что может быть отнято, но мои дарования со мной. Тут кончается власть, которая может быть в этом мире. Александр рассерженно глянул на распорядителя зрелища. Тот крикнул что-то рабам и во льва полетело копье. В ярости, раненый в ногу, лев сделал первый прыжок. Второй прыжок сбил Каллисфена. Лев раздавил страшной пастью светлую голову человека. Он рвал в куски грудь и лицо, и, рыча, жевал мясо. Восторгом горело лицо Роксаны. Колыхаясь в такт телу, блистали радужные волны ее драгоценностей и украшений. «Мир, — подумал о ней и себе, Македонский, — покоряют герои, а достанется он таким, как она: ничего в этом мире не значащим, не представляющим ничего». — Гефестион, — сказал он, — рукопись сохранить! Пусть знают, что Александр велел сберечь труд Каллисфена потомкам. Внимательно перечитать и размножить! Он осуждал меня? — Нет, он восхвалял тебя! — Позаботься, — еще раз сказал Александр, — Каллисфен заслужил бессмертия. — А я к нему не стремился — добавил он, но так, что слышать мог только сам. Роксана разобрала его тихую речь, и не хотела бы с ним согласиться. — Они были правы. — Сказал Александр и плотно сжал губы, потом их скривил в усмешке. — Я ничего не сказал Каллисфену, я просто свел счеты, как женщина не очень доброй души. Я разочарован. Да, он не громко все это сказал, но внятно. И воин, который был рядом, услышал его. Но воин не понял, как, в чем именно мог бы разочароваться великий и властный как бог, Александр. ПЕРВЫЙ ШАГ Может, и признавал прорицателей он, но не мог с их наукой считаться. Мир, которым владел Александр, был слишком велик, чтобы верно и просто его было предугадать. Не нуждался он, Александр, в этом Слуги-персы, и эфиопы-рабы, добивали льва, вонзая короткие копья и длинные пики в него, уже красного от лучей уходящего солнца и крови. Начинается смерть, закат победителя и угасание царства — подумал, наблюдая за этим сверху, царь Александр Великий. Не так, может быть, это быстро придет, но придет — первый шаг уже сделан: великий разочаровался в себе. Рейтинг: 0 Отправить другуСсылка и анонс этого материала будут отправлены вашему другу по электронной почте. |
|
© 2008-2025, myJulia.ru, проект группы «МедиаФорт»
Перепечатка материалов разрешена только с непосредственной ссылкой на http://www.myJulia.ru/
Руководитель проекта: Джанетта Каменецкая aka Skarlet — info@myjulia.ru Директор по спецпроектам: Марина Тумовская По общим и административным вопросам обращайтесь ivlim@ivlim.ru Вопросы создания и продвижения сайтов — design@ivlim.ru Реклама на сайте - info@mediafort.ru |
|
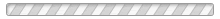
Комментарии:
Оставить свой комментарий