



Рубрики статей: |
Миниатюры из СССР
ПРИВЕТ ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА .
АЛЬКА . Лето. Луг большой, большой, до самого горизонта. И речка. Мы, пацаны по пятнадцать - семнадцать лет, в ней купаемся. Вместе с нами Алька. Ей шестнадцать. Она все время дергает меня за руку: - Юра, пойдем достанешь мне кувшинку. Я отмахиваюсь. Мы играем в догонялки, ныряем и ловим друг друга, а Алька мне мешает. Она настырная, прилипла как пиявка: - Юра, ну пойдем достанешь мне кувшинку. Я киваю в сторону своего друга: - Витьку проси. И ныряю. Долго плыву под водой, пока не тыкаюсь в осоку на другом берегу. Алька тут как тут: - Юра... - Отвали, малолетка, - выведенный из терпения, ору я. Алька на год моложе меня, и если бы мы не жили на одной улице, я бы уже давно надавал ей по шеям. Наконец, ребята вылезают из реки. Пора собираться домой. Я тоже окунаюсь и карабкаюсь по крутому глиняному берегу на верх. Вдруг чувствую, как большой кусок грязи влипает в спину. Оборачиваюсь, посреди реки стоит Алька и смеется. Я тут-же прыгаю в воду, пытаюсь ее догнать, но она хорошо идет саженками. Я возвращаюсь, снова окунаюсь и лезу на берег. И вновь вязкий кусок ила прилипает к боку. Я зверею, гребу что есть силы, аж бурун сзади. Но догнать не могу. Ребята уже оделись и пошли. Выскакиваю на берег, бегу к тому месту, где лежит одежда, и удивленно оглядываюсь. Одежды нет. На другом берегу стоит Алька, показывает мне мои штаны и преспокойно влезает в свое платье. Молча сажусь на траву, думаю, как ее наказать, потому что на берегу догнать легче. Потом прыгаю в воду и мы бежим. Бежим долго. Я уже догоняю. Неожиданно она оборачивается и я вижу глаза. По инерции тыкаюсь в ее плечо. Но глаза... А вечером я рассказывал ребятам, как она меня целовала. Рассказывал с каким-то упоением, во всех красках. Даже не привирал по своему обыкновению, потому что привирать было нечего. Только через несколько дней снова увидел Альку на улице. Шел к ней, растянув рот в дурацкой улыбке. Поравнявшись, она вскинула глаза и я застыл с приготовленными глупыми словами. Столько там было боли, стыда, горечи. Одно слово слетело с ее губ: - Дурак. И все. Прошло много лет. Я давно не живу в том городе. Да и самого дома, в котором вырос, уже нет. Но память часто заставляет собрать чемодан и ехать туда, где прошло детство. И вот однажды, когда не спеша шел по улице, где каждое деревцо было знакомо, увидел идущую навстречу красивую женщину. Помню, еще подумал: до чего хороша. Когда поравнялись, я вздрогнул: - Аля, ты!?. Она удивленно посмотрела на меня. И вдруг в глазах появилось то выражение, которое тогда, много лет назад, перевернуло душу. - Здравствуйте, - тихо сказала она. И прошла мимо. НА ТАНЦАХ . Летом танцы у нас были в городском парке. Громадные деревья, все в грачиных гнездах, заслоняли небо. Сам парк был вынесен на окранину города. Даже днем там было сумрачно и сыро. В выходные дни, по вечерам, только одна танцплощадка из старых прошарканных досок, обнесенных штакетником с облупившейся краской, была освещена. А вокруг, по выражению ребят, стояла "египетская тьма". Хотя мы не представляли, какая тьма бывает в Египте. Еще рядом было кладбище. Ходили мы на танцы, восемнадцатилетние юнцы, которым вот-вот в армию, человек по семь-восемь, все из одного района города. Пришли ооднажды, как всегда гурьбой. Я не очень был показулистый. Девчат немного стеснялся, хотя чувствовал, что нравлюсь некоторым. Взгляды такие, знаете, лукаво любопытные, на себе часто ловил. А чтобы пригласить проводить кого, ну телок телком. Кого и провожал, те сами возле своего дома чмокнут в щеку. И привет. Потом за полверсты обхожу. Стыдно и все. В этот раз решил себя показать. Повестка в кармане. Думаю, хоть какая, может, писать будет. Все веселее служба пройдет. Первый танец пропустил, второй тоже. Решимости набирался. С Галки глаз не сводил, которую месяц назад по случаю пришлось провожать. Она тоже на меня зырк-зырк. На третий танец только тронулся к ней, а ее уже пригласили. Девчонка красивая была. И мне так глазками сделала, мол, что, прохлопал? Я и разозлился. Думаю, что уж, хуже других? Оглянулся вокруг, стоит одна в дальнем углу. За спиной, слышу, ребята смеются. Я и потопал в угол. Подхожу, ничего девчонка, глаза грустноватые. Раскланялся: - Можно вас пригласить? Она вся краской залилась. Голосок нежный, нежный. Говорит мне: - Не могу я танцевать. Ну, я приободрился. Отвечаю: - Я тоже, как медведь. За руку взял и повел поближе к ребятам, чтобы они видели. А как сделали несколько шагов, обмер. Девчонка оказалась хромой. Честное слово, в тот момент готов был сквозь землю провалиться. И тут мелькнула мысль, что, мол, вроде для смеха ее пригласил. Ребята покатываются, а я нарочно пошел кренделя выписывать, своим подмигиваю. Она неловко замотала подолом, сжалась вся. А я уже в раж вошел, морду пугалом сделал и шпарю. И пропустил тот момент, когда девчонка остановилась. Спустился с небес, гляжу, один я дергаюсь. Она на меня смотрит. Твердо смотрит. Потом как что вдруг в ней надломилось. Глаза стали умоляющими, раскрыла губы: - Пожалуйста, проводите меня к выходу. Опустила голову, с ресниц сорвались крупные слезы. Прошептала: - Очень прошу вас. Помню, как под гогот ребят довел ее до выхода, как шагнула она в темноту ночи, а я вернулся к пацанам. Через пять минут бросился ее искать. И не нашел. ВРЕМЕНИ ... КРОВНАЯ МЕСТЬ . В ремесленном училище мы с ним учились в одной группе. На токарей. Он был такой застенчивый, с голубыми глазами и черными ресницами. Лицо розовое. Ну как девченка. Вечно приткнется к стене где-нибудь и думает, думает. А я был какой-то заводной, из драк не вылезал. То сам кого отлуплю, то меня отмантулят так, что везде хрустит. Кличка у меня была Пепа. Но с ним конфликтов не имел. Его вообще никто не трогал. И вот однажды, когда мы, как всегда оравой, ввалились в столовую, я вдруг увидел, что у раздаточного окна он стоит первым. Такого никогда не было. Не раздумывая, я оттолкнул его и стал впереди всех. Он был невысокого роста, полный. А я за один год как-то сразу вымахал и ввысь, и в ширь. Только взял первое, как он протянул руку и поставил тарелку с борщом на свой разнос. Так же спокойно он забрал у меня и второе с третьим. Я ничего не сказал. Но когда вышли из столовой, завел его за угол и ударил кулаком в лицо. Потом колотил его частенько. Да и пацаны, один раз увидев его беззащитность, изощрялись кто как мог. Юность, она жестока. Тем более, время тогда было суровое. У многих из ребят отцы погибли на фронте, а некоторые пацаны вообще воспитывались в детдомах. Короче, послевоенное детство было не сладким. К нему же часто приезжали родители. Не знал я, что они были не родные, что взяли пятилетним пацаненком тоже из детдома. Окончив училище, мы разлетелись кто куда. По направлению я попал в город Бийск, что на Алтае. Но вскоре переехал работать в Людиново Калужской области. Отработав какое-то время на большом заводе, решил отправиться в Сухиничи. Не понравилось мне в громадном цеху, где на карусельном станке обтачивал колеса для вагонов и тепловозов. Да и женщина, воспитавшая меня, ставшая матерью, давно звала домой. Одиноко ей было в пустом доме. Но долго все равно не выдержал. Через год уже учился в областном учкомбинате на шофера. Дрался и там постоянно, оправдывая данную городскими верховодами кличку Пепа. Королевал, было дело. Чего уж там. Домой ездил не часто из-за постоянной нехватки денег. И вот тащусь однажды, уже осенью, перед окончанием курсов, с чемоданом по вокзалу, голодный, с незажившими ссадинами на лице, и верчу головой в разные стороны, ищу, где бы поесть и купить чего-нибудь матери на скалымленные на разгрузке машин с овощами деньги. Думаю, сыном я был внимательным. Вышел на привокзальную площадь, стал и стою. Вдруг на плечо легла тяжелая ладонь, развернула едва не вкруговую и сразу уши заложил густой бас: - Пепа, друг, сколько лет, сколько зим. Я задрал голову кверху и оторопел. Это был он, Сашка Будаев. Тот самый тихоня, которого колотил в училище. Но теперь надо мной возвышался красавец, косая сажень в плечах, на полторы головы выше меня. Я стоял и не знал, что делать. А он, добрая душа, мял и тискал по медвежьи, вспоминал, как вместе учились. Рассказывал, что едет на Север, на большую комсомольскую стройку. И смеялся, смеялся, от всей души радый такой встрече. Мимо шли люди, девчата откровенно заглядывались на него. А передо мной плавало его лицо. Все в крови. Так стыдно было за прошлую жестокость, что не знал, куда прятать глаза. А он уже тащил в столовую. Смеялся и хлопал по плечу, словно всю жизнь я был его лучшим другом. ЖЕСТОКОСТЬ . Жили мы вдвоем с матерью в старом маленьком домике, который просто утопал в громадных тополях, кленах, березах, посаженных вокруг него давно. Наверное, деревья эти привезли тогда, когда закладывали фундамент. Росли здесь еще и дубок с елками, пышные кусты розы, жасмина. В палисаднике цвели георгины, ночные фиалки, еще какие-то цветы, летними вечерами от которых кружилась голова. За домиком был сад. Чего там тоже только не было. Вишни, сливы, яблони, груши, малина, смородина. В общем, не сад, а ботанический разгул. Между деревьями мы сажали картошку и другие овощи. Сколько было скандалов с соседями, которые, каждый со своей стороны, подчистую обирали росшие возле их заборов фруктовые деревья, вспоминать больно. В ответ на укоризненное материно замечание только и слышно было - куркули. А для нас это было все. Мать пенсии не получала, несмотря на то, что ей перевалило за шестьдесят. Такой был человек. Мужа убили на фронте, где-то в Прибалтике. Но сначала в революцию шагала по Москве с красными флагами - работала там на текстильной фабрике. Вышла замуж за народного судью. Вскоре его направили на Кубань. Судил попов, бандитов, кулаков, пока пуля не оборвала его жизнь. И мать приехала в этот городок, вторично вышла замуж за военного комиссара. Недолго пожили, как началась война. В сорок четвертом пришла похоронка: "Погиб смертью храбрых в боях за Родину". И уже после войны привезла в дом безногого старика, бывшего попа. А потом забрала из лагеря для политических и меня, своего внука. В революцию все перемешалось так, что самого себя бы не потерять. О том, что у меня есть настоящая мать, а дед не безногий, а тот геройский судья, я узнал, когда исполнилось лет десять. От соседей. Настоящая мать жила недалеко, но с другой семьей. До этого часто видел фотографии окруженной детьми молодой женщины. Никто не говорил, что они мои младшие братья и сестры. Когда узнал правду, взорвался. Я хотел туда, к ним. Я спал и видел, как играюсь с ними. Мать плакала. Вскоре дед умер. Пчелы, которых он держал, умерли тоже. Пенсия его кончилась, и мы стали жить только садом. Поэтому к деньгам отношение было самое бережное. Если мать давала рубль на кино, вместе с другими ребятами я всегда старался пробраться с черного хода, или через чердак. А рубль приносил обратно. Благо, кинотеатры тогда располагались в старых зданиях. Не как сейчас, ни с какого бока не подберешься. В тринадцать лет закончил семилетку, стал готовить документы для поступления в ремесленное училище. И тут подвернулся случай заработать. Недалеко от речки, от того места, где мы всегда купались, работали геодезисты. Однажды один подошел к нам и спросил: - Ребята, кто хочет заработать? Мы молча смотрели на него. Тогда он повернулся ко мне: - Ты хочешь? Работа несложная, планку переставлять, куда я покажу. Я пожал плечами и пошел. Выдали высокую планку с цифрами. Полмесяца носился с ней по лугу, а потом получил расчет - двести рублей по старому. Как бежал домой, как сжимал в кулаке эти деньги. И как обрадовалась мать. А вечером на столе появились колбаса, конфеты, печенье. И торт. Все это я уплетал за обе щеки, и не терпелось взглянуть на мой заработок. Потом, когда не получилось поступить в ремесленное - туда брали с четырнадцати лет - я получал зарпалату ежемесячно, до копейки отдавая матери. Дело стало привычным. Но тогда... До сих пор не пойму, почему не подумал, что богатства куплены на мои рубли. Я подошел к вазе, куда мать их положила, но там купюр не было. Обернулся к ней: - Ма, а где двести рублей? Она улыбнулась: - Да вот же, на столе. Я тупо уставился на стол. Непонятная злость сдавила грудь: - И это все деньги?.. Мать удивленно посмотрела на меня. А я уже кричал, яростно махал руками: - Я работал, работал, а ты их спрятала. Схоронила от меня. Ты мне не мать. Я уйду от тебя к своей матери. У матери задрожало лицо. Тяжело опершись о стол, она поднялась, подошла к сундуку, открыла его. Я видел, как тряслись руки, но в этот момент ее ненавидел. Она вытащила новую рубашку, протянула мне. По морщинам текли слезы. Рубашка выпала из рук на пол. А я продолжал зло смотреть на нее. Никогда не прощу себе этой жестокости. СЕЛЬСКИЕ ЭТЮДЫ . ДЕЛО РУК ТВОИХ . Володька сидел на краю поля и смотрел на комбайны, которые шли по ровным строчкам скошенной в валки пшеницы. Первый раз на уборке, все интересно. Но главное - комбайны. Там, на заводе, он собирал их своими руками. И когда увидел здесь, за сотни километров от дома, даже обрадовался. Вроде как опять в кругу друзей оказался. Родным пахнуло, до мелочи знакомым. Вчера не утерпел. Только вылез из автобуса, который привез их из Ростова, подбежал к комбайну, похлопал по крашеному боку. Сегодня чувства другие, волнение какое-то. В цехе над тем, что делает, задумывался не особенно. Вставил десяток болтов, накрутил десяток гаек - и к следующей машине. За сутки завод их выпускает сотни. Конвейер ждатьне будет. А что эти "Нивы" хлеб убирают, как-то не доходило. И вот теперь, глядя, как идут они мощным рядом, он вдруг почувствовал всю силу и доброту этой машины. Увидел, как тяжелое зерно падает в кузова, как подбирая дорожки пшеницы, оставляет за собой "Нива" чистое поле. Володька будто впервые открыл для себя назначение комбайна. И вдруг испугался. Испугался за все сразу: и за "Ниву", и за уборку, и за себя. А вдруг она поломается? А вдруг тот болт или та гайка, которые еще в цехе были недокручены, отвалится? И останется стоять стена хлеба, роняя золотые зерна-слезы на землю. Как раз в этот момент остановился один из комбайнов. Володька бросился к нему, Из кабины неторопливо вылез мужчина и стал возиться с подборщиком. - Сломалось, да? - спросил Володька, быстро оглядывая винтообразную трубу с шипами. - А ты что, летучий ремонтник? - оглянулся комбайнер - Да нет, - неопределенно повел плечами Володька. - А-а. Из городских, что ли?- комбайнер насмешливо оглядел его щеголеватый наряд - Да. Я на заводе работаю, где эти "НИвы" собирают, - сразу решил признаться Володька. - Вот оно как! - поднялся с корточек мужчина. - Ну, брат, тогда здорово, - протянул он руку. - А я тут, понимаешь, хочу немного подборщик поднять. С комбайном все в порядке. Мы перед уборкой специально их готовим Через пять минут все было готово. А через некоторое время рабочий и колхозник делали одно общее дело - убирали хлеб. ДВЕ ПРИГОРШНИ ЗЕРНА . В мирном грохоте комбайна послышался негромкий стук. Силантий Иванович сразу насторожился. Но стук пропал так же. Как и возник. Еще с полчаса комбайнер крутил головой в разные стороны, пока не убедился, что все нормально. "Цепь подборщика что-то подхватила и выбросила, - подумал он, выводя агрегат на новую загонку. - Может, проволоку какую". Хлеб брали на корню. Комбайны шли друг за другом, пожирая густую пшеницу и оставляя после себя частые копны соломы. Пголезли через бугор. Недалеко открылся ток. Громадные вороха красноватой пшеницы лежали будто слитки червоного золота. Между ними носились машины. Одни загружались и пылили по далекой дороге на элеватор. Другие, наоборот, разгружали на нем привезенное из-под комбайнов зерно. Ток был похож на муравейник. Оттуда вырвалась новенькая машина Кольки Авдеева. Проскочив метров двести по прямой, он свернул с дороги на стерню и запрыгал по кочкам к комбайну Силантия Ивановича. Бункер у того был почти полный. Но Силантий иванович показал рукой на передний комбайн. Тот давно сигналил фарами, показывая, что ждет машину. Колька поехал туда, забрал бункер пшеницы и вернулся, подставив кузов под шнек. Тугими струями зерно заплескалось на солнце. Колька продернул чуть вперед, затем назад, разравнивая его покузову. Потом высунул лохматую голову из кабины и оскалил белые зубы. Силантий Иванович улыбнулся в ответ. Зерно уже кончалось. Колька загородился стеклом от летящей мякины и, включив сразу вторую скорость, поехал к дороге. Из шнека на стерню упали два последних жидких всплеска пшеницы. Когда в следующий раз Колька прикатил к комбайну и опять показал белые зубы, Силантий Иванович молча, не улыбаясь, высыпал ему в кузов из фуражки пшеницу, и так же молча включил шнек. Тяжелыми волнами спелое зерно разбежалось по кузову мощной машины. ЗОВ ЗЕМЛИ . Санька стоял у укалитки своего дома и невесело смотрел вслед одноклассникам, уезжавшим в город сдавать экзамены. Очень хотелось поехать с ними. Но через полторы недели уборка. Самому перед собой было бы стыдно, если бы равнодушно отнесся к заботам отца и старших братьев перед началом жатвы. И он остался. ... Комбайн готовили вдвоем с Митрофанычем. Старый механизатор работал еще на "Фордзонах". С ним было легко и одноклассники на какое-то время забылись. Но когда выехали в поле, Санька вновь вспомнил о них. Было очень тяжело. Только умоешься вечерней росой, как уже пришла пора ополаскиваться утренней. Перед глазами ползло и ползло желтое поле. И не было ему конца. Не сразу все стало привычным. Не сразу увидел вдруг голубое небо, длинные пирамиды зерна на току и величественное безмолвие пшеницы, покорно падающей на подборщик. А когда все это воспринял, в грудь забралась радость, да так там и осталась. Было приятно сознавать, что ворохах пшеницы на току много и твоих тонн. Как равный садился он за стол с механизаторами, ел густой борщ, твердо зная, что заработал его. Знатные комбайнеры делились сним своими радостями и сомнениями, советовали, как лучше провести уборку полеглых хлебов. Теперь Саньк4а не бросал недоеденный кусок хлеба, старался взять столько, сколько нужно. Он узнал ему цену. Санька понял, что на всю жизнь его место здесь, на поле, на котором растет такой нужный всем людям хлеб. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАДА . Эта жатва начиналась для Антона Петровича так-же, как и в прошлые годы. Так же не спал он всю ночь перед первым выездом в поле, так же нервничал, трогая сырой, еще не обсохший от утренней росы под ранним солнышком колос. И боялся только одного: как бы не грянули затяжные дожди. За комбайн не боялся. Вместе с Мишкой, недавно пришедшим из армии, перебрал его отвинтика до винтика. Мишка - сын его друга, с которым вместе на фронте были. У самого-то трое дочерей. На фермах да в бухгалтерии работают. Мишка чертом крутится, с комбайна глаз не сводит. Уж очень хочется ему самому поработать комбайнером. ... Страда набрала уже полную силу. Вовсю жарило солнце. Антон Петрович заворачивал свой комбайн на пятый круг, выдав с каждого по два бункера зерна. Хлеба стояли густые, плотные. Точно литые. Тяжеловато давалась ему нынешняя уборка. Все чаще перехватывал он тревожные Мишкины взгляды. Помощник порывался взять управление комбайном в свои руки. Но старый хлебороб передавать бразды правления и не думал. Не помнил такого Антон Петрович, чтобы с утра, не успев залезть в кабину, чувствовал он, как ноет сердце. Завидовал ровному стуку мотора и невольно подсчитывал дни, оставшиеся до конца страды. "Война проклятая, - горько думал он. - Сколдько силов отняла". Вспомнил, как о этим самым полям шел с боями. Сколько тут пролили крови друзья. И сам он был здесь ранен. Оттого, думается, и пшеница растет густая. Потому и сам после войны пустил тут свои корни. Сердце совсем сдавило. Куда-то в сторону перед глазами поплыл хвост из белых пушистых семян сорняков. Будто комбайн обмела метель. Антон Петрович заглушил двигатель и вылез из кабины. Стало полегче. И тут он сзади увидел островок неубранной пшеницы, помятой колесами комбайна. Опустив голову, рядом стоял Мишка. "Ну вот и все, - как-то спокойно подумал Антон Петрович. - Отъездился я. Мишкина теперь очередь. НАВЕРНОЕ , ЭТО НАША ЖИЗНЬ . СЕСТРЫ . Ну что, Наташка, сходим к сестричке, а? Пока мамка на работе? Смеется Наташка. А что ей? Годи месяц всего. Пойдем, так пойдем. Смотрит, как папка ей ноги в ползунки пихает, и еще пуще дрыгает ногами. - Гу, гу, - Наташа на стол глядит и пальчик подняла. - Что? А, рузырек. Не забуду, не бойся. Сегодня у твоей сестрички день рождения. Десять лет. А вы еще ни разу не виделись. На улице солнце. Щурится Наташка. Откуда ей знать, что у нее есть сестричка, а у папки еще есть дочка. Пуговицей занялась. Подергала, подергала, и в рот. Но пуговица сидит крепко. Не дотащить. Трамвай подкатил. Народу много. - Подарок же надо купить, - папка на другую руку пересадил, рот слюнявый вытер. В магазине много всего. Игрушки, портфели, духи, платья женские. - Пойдем, где картины. Картин тоже много. Большие, темные. А сбоку маленькая. На ней мальчик конопатый. Фуражка с красным околышем. Не рисованный. Наклеенный. Наташа руку тянет. Красивая фуражка. - Вот и возьмем. И цветы еще, да? - папка не очень веселый. Рассеянный. Пузырек соской в рот сунул, а поднять забыл. Молоко не льется. Покормил, значит. Но Наташка в крик. Поели. Цветы купили. И на троллейбус. Тут место уступили. У самого окна. На площади сошли. Дом высокий и ребятишки кругом бегают. - Мальчик, подойди сюда, - папка головой кивает, руки заняты. - Позови, пожалуйста, Юлю. - А где она живет? - На двенадцатом этаже. - А, знаю. В одном классе учимся. - И убежал. Папка волнуется, руки вздрагивают. - Пойдем, доча, на лавочке посидим. За угол зашли, а тут Юля. Зазря парнишку посылали. Увидела - и бегом: - Папка-а! Выросла как. Темные волосы кольцами летят. Подбежала и как споткнулась. Радость сошла, глаза большие. - Ну, здравствуй, доченька. Молчит. Потом: - Пап, это кто? - Наташа, сестренка твоя. - Сестренка? - удивление и слезы вроде как наплыли. - Ты что, Юля? - Моя сестренка? - Твоя... Пойдем на лавочку сядем. Сели. Наташка из рук рвется. Вообще играть любит, а тут как нашло. Смеется, за курточку сестру схватила, тащит к себе. А у той глаза в обиде еще плавают. Но интерес появился. Наташку острожно взяла. Разглядывает. Заулыбалась. И вдруг: - Пап, а она как я, правда? - Правда, доча. - Вот, и носик курносенький, и глазки голуьые, и волосики темные. Я такая маленькая тоже была. Правда, пап? - Правда, Юля. На землю поставила, Наташка во все стороны валится. - А она ходит? - Ходит. Это на ней много надето. А дома вовсю. Подружки набежали, давай Наташку тормошить - ходить учат. Та смеется. Но к Юле тянется больше. - Юля, иди сюда, - папка улыбается грустно, старшую позвал. Подарок развернул, поздравил как положено. Смотрит внимательно. На Наташу мельком глядь-глядь. - Как живешь, доча? - Хорошо, папа. Мама замуж еще не вышла, - и глаза в сторону. Раньше не так. Скажет, и в лицо глядит. Ждет. - В школе одна тройка. Стишки сочиняю. Даже песню придумала. - Хорошо. А что в гости не приходишь? За три года ни разу. - А сам тоже только по праздникам, - на сестренку смотрит. Блестят глаза. А та раскричалась. И пузырек не помогает. Спать пора. Разве посидишь? А и говорить, вроде, не о чем. Слова пропали. - Пойдем мы..., - неловко как-то стало. Руки опять дрогнули. Поправился. - Пойду я. Спать Наташка хочет. Приходи, доча. - Приду, папа. - Ждать будем, - поцеловал. У старшей слезы вот-вот сорвутся. Повернулся к остановке. Холодок по спине. ... А через недельку вроде кто в дверь стукнул. Робко так. Открыл. На пороге Юля: - Пап, Наташа дома?.. ОДНА НОЧЬ . Неожиданно Василий затеял развод с Нюркой. Жили вроде мирно, хорошо. И вдруг развод. Нюрка - баба смирная, для хозяйства - клад. Кругом у нее чистота и порядок. Сама - носик курносенький, глаза - бирюза с грустиночкой. Василий наоборот - огонь. Высокий, худой. Темные глаза играют. До женитьбы был первый гармонист. Девки с ума сходили. Как женился - все. Трактор долго тарахтел у дома и заглох. - Уходишь, значит?... - тихо спросила Нюрка и опустила голову. - Да ну ее к черту, жизнь такую, - отвернулся к окну Василий. - С тобой как в могиле. Скукота. Нюрка заплакала: - Куда пойдешь-то? - испуганно вздрогнула. - Отца - матери нету. - К Хандренку пойду. Хата пустая. - Пьет он. - Пускай пьет. Не помеха. Нюрка опять голову книзу, плечами задрожала: - Уходишь, значит! -повторила снова. - А-а, хватит, - кулаком по колену и на улицу. Только пыль хвостом. А вечером - гармонь за селом. И Хандренок у магазина: - Любка, две белых давай. Жилец новый у меня. Любка баба толстая: - Хы, обрадовал. Сорок лет, а ума ни на грош. Васька, что ли, Нюркин? - А хоть бы и так. - Другой бы не пустил, а тебе лишь бы с кем выпить. На, чтоб ты поперхнулся. - Не поперхнись ты, когда тебя с Кирюхой накроют. - Ах ты... кобель шелудивый... Но Хандренок уже далеко. Темно. Со стороны автопарка еще летят удары молотка. Хлеб только убрали. Пахнет хлебом. Соловьи в посадке. Под копной шорох посильней мышиного. Погодя гармошка выдохнула, вроде как устала. Звезды крупные и месяц серпиком. - Любый ты мне, Вася. Ох, как любый! Радость ты моя первая. - Отодвинься... Хандренок скоро придет - По мне хоть сам черт... Тамарка красивая. Волосы распушила. Глаза сабельками пых-пых. Но раньше была лучше. Подносилась. А ласкает как! Нюрка ласкаться не умеет. Уткнется в подушку и сопит. Но Нюрка хорошая. А Тамарка красивая. Первая любовь. Все Нюрку побить грозилась. Проходу не давала. От посадки тень отделилась: - Вась, где ты?.. Хандренок. - Здесь мы. - Тамарка соломой зашуршала, поближе приткнулась. - Чего один? - Отказала Валюха. Хандренок упыхался. Прет, как от сивушной бочки. И лучной запашок. Заедал. - Пять лет мозги бабе сушил. - Тамарка стакан взяла и бутылку туда - буль буль, буль, буль... - На, Васенька. Водка теплая. Не лезет, отрыгается. Жарко облепила Тамарка, шепчет что-то. Оттолкнуть? А в душе червячок еще копошится. По иному все виделось. Ан нет, надломилось видение. Не так как-то. - Перестань. - Ты чего, Вася?.. Отвернулся в солому. Тяжело. Встал. Гармошку под мышку. - Пойду. - Вася!.. Не глянул. За посадкой асфальт речкой под луной сбоку села. Дома чернильные, крыши серебрятся. Тихо. Тропа через коровники к пруду. Вода усохла. Осока звякает. Шаги, вроде. - Вася!!! - Тамарка шею обвила, чуть не в голос. - Люблю тебя. Ждала, ждала. Замуж не выходила. Ва-а-ся!.. Встряхнулся. В голове колокольцы. - Домой надо. Вставать рано. - Ушел же ты. - Не-е, поругались маленько До дороги дошли. Как в серебро окунулись. - Здесь буду ждать. Не пустит, ко мне придешь. Крылечко фонарем облитое. В занавесках свет. Стук - стук. Свет погас. Стук - стук. Дверь скрипнула. - Кто там? - голос тихий. - Я это. Открой. Молчание. Вроде как выдохнула: - Не, Вася. - Что так?.. - Не знаю... Потом поговорим. Брякнул спичками. Закурил. С крыльца шагнул. Заря занимается. На дороге Тамарка светом оделась. Красивая. И... чужая. Махнул через плетень в кабине трактора рассветы встречать. Пока Нюрка не простит. СОТНЯ . Теща с тестем приехали в город из деревни за день до свадьбы. Войдя в маленький флигелек, который Сашка с Ниной сняли неделю назад, они молча остановились посередине. Занятый последними приготовлениями, Сашка обернулся не сразу. В эти дни к ним приходило много кого: и девчата из Нинкиного общежития, и друзья. - Мама, - тихо сказала Нинка. Сашка вздрогнул, быстро обернулся. Посреди комнаты стояла высокая, лет пяьтидесяти, женщина в шерстяном костюме. Худое, с кавказскими чертами, лицо, строгие глаза, в руках небольшая хозяйственная сумка. - Живете, - сказала теща. Взгляд ее медленно прошелся по Сашке и ударил по дочери. Нина вспыхнула, торопливо прижала руки к груди. Сашка растерянно оглянулся. Из-за спины тещи выглянула подруга Нины Ленка. "Привела, - подумал. - Договорились же, если приедут, встретить в общежитии. Ни телеграммы, ни письма. Как кирпич с крыши". - Свадьба-то зачем? - спросила теща, не сводя с дочери железного взгляда. Тесть негромко кашлянул, поставил сумку в угол. Проскрипел сапогами к Сашке, дохнул винцом. Улыбнулся: - Звать-то как? - Погоди, - перебила теща. - Я хочу знать, за что моя дочь свою честь продала. - Да будет тебе. Поздно теперь об этом говорить, - махнул рукой тесть. - Поздно? Всхлипнув, Нинка молча кивнула головой. - Значит, скоком. Ни отца-матери не спросила. Галопом. А Илья в армии, - развязала большой узел. Посыпались письма. - Рви, все до одного. Коли сумела десять лет на три месяца променять. При нем рви, - указала на Сашку... Свадьба горела синим огнем. Ванька Липецкий, маленький, вертлявый, с полотенцем через плечо, крутился колесом. Трехкомнатная квартира, которую предоставил товарищ по работе, ходила ходуном как корабль в бурю. Изрядно подвыпившие гости за столом повели разговоры посвободнее. - Невеста-то хороша. Маков цвет. - Два и свадьба хорошая. Жалко, Сашкиных родителев нету. Для полного комплекту. - А он детдомовский. - Как? - А так. И свадьбу сам организовал. Са-ам. Истинный Бог. Девчата Нинкины малость помогли готовить - и все. - Ну, молодец. Работяга. Заиграли цыганочку. В середину меж столов выскочила толстая Ленка. Подняла круглый подбородок, повела плечом. Но до цыганки далеко. К ней, заплетаясь сыромятными ногами, вышел длинный, худой Митька из модельного цеха. И упал. Его увели на кухню под кран. На Сашкино плечо завалился пьяный тесть. Заплакал: - Я, сынок, самую старшую тебе отдаю. Самую лю... любимую. Там еще трое... Всех их Нинка подняла. Мы с матерью на работе, а она с ними. Нина потянула его за рукав: - Батя, ну хватит. Сядь. - А я, доченька, правду говорю. Это мать у нас, рупь не выпросишь. На шв...шв...вшивой козе подъезжать надо. Вся жисть как в цирке. И бьет. Как выпью, так бьет. - Ладно, отец, потом поговорим. - Сашка оторвал руки от плеча. - Поговорим, так поговорим, - отодвинулся тесть. - А лучше споем. В честь дочери моей любимую споем. Как на фронте: " Три танкиста, три веселых друга...". Песню уже подхватили. Голос тестя утонул в громовых раскатах. А тот, довольный, потянулся через плечо к стакану с вином. - На, - Сашка подал было рюмку с водкой. - Не-е, - тесть сморщился. - Дорогая. И толку мало. Бормотухи-то гахнешь, мозги и очумели. Дешево и... Пока донес до рта, всю спину облил. Сашка только плечами дернул. Не ругаться же7 Один черт не поймет. Обидится еще. А тесть уже мокрыми губами к уху прилип: - Теща-то Нинку хотела за Илюху выдать. Как в армию уходить, он Нинку заманул в дом, и снасиловать хотел. Чтоб, значит, ждала его. А она в окно..., - он тяжело посмотрел на тещу и наклонился опять. - Подговорено было. Моя дала согласие. Одного поля ягоды, что соседушка раскоровенная с соседом на сносях, что моя. А дочка-то напрочь сурка того отмела. Не бывать этому! - сказал он громко. Нина вздрогнула, тревожно глянула на Сашку, на отца: - Батя, что ты говоришь-то? - А как есть, так и говорю. Богатые соседи-то. Потому и хотела отдать за этого жеребца. - Отец! - Молчи, дочка. Она и остальных уже определила. У кого машина, да у кого ковры. Ничего, они и те подрастут, сбегут, - и зашатался на другой конец стола. Выговорился. Нинка заплакала. Сашка легонько обнял, в щеку поцеловал. - Горько! Горько!!! - гости как только этого и ждали. Пришлось в губы, покрепче. Щеки мокрые от слез. - Ну, ладно, ладно. Чего ты? Свадьба, а ты как эта... - Да я ничего, - всхлипнула. - Он хороший у нас. И сварит, и постирает. Только пьет. За это они и ругаются. Подбежала подружка: - Слушай, Нин, чего твоя мать как стала у стенки, так и стоит. Злая какая-то. Ну, всю свадьбу портит. - Не болтай, - оглянулся Сашка. - Мать же. Жалко. - Жалко, да не так, - сказала и пошла. А тут уже сваха поднос понесла по кругу. Кидают, кто сколько. От бригады особый подарок. От себя тоже не скупятся. Сашка простой, всем друг. Под конец теща от стенки оторвалась, подошла к подносу. Оглядела кругом. Гости притихли. - А это от нас с отцом. Сто рублей. Пусть молодые извинят. Сколько можем, - и опять к стенке пошла. Тесть снова сзади появился. Забормотал: - Брали, вроде, больше. Не в городе живем, все свое... Сашка рукой махнул, в деньгах ли дело? Жену молодую привлек к себе, не налюбуется. А она то стыдом зальется, то счастьем. Отгуляли свадьбу, проводили тещу с тестем. Хорошо зажили. Ребенок родился. И вдруг бац, телеграмма от тещи: "Саша, Нина, вышлите сто рублей. Поросенка покупаю. Отдам через месяц". Что ты будешь делать? Сашка затылок почесал. Зима на носу. Дров не покупали. Себе кое-что надо, ребенку. Нина молчит. "Ладно, подумал, обойдемся пока. На месяц же просит". И отослал теще сто рублей. Месяц прошел, второй. От тещи ни слуху, ни духу. И вдруг понял Сашка, зачем она сто рублей попросила. Засмеялся. Дело-то разве в деньгах. ЛЮБОВЬ И МОРЕ . Море лизало пляж. Оно было голодным. Который день не было шторма и глубины переваривали давно обглоданные остовы разложившихся кораблей. Объеденные рыбами и крабами, покрытые скользкими морскими водорослями скелеты людей, этих ничтожных тварей, которые придумывали различные способы, чтобы выловить еще уцелевшие кое-где косяки рыб. Море хотело шторма, чтобы напиться свежей крови. Оно просило ветер поиграть с ним. Но ветер влюбился в солнце. И теперь они, бесконечно счастливые, ласкали друг друга, не обращая внимания на море, которое дрожало от ярости мелкими волнами. Оставалось одно - ждать зимы. И тогда, отвернувшись от остывшего солнца, ветер придет. О, как море ненавидело этого изменника, как оно мечтало проучить его, когда он вернется. Оно вложило бы в него всю свою злость, всю свою страсть, и он задыхался бы в соленых объятиях. Оно не простило бы ему тех редких минут, которыми он дразнил все лето. Нет, оно не простило бы ему этого. А пока море голодными глазами глядело на кирпичи пансионатов, то лежащие боком, то поставленные торцом вдоль узкого берега, и тихо ненавидело и их. Там жили люди. Ежедневно, толпами, приносили они свою грязь, которую приходилось слизывать с их вонючих тел. А они все несли, несли. Несли. И только в диком любовном танце с ветром можно было их отогнать, этих назойливых муравьев. Тогда бы они не дотронулись даже пальцем до чистого, светящегося насквозь девственным светом, тела, тогда бы они не увидели даже ничтожной доли той тайны, которую оно берегло в своих глубинах. Вместе с ветром бессовестное солнце уходило спать. Лучи его, безжалостно издевавшиеся днем, устали и скользили по телу моря равнодушными, полусонными взглядами. Море за день тоже устало от борьбы, и теперь мечтало хоть этот коротенький отрезок времени, который подарит ночь, отдохнуть и остудить обожженные волны нежным дыханием ночной прохлады. Оно округляло дерзкие днем, покрытые от бешенства пеной, короткие как мечи волны в большые валы, которые медленно и сонно баюкало о пустынный берег. И только галька продолжала недовольно греметь, потому что и она утомилась от игры с морем. Ей хотелось не перекатываться непрестанно и бесцельно, а спокойно полежать, обдумать свою жизнь, которая за миллионы лет так и осталась кругла и однообразна. Она тоже выдохлась от постоянной зависимости от моря, от солнца, от людей. Но вдруг море вздрогнуло до самых глубин. Навстречу друг другу по берегу шло два человеческих тела. Полууснувшее солнце тоже приостановило свой бег. Томными лучами поиграло в длинных волосах одного, скользнуло по гордому профилю и широким плечам другого. Довело их друг до друга и медленно и спокойно начало угасать. А море в бешенстве бросило на них вал. Но он докатился лишь до ног и, злобно шипя, цепляясь за каждый выступ, сполз обратно. "О, боги! - вскрикнуло море. - Когда же придет мой час. Когда я смогу утолить свой голод и жажду любви." Крик этот услышали спавшие на волнах чайки. Они резко взмахнули крыльями, сделали круг и опять опустились вниз. Два тела слились в одно над самой водой. Долгим был их поцелуй. Море дрожало от злобы и ничего не могло сделать. Лишь в самой глубине, в пучине, поднимались тысячи тонн ила. Но это было только в глубине. На одном человеческом теле, под сиреневым ветром платья, в почти угасших лучах солнца, светился купальник. " Значит, они войдут в меня, - злорадно подумало море. - Я сделаю все, чтобы они остались у меня навсегда." Меж тем, уста двоих разъединились. - Как долго мы не виделись, мой милый. - Да. - Я люблю тебя. Я люблю тебя всю жизнь. Моя любовь больше, чем это море. - Я люблю тебя тоже. Твои глаза, твои волосы... Ты вся во мне. Я люблю тебя больше, чем Земля любит Солнце. - Как хорошо, мой милый. Погас последний луч солнца. И звезды уже высыпали на небе. Это глаза неба. Они смотрят на нас. - Пусть. Солнце опустилось в море. А звезды любят месяц. Им не до нас. "Им не до вас, - зло шипело море. - Если бы я только могло, я проглотило бы солнце вместе с вами. О, если бы я только могло!" - Милый, на нас смотрит кто-то еще. Большой и злой. Мне страшно. - Не бойся, я тебя никому не отдам. Наверное, ты боишься моря. Ночью оно полно тайн. - Да, я боюсь моря. Как смешно. И страшно. Мне кажется, оно из пучины глядит на нас огромными газами. - Пойдем вдоль берега. - Нет, пойдем к нему. Оно меня тянет. - Это просто влечение таинственного, неизведанного. Босыми ногами два тела ступили в воду. "О, миг блаженства, - вскричало море. - Идите ко мне. Ближе, ближе... Умоляю вас." Два тела сделали еще два шага. - Нет. Я боюсь, уйдем отсюда. "Проклятье! - со злобой крикнуло море и швырнуло камень. - Ой! Оно кинулось в меня камнем. Взгляни, на ноге кровь. - Ты просто поранилась. Вот, смотри. Море ощутило в своих волнах гибкое тело. Сладостная дрожь пробежала по нему. Еще миг, еще один миг. Пусть войдет и второе тело. - Не надо. Пойдем отсюда. Вот, и месяц повернулся к нам лицом, словно хочет о чем-то предупредить. "Иди, иди ко мне, - шептало море. Оно мерцало таинственными бликами, гипнотизировало. И каждое мерцающее пятно кричало, звало. - Иди, иди. Вода прохладна. Она смоет дневную усталость. Она возьмет к себе твои грехи. Иди, не бойся. Здесь так хорошо, как на грешной земле не будет никогда." - Я боюсь... Но море уже чувствовало в своих объятиях второе тело, нежное, гибкое, еще безгрешное. Но уже тронутое, как и все земное, любовью, от которой кружилась глубина. "Вот он, миг счастья. Вот оно, мое блаженство. Идите ко мне. Идите в мои прохладные объятия. Отдайте мне свое сячастье. Вам оно не нужно. Вы слишком малы для него. Идите ко мне..." Море протянуло волны к телам, обволокло прохладными струями - щупальцами. - Любимый, кто-то холодный путает мне ноги, тащит в глубину. - Это подводное течение играет струями. Или собрались медузы, чтобы полюбоваться тобой. Плыви ко мне, моя любовь. Два тела опять соединились вместе. Море вскрикнуло. О, ужас! Струи уже не могли разъединить их, потому что вокруг разливалась безграничная, непобедимая любовь. Скоро она сковала все море сладостной истомой. И только волны, трепетно вздрагивая, омывали два прекрасных творения природы, безропотно слизывали земную грязь. Море, громадное, безбрежное море, было бессильно против этого чувства. Оно всколыхнулось, когда с неба гулко захохотал видевший все месяц. Он опустил рога вниз и с презрением крикнул: - Ты хотело победить любовь? Ничтожество! Жалкая лужа, глотающая лишь зазевавшихся дураков, да тех, кто потерял веру в свою любовь. Тех, кому все равно, кому отдать пустое, брошенное этим прекрасным чувством, тело. Запомни! Как собака ты можешь ласкаться у ног этого высшего совершенства Природы, так же, как мы с солнцем лучами своими устилаем ему дорогу. Все силы Природы стоят на коленях перед Любовью. А ты... Ты похоже на женщину, которую бросил любовник, и которая в бессилии кидается на ни в чем неповинных людей. Стыдись! К лицу ли тебе такое! Ты безбрежно и могуче. Ты само должно дарить людям Любовь. Молча слушало море голос месяца. Прозрением спускалось с небес его голубое сияние. "Я безбрежно, а люди так малы, - колыхалось оно. - Я должно им прощать. Они знают больше меня. Они лучше знают, что такое Любовь." ... Слившись воедино, два тела стояли на берегу моря. И море, одурманенное нежностью, тихо мерцая, шептало им любовные оды. Отдавая всю красоту свою. Всю безграничную Любовь! ПРОЩАЙ . От сине-зеленого рябого моря поднималась стеклянная стена неба, кое-где измазанная нелепыми пятнами косматых облаков. Прямо по шнурку горизонта, задрав кверху тараканью морду, скользил теплоход на подводных крыльях. Пяток упругих резиновых чаек кружился недалеко от берега, пестрого от черной, белой и другой разноцветной гальки. Море было спокойным. Лишь изредка то тут, то там выныривали из воды белые плавники редких волн. И тогда казалось, что под водой кто-то есть. Кто-то громадной разбросанной стаей мечется в глубине, пугая своей таинственностью. - Акулы, наверное, - тихо сказала Маринка, скользя карими, утыканными черными лозинами ресниц, глазами за белыми всполохами. Сергей косо взглянул на нее и опять уставился в горизонт. - А может, Ихтиандр, - прошептала Маринка. - Сейчас вынырнет и затрубит в раковину. - Тогда их там десятка полтора, - скривил рот Сергей. - А другие, может, его дети. - От кого? - рот совсем съехал набок. - Ну... Маринка задумалась и обиженно замолчала. Тараканья морда все ползла по горизонту. Казалось, она, как тот же таракан, хочет выбраться из воды, но ухватиться было не за что. И морда ползла и ползла, выискивая, хотя уже без надежды, но с упорством обреченного, малейшую зацепку, пока не скрылась там, за широким, обросшим зеленью, носом пологой горы. Чайки продолжали капроново мотаться над одним местом. Потом, вдруг, как кто их напугал из пучины, взмыли вверх и разлетелись по одной, по две в разные стороны. Море кидало и кидало на берег вспаханные пьяным трактористом мелкие борозды. Эта бесконечность тоже пугала Маринку. В сознании никак не умещалось, что это вечно, потому что она не видела еще на земле ничего вечного. Дома сносились, люди умирали, земле делали новое лицо. Даже звезды двигались только ночью, а днем пропадали вовсе. Но они были так далеки. Поэтому бесконечное движение неведомой, не знающей усталости силы, которая была вот, рядом - рукой подать - вносило в душу смутные беспокойство и тревогу. - Вечный двигатель, - тихо сказала она. - Да. - неожиданно согласился Сергей. - Здесь больше всего чувствуется вечность. Он немного помолчал, потом повернул голову. Долго всматривался странным взглядом. Затем спросил: - Когда твой поезд? - В десять вечера. Сергей отвернулся. Схватил крупный гладкий камень и с силой влепил в набегавшую волну. Как голодная, та со всхлипом проглотила его, недовольно зашипев слюной у самых ног. Отбежала, подмятая другой, такой же. - А когда уезжаешь ты? - искоса глянула на него Маринка. - Через два дня после тебя. Маринка опустила лицо в колени. Черный платок волос накрыл ее почти всю, оставив узкую полоску темной от загара спины и мягкую линию ног. Купальник все еще сочился мокрым. Было видно, как капля за каплей стекают на высушенную сонцем гальку. Сергей жадно впитывал в себя девичье тело. Совсем недавно Маринка бежала к нему по берегу, завораживая своей стремительностью отдыхающих. Тогда каждый завидовал ему, и каждая завидовала ей. Весь берег был у их ног. Они это понимали и немного смущались. Особенно, когда проходили мимо поросячьих тел ожиревших мужчин и женщин. Глупые люди, думали они, у вас есть все, у нас - только наши тела. Вы хотите, чтобы и это стало вашим? Но вы забыли - зависть губит. Мы не хотим, чтобы вы нам завидовали, потому что у нас всего семь дней. Они уже пролетели. Вы будете рады, когда мы расстанемся? О да, вы будете рады, потому что зависть, камнем давившая на ваши груди, упадет на землю и рассыплется обыкновенной галькой... Маринка дрогнула крыльями волос: - Ты ничего не рассказал про себя, - скользнула взглядом по морю. Не видя его, тронула темной дымкой печальных зрачков глаза Сергея. - Зачем? - впился он в эти зрачки. И опустил голову. - Разве нам это нужно? - Нет. Сейчас нет. Но потом..., - она положила подбородок на колени, обхватила ноги руками. - Сказать тебе? - не поворачивая головы, молвила медленно и тихо. - У меня есть парень. Он учится в институте. Он любит меня. Глянула пристально. Сергей сжал зубы. Промолчал. Обидные мысли затолпились в голове. Но между ними, как солнце между туч, зеленью сверкала гора, на вершине которой они недавно были. Они искали каштаны. И нашли. Каштаны росли высоко, за стеной колючего кустарника. Ноги Маринки все были разрисованы белыми царапинами, кое где с тоненькими строчками крови. Они продрались сквозь эту стену, как сквозь громадный клубок колючей проволоки. Так хотела Маринка. Потом Сергей помогал ей выдергивать из ног черные жала. Их было много. Но Маринка смеялась. А потом, набрав под деревом каштанов, они поднялись на вершину. Оказалось, и к каштанам, и к вершине бежало много тропинок. Но они были счастливы, что победили неприступную стену. Внизу, по всему побережью, тянулись бесконечные кубики домов. С одной стороны море было серебряным, с другой темно-синим. Даже солнце не могло охватить всю его ширь. А сзади горбатились зеленые верблюды. Там тоже было море, но зеленое, с бесконечными волнами - холмами, кое-где с пенными верхушками - лысыми белыми вершинами. Они прыгали дикарями вокруг костра и жарили каштаны... - А ты? Что ты молчишь? У тебя есть кто-нибудь? Опять Сергей утонул в громадных зрачках. Обида сжимала ему горло. Он молча стал одеваться. - Пошли. Тебе еще надо собраться и купить большую раковину. На память о... море. ... Теплая ночь заволокла все вокруг темно-синим прозрачным туманом. На вокзальчике одна скамейка оказалась свободной. Маринка села на эту скамейку. Сергей молча стал рядом. Слышен был тревожный шум близкого моря. Со стороны курортной поликлиники доносилась музыка. Сейчас там были танцы. Опять он закружился с Маринкой по бетонной площадке. Опять почувствовал на себе прожигающие взгляды. Они прижались друг к другу, окунулись в неземные чувства. Рядом дергалась толпа. Отставив круглый зад, одна девушка медленно нагибалась, потом резко дергала руками, будто собирала грибы. Сергей указал на нее глазами. Они солидарно засмеялись... Издалека гукнул поезд. Затропился на стыках. И стал. - Все! - выдохнул Сергей. У ступенек Маринка повернулась, прижалась, но тут-же отстранилась: - Ты не сказл мне про себя. Я боялась спросить тебя об этом раньше, потому что... Ты женат, да? Сергей протянул к ней руки. Маринка отодвинулась дальше: - Да!?. - Да, да, да, - крикнул он. Он не понимал, зачем она спрашивает. У нее же есть парень. Она едет к нему. Злорадная усмешка вдруг скользнула по лицу Маринки, испортив разом все черты. Брызнувшие слезы тут-же высыхали на запылавших щеках. Она встрепенулась ресницами: - Здесь только сон. Я люблю своего Володю. Мы скоро поженимся. Прощай. - Маринка! - прошептал Сергей. Поезд тронулся. Дверь захлопнулась. Маринка прошла по вагону. Слезы потоком хлынули по лицу, покатились на грудь: "Нет у меня никакого Володи, - шептала она. - Я лишь хотела, чтобы ты сказал правду, потому что я полюбила тебя. Я все время боялась спугнуть свое счастье. Но ты сказал, что ты женат...". За окнами вагона продолжало накатывать на берег море. Оно все шумело. Ему никакого дела не было до человеческих трагедий, потому что только оно, и ничто больше на земле, претендовало на вечность. Через три часа Сергей сидел на вокзале. Он уезжал домой. После развода с женой там было пусто и холодно. Но здесь было еще хуже. ПАНЬКА . Панька была баба не видная, но мужики к ней липли как мухи. Бывало, ночь- полночь, в ее хате дверь, как матерый мужик под дубиной, крякает, стекла смертным звоном заходятся. В соседних домах стенки как в лихорадке трясутся. Кто придет. Выскочит какой хозяин, кто поближе живет - зимой в кальсонах, летом чаще в семейных трусах - и быком к Панькиному дому. В руках кол. А там или брат его, или свояк. Деревня-то маленькая. - Ванька, мать твою так, убью! - Пош-шел ты, - и опять петли только зубами ляскают - Убью, гад. Всех детей разбудил. Отойди, кровину твою мать. Зашибу. Ванька оторвется, пьяную морду перекосит в ухмылке: - Попробуй. Враз рога сверну, - и с крыльца. Если сразу упадет, тот, кто прибежал, руки ему за спину закрутит и волоком от Панькиного дома. Если сойдет благополучно - драка. Кулаки у обоих с кочан капусты -чуть покрепче. На утро у одного под глазами как трубу чистил, другой, какой стучался, за щекой что-то спрятал и не показывает. Сидит и мыслями шепелявит - зубов не достает: "Ну, шкотина, погоди. В шледующий раж прищешу и тебе, шалаву. Шам в энтот раж до утра штенку ломал, я хоть бы шлово шкажал. Попомнишь еще". Про баб и говорить нечего. Два раза пытались Паньку побить - мужики отняли. Дом подожгли, опять мужики потушили. Еще и сарай новый поставили. Появилась она года два назад. По дешевке купила дом и пошла на ферму дояркой. Баба как баба, ухмылочка только как у лисы, которая курицу съесть успела. Вслед за ней, через месяц, в деревню приехал какой-то мужик. И сразу к ней. Вся деревня видела, как гнала она его от дома. А мужик был с виду красивый. Кто он, откуда, никто толком не знал, как и о самой Паньке. Ну и разговоров, стало быть, пожмут плечами и все. Это потом, когда раскусили, бабы хором заголосили, мол, пригрели змеюку на грудях. О мужике совсем забыли. У Атаманши поселился. Бабке за семьдесят лет. Одна, лицо индейское, только перьев осталось натыкать. Мужик пошел работать трактористом. Все больше на центральной усадьбе. Видать не видно. В первый раз о Паньке заговорили, когда Кирюха Смольников помог ей дрова к дому подвезти. Сгрузил дрова и хотел уже взять на магарыч, да в магазин, пока тот не закрылся. Она деньги подала, да так глазами лисьими повела, плечиком дернула. У Кирюхи сердце к ногам упало. Не привык к подобному. Со своей все больше зуботычинами раздавались. И про деньги забыл. Но мыслю не потерял. Армию вспомнил - любился там с одной зазнобой. Тыкнулся опухшей мордой: - Приду, а? Панька опять приемом наизнанку вывернула, лизнула лаской душу: - Приходи. И пошла. Под телогрейкой юбка туда-сюда, туда-сюда. И уж не сапоги на ней, а туфельки красные с бантами. Кирюха еле вечера дождался. Пачку махры извел. Тут баба с фермы пришла, чугунами загремела. Что ты будешь делать. Малость пораньше бы уйти, и никаких объяснений. Теперь дело иное. Думал, думал -надумал: - Пойду скотину посмотрю. Сенца, может, подвезть. Баба глянула боком и опять за чугуны. Скотина давно дома. Сено привезено - стог на дворе стоит. Кирюха и сам понял, что ляпнул не то, но шапку в охапку и за дверь. Бутылку из-под плетня вытащил, за пазуху положил. Адские муки испытал, пока она там лежала. Темень вокруг - хоть зажмурившись иди. Кое-где, вроде, блеснет пятнышко. В деревне как куры - стемнело и спать. Дорога - по пашне и то легче идти. Тут поскользнулся, там по ширинку увяз. Осень. Да дождик холодный зерном из кузова сыплет. Пока дошел, живой нитки не осталось. К тому ж сомнения, а вдруг поиграла, зараза. Огонька в доме не видно. Но открыла сразу. Кирюха на другой день, когда брату хвалился, все тело ее описывал. Ну до чего хороша, чистая девка. Как обняла, так память отшибло. Потом по хате голые друг за другом гонялись. Синяки показывал. В темноте не раз налетал то на печку, то на лавку. Утром выгнала. Не ушел бы ни в жисть. - Я, братуха, от нее сразу на работу подался, дома еще не был. Если моя спросит, скажи, у тебя ночевал. Мол, выпили, а дождик. Куда идти! - А когда опять пойдешь? - спросил брат. Глаза от Кирюхи не оторвались. Про стакан забыл. От жены гулял всю жизнь. До женитьбы вовсе пределу не было. - Денька два велела погодить, чтобы толков не возникло. Умная баба, братуха. О себе и о человеке печется. Я с ней нарадоваться не мог. Так и стоит Когда расходились по домам, Кирюха опомнился, попросил: - Ты никому, гляди. Я тебе как брату. - Да будя. Я уж и забыл про все. На том и расстались. На третий день Кирюха завалил поудобнее трактор в кювет, чтобы легче было опять вытащить, и наказал проезжавшему на лошаденке мужику, чтобы он передал его жене, пока, мол, не вытащит, домой не придет. Мужик попался дотошный. Выразил мысль, что Кирюха и сам мог бы выехать. Пришлось заматериться, мол, это не лошадь, которую можно и за хвост выдернуть. Мужик обиделся и уехал. Кирюха подождал чуток и пошел. За пазухой бутылка белой. Пока добрался, стемнело. В Панькином доме опять света не было. Постучал легонько. Тишина. Опять постучал. Ни ответа, ни привета. Загремел громче. Подошел к окну, там позвенел. Ничего. Шторы задернуты. Обозлился, забухал сапогами в дверь. В разных концах деревни заголосили собаки. Вдруг в сенцах скрипнуло. Панькин голосок пропел: - Кирюша, ты, что ли? - Я, я. Чего ты? Вся деревня проснулась. - Иди, светик, домой, - опять пропела Панька. - Опоздал ты нынче. Братец твой у меня. - Что-о? - Кирюха рванул дверь на себя. - Открывай, я его щас убью. Падла. - Щас убьешь, щас убьешь, - загудел за дверью голос брата. - Паня, дай-ка топор. Кирюха схватил камень, грохнул по двери. В домах поближе зажглись огни, Собаки голоса слили в один. Пошлышались восклицания мужиков. Кирюха вдруг понял, что делать ему здесь больше нечего. И вся деревня узнает, и мужики могут морду набить. Но главное, дверь ему больше никто не откроет. Он шагнул в темноту, прошел к заброшенному коровнику. Сел под стену и заплакал. А деревня еще долго обсуждала последнюю новость. Да и как было не узнать по голосу Кирюху. С тех пор и пошло. Что ни день, у Панькиного дома скандал. Хоть и хитрый был Кирюхин брат, да на язык тоже оказался слабым. Мужики передавали друг другу Паньку бережно, как отлитую из золота. Хоть и дрались из-за нее постоянно. Однажды, когда очередной из них, сладко потягиваясь в постели, спросил, откуда она приехала, Панька вдруг заговорила: - Километров сто отсюда. Из деревни Лямшевой, - пропела и обвила ветками - руками голову мужика. - Чего же ты сюда приехала, любушка ты моя? С мужиком своим разбежалась? - ковырнул он пальцем голую грудь. И захихикал. - Мужик мой здесь, в этой деревне. - Как!.. - мотнулся в сторону очередной Панькин дружок. - Да Иван Косюков, тракторист. У Атаманши квартирует. Не знаешь? - легонько хлопнула она его по спине. - Так, я не пойму. Это...,- забормотал тот. - А-а, это! - пропела Панька. Потянулась не в пример лицу красивым упругим телом, закинула руки за голову. - Долги ему отдаю, - и засмеялась нежным, хитрым смехом. - Да я уже скоро уеду отсюда. Повернулась опять рыбой в воде, только что горячая. И снова обвила руками кудлатую, пропахшую табаком и соляркой, голову мужика. ЛЕТАЮЩИЙ ЗАЯЦ . Мы приехали помогать колхозникам убирать хлеб нового урожая. Наша палатка стояла рядом с железной дорогой, по другую сторону которой, примерно в полукилометре, раскинулся хутор. Иногда хозяйка крайнего двора баловала нас молоком. Однажды, когда я понес сдавать освободившийся бидончик, молодая женщина поведала: - Замучил, проклятый. Каждое утро то капуста, то морковка попорчены, - сдвинув брови, сердито трепыхнула она тонкими ноздрями. - И хоть бы ел, а то так: там отгрызет, тут надкусит. - Кто? - не понял я. - Заяц, кто! - еще больше распаляясь от моей непонятливости, зазвенела молодайка. - Я уж все дыры в заборе позабивала, недавно муж на него облаву делал. Догнали до железной дороги. И как в воду, бестия косоглагая, канул. А на другой день в огороде опять капуста объедена. Посмотри, вон, кочаны на корню гнить стали. Вслед за хозяйкой я через калитку вошел в огород. В отношении того, что капуста гниет на корню, она явно преувеличивала: кочаны стояли тугие и сочные. Правда. кое-где на них виднелись следы заячьих зубов. Обойдя весь забор, я действительно не нашел ни одной дырки. Пообещав женщине выследить косого, ушел. Мною завладел охотничий азарт. ... Была половина третьего ночи, когда на залитом лунным светом лугу, между железной дорогой и двором хозяйки, показалась прыгающая тень зайца. Я сидел, устроившись на ветвях высокого тополя, что рос перед забором, и длинноухого заметил еще издали. Косой неторопливо подскакал к огороду, и... Тут я должен пояснить, как этот огород обнесен забором. Со стороны хозяйского дома от прочего мира двор был отделен невысоким штакетником. А со всех остальных "опасных" сторон - высоким и плотным горбылем. Так этот храбрец подскакал не к забору, а к штакетнику - прямо под хозяйские окна, где его вовсе не ждали. После чего спокойно преодолел невысокую преграду и запрыгнул в огород. Я рассмеялся. Ну и хитер косой! Хозяйка в тесовых досках дырки заколачивала, а ему забор и не нужен... Осторожно спустившись с тополя, я отправился туда, откуда прискакал заяц. Теперь я знал, что его нора должна находиться где-то возле железной дороги. Но каково же было удивление, когда часа через полтора в красноватом свете зари на лугу опять появился заяц и преспокойно запрыгал по направлению... к нашей палатке. Перескочив через рельсы, он скрылся возле насыпи в кустах. Подойдя к этому месту, я раздвинул ветви и увидел нору. Ход шел прямо под железнодорожное полотно. Ну и заяц, ну и хитер! Десятки составов каждые сутки грохочут над его головой, а ему хоть бы что! Да и собаки не найдут - смола, которой пропитаны шпалы, отбивает всякий запах. Вскоре мы разбили свою палатку в другом месте, и только перед самым отъездом я случайно столкнулся с той женщиной. Заметив меня, она насмешливо спросила: - Ну как, поймал косого? Я отвел взгляд и улыбнулся: - Да нет. Видно, и вправду к вам повадился летающий заяц. - Во-во, и я ж говорю, - охотно подхватила молодая женщина. - Даже собаки его не берут. Вежливо попрощавшись, я спрятал набежавший смех и пошел готовить машину к дороге. Подумал, пусть живет длинноухий. Капуста у хозяйки сочная, такая на корню никогда не загниет. Да и много ли надо одному умному зайцу. А ОНА ВСЕ СМЕЕТСЯ . Рассказ включен в Избранное на Прозе.ру Автопарк был уже пуст. Машины разъехались. Только в самом конце его, между ржавыми кабинами, Санька неторопливо натягивал на чулок заднего моста своего "виновоза" ступицу. Вчера, когда со склада вез в магазин хмельной товар, там что-то как собака на покойника завыло, потом загырчало. Слез, посмотрел. Ну, ясно, подшипник накрылся. Вся ступица огнем горит. До гаража на второй скорости доехал. Резьбы много успело смазать. Теперь гайка будет держаться плохо. А новых чулков нету. Если как следует зашплинтовать, месяц еще походит, а потом, может, что появится. Рядом с забором деревья вразброд. Раньше тут роща была. Бабье лето греет желтые листы. Те со всех сил шелестят, жалуются. Да, теперь уж ни к чему. С одного края чуть зеленые, с другого чернеть стали. Под ногами коричневых полно, закостенелых. Грустно. Когда за рулем, особо не оглядишься. А сейчас прямо сердце заныло. Сзади говорок послышался. Механик, за ним Гришка Ляпухин. У Саньки руки дрогнули. Как неладное почуяли. Не любил он Гришку. Вечно морда пьяная. Подхалим и калымщик. А держат. Первый класс, машину знает. - Ну, как у тебя? - механик взглянул на ступицу. - Все, вроде. Колеса остались, - поднялся Санька. - Давай быстрее. С Ляпухиным поедешь. - Куда? - В Маршево. - Ты что, Василич? Двести километров в один конец. На чем ехать-то? - указал на "виновоз". - Потихоньку доедешь. Товарища надо выручать. У него там задний мост порвало, - механик ударил ногой по баллону. - Шестеренки и кардан отвезешь, и все. Пустой, чего тебе? - Василич, убей, не могу. Резьба видишь какая? Пошли кого другого. - Кого? - механик кивнул на тихий парк. - Третий день машина в Маршеве. А вдруг растащат? В общем, не торопись, дорога ровная. - Василич, пойми ты. День рождения у меня. Когда приеду? - Я тебя что, на неделю посылаю? Раньше других дома будешь. Давай, давай. Меньше разговоров. И пошел - Василич... - Запчасти на проходной, - не оборачиваясь, махнул рукой тот. - Тьфу, - сплюнул Санька. Ляпухин стоял и ухмылялся. Видно, уже поддал. В каждом магазине знакомые. А может, со вчершнего никак не отойдет. - Давай, орел, лепи колеса и погнали. Три часа, если хвост трубой. Санька взял тряпку, вытер руки. Залепить бы в морду. Наверное, спьяну мост порвал, или левака давил. Но глянул косо и смолчал. Ляпухин гоготнул, пошел к проходной. Через полчаса выехали. Когда проскакивали мимо магазина, Гришка положил на руль волосатую лапу: - Стой. - Чего тебе? - взвился Санька. - Беги за вином. - Чего-о? Гришка прижал руль, машина остановилась. На небритой морде ласково сощурились мутные глаза: - День рождения, корешок, отмечать надо. Бери пару пузырьков, за городом тяпнем. - Я не пью. - Так я выпью. - Пошел ты. Санька опять надавил на газ. Ляпухин выдернул ключ зажигания: - Спокойно, - глаза на минуту сделались злыми и тут-же опять утопли в опухших складках. - Нет денег, так и скажи. Сам возьму. Санька упал на руль, от ярости замотал головой. Минут через десять пришел Гришка. В обеих руках по две бутылки вина. - Погнали, - закрывая дверь, прошмякал толстыми довольными губами. Проскочили город. На пустом серебристом шоссе Санька придавил на всю железку. И снова волосатая рука легла на руль: - Погодь малость, орел. Успеешь налетаться. Выпьем, потом погоним дальше. А так какой интерес, - загоготал, как боровом захрюкал. - Слушай, меня дома жена будет ждать. Ребята придут, - умоляюще посмотрел Санька. И пожалел. Такую толстую шкуру обухом не перешибешь. - Ты что, дурак? - неподдельно удивился Ляпухин. - Баба, ребята. У тебя праздник, какая баба! Сам гуди на всю катушку. Эх, надо было сразу монтировку брать. Потолще. Бросил бы гада, да куда ехать? Пока Гришка одну за другой опорожнил две бутылки, прошло минут сорок. Цедил из стакана неспеша, как лошадь из ведра. Куски мяса и хлеба, которые достал из кармана, не стали бы жрать и собаки - свалялись в каких-то волосьях, табаке. Потом полез в кабину, сизый, раздутый, засаленными огромными лапами хватаясь за сиденье. Ехали молча. Санька давил и давил. Полузакрыв глаза, Ляпухин что-то мычал, покачиваясь хмельным бурдюком. Санька тревожно поглядывал на него, мысленно умоляя кого-то, чтобы Ляпухин проторчал так до конца пути. Ровная серая лента кончилась. Под колеса мягко упала светло коричневая от засохшей глины грунтовка. Въехали в лес. Деревья будто зацвели. Красные, желтые, зеленые листья пестрели по обе стороны сплошным лугом. За маленькой, с десяток домов, деревней подняла руку старуха с плетеной корзиной: - До Кудлатовой, сынок. Верст семь, а? - Бабушка, только в кузов, - поглядывая на Ляпухина, негромко и виновато сказал Санька. - Да все равно, иде, токо б доехать. Помог ей залезть, подал свою телогрейку. И опять разноцветье леса, прерываемое ярко-зелеными некошенными лужайками со стеклянными глазами небольших озер или косами ручьев. Доехали до деревни. Бабка застучала по кабине: - Спасибо тебе, сыночек. На-ка вот рублик, - из старенькой поддевки вытащила смятую бумажку. - Благослови Господь. - Что ты, бабушка, - Санька покраснел. Вид сморщенной старухи, беспомощной, с дрожащей коричневой рукой, которой осталось жить всего ничего, вызывал смешанное с жалостью уважение. -Копейки не надо. - Да что ты, голубчик. На табак. Али поесть в обчественном месте. - У нас все есть. Спасибо большое. - Давай сюда, - ворохнулся вдруг Ляпухин. - Давай, давай. Еще катать задаром, - заревел он вздрогнувшей старухе. - Да я ништо... , - заторопилась та, протягивая бумажку. - Ты чего? - Санька повернулся всем телом. - Молчи, сосок, - процедил Гришка. Через Саньку схватил рубль. С рукой бы оторвал. - Жизни не знаешь. Гони дальше. Торопливо крестясь, старушка сгорбатилась на обочине. Без того слезливые глаза заплыли совсем, влагой смачивая глубокие морщины. Она вытирала их широким рукавом сшитой из шинельного сукна поддевки. Только слышно было: - Ништо я супротив, сынки. Берите рублик. Кошелка-то пустая, а то б я молочка, али сальца. Дай Бог пути хорошей. Санька не перетавал жечь глазами Ляпухина. - Гони, говорю, - неторопливо повернул тот заросшее серой щетиной сальное лицо. Сверкнул зрачками из-под набухших под бровями кожаных мешков. - Отдай деньги, - процедил Санька. Душа его разрывалась от звериной какой-то ярости на Ляпухина и от жалости к старухе. - Деньги дай сюда, - крикнул. - Моя машина. - На, - Ляпухин выкинул тряпочный от старости рубль. - Шею бы тебе, сучонку, свернуть. Калым отбиваешь, падла. Санька спрыгнул на землю, сунул бабке в карман бумажку. Та замахала было руками, потом опомнилась, закрестила в спину: - Спаси и сохраги тебя Господь, пронеси, господи, светлую душу над всеми напастями. Час ехали молча. У Саньки все кипело, внутренности варились в злости, как в хорошей кастрюле. Но постепенно думы о жене вытеснили из головы дурь. С женою они прожили еще и году нет. Любил ее жутко. На обед - к ней на фабрику. С работы - бегом. Только бы хоть мельком увидеть. Она такая светленькая, глаза чуть хитроватые. Но хитринка так, проскользнет невзначай, и пропадет. И снова Золушка. На фабрике, правда, обедать садится с девчатами. Вместе стесняется. Но Санька и тем доволен, что издали. А она волосы поправит, кусочек хлеба возьмет и глянет так, мол, опять приехал. И с девчатами свои разгворы. Те посматривают искоса, смеются. Санька смущается, но поделать с собой ничего не может. Дома она тоже все перед зеркалом. Санька на кровать сядет, не налюбуется. Мечтает, как у них будет ребеночек, маленький такой, веселенький. Сосед придет, она с ним хи-хи-хи да ха-ха-ха. Санька снова радуется, что ей хорошо. Сам его часто зовет, чтобы ее улыбку увидеть. Он парень хороший. Посмеются и все. Потом, когда домой уходит, руку на крыльце подает: - Какая у тебя, Сань, жена красивая. Чисто Золушка, - скажет громко и уйдет. А Санька стоит и улыбается. Домой боязно идти. Но в последне время неприязнь все-же к соседу появилась. Откуда она? Он ее гонит, она все равно душу обкладывает. Один раз жена с ним в кино ходила. Потом фильм обсуждали допоздна. Санька слушал, улыбался, испытывал неприязнь, а глаза слипались. Не заметил, как заснул. Утром встает рано - в пять. Домой когда как, чаще вечером, уже темнеет. Машина - старуха и та живей. Не успеешь одно сделать, другое полетело. Новые машины только старым шоферам, да таки пробивным, как Ляпухин. А запчасти - пушку легче достать, чем иной подшипник. Лес кончился. Пошли поля с редкими горбатинками стогов. Все уже убрали. Пустота. И только небо чистое - чистое, как вода в глубоком озере, что за Темным лесом. Даже не верится, что скоро зима. Ляпухин "Памиром" задымил, аж в глазах защипало. От паровоза и то легче дышать. Санька молчит. Черт с тобой, делай что хочешь, только бы поскорее отвязаться. Ветровик открыл. Мотор как хороший шмель. На спидометре ровно - семьдесят. Дорога хорошая. Поскорее бы. Жена, наверное, сегодня пораньше отпросится. Наварит. Подарок, может, давно прячет. Когда еще дружили, галстук подарила. Теперь их у Саньки три. Один сам купил, один мать принесла, вместе с письмом от отца. Отец уехал давно, когда было еще лет десять. Пишет изредка. А чего писать, там уже своя семья, Без отца плохо, до сих пор чего-то не хватает. И армию вроде отслужил, а все место в душе незаполненное, вроде заброшенного колодца. Один раз заикнулся жене, она сразу отмахнулась. Жалко. Хотелось холодок этот из души выгнать. Ей-то как понять. Отец - мать есть. Приедут, Санечка, да Санечка. На дочку внимания меньше. Мать сядет на диван: - И в кого ты родилась такая. Санька не понимает, за что они ее так. Отец тоже хмурый, дымит одну за другой. Жена глянет на них боком и опять к зеркалу. Ребеночка тоже не хочет. Иной раз Саньке кажется, что и его она не любит. Начнет рассуждать, мол, если б не любила, замуж не вышла бы. Наверное, не привыкла еще к семейной жизни. На уме одни девичьи побегушки, а не постирушки да варево. У самого тоже ни выходных, ни проходных. Заработки, правда, хорошие. Все для нее. Как наденет новое - глаз не отвести. Еще бы ребеночка... Снова волосатая рука придавила руль: - Стой. Ляпухин враскорячку пошел к задним колесам. Вернулся, загремел бутылками. Глотнул стакан, крякнул. И быком на Саньку: -Морду бы тебе свернуть. Санька уперся в одну точку, зубы сцепил. Ляпухин покачался, покачался, еще стакан принял. Зажмурился. Бутылку в руке взвесил. Зрачки как зубила. Бросил бутылку через плечо: - Иди-ка поговорим. У Саньки руки на руле аж посинели. Молчит. Езды осталось меньше часа. Страха нет, хоть и пусто кругом. Если дойдет до дела, Ляпухин раздавит. Горилла. А страха все равно нет. - Иди сюда, сука, - рука потянулась через кабину. Санька молнией за спинку сидения. Выдернул монтировку. Конец острый, блестит: - Сейчас выйду. Прыг на землю и к Гришке с другой стороны: - Ну что, поедем? Или тут оставить? У Ляпухина на лоб мешки дряблые полезли. Белки налились кровью: - Убью! Санька по руке, наотмашь, со всей силы. Рука так и повисла. Здоровенная лапа: - Садись, гад... Сам дрожит весь, как чайник на хорошем огне. Гришка за руку схватился. Опомнился. Лицо трезвое перекосилось: - Ты что, озверел? - Садись, а то по чем попаду буду долбить. Гришка глаза кровяные не сводит: - Посчитаемся еще. Рука плетью вдоль кожаной куртки. В Маршево влетели паровозом на полном ходу. - Где машина? Гришка помолчал. Потом зашлепал: - В другой деревне. Километров пятьдесят еще. - Ясно. На калыме сорвался. Санька пулей из кабины. Дверцу рванул, Гришку за шиворот на землю. Опять вскочил, шестеренки и кардан ногами выпихнул: - До машины сам добирайся, а у меня путевка до Маршево. Развернулся и еле успел пригнуться. Шестерня в боковое стекло влетела, с задней стенки скатилась. Хотел, было, по тормозам. Потом дал газу и пошел. Ничего, посчитаемся. Ребятам надо рассказать. Обратно дороги уже не разбирал. Ямы, кочки только чуть качали. В лесу, правда, как по стиральной доске затрясло. Пришлось скорость сбросить. Уже стемнело. Осень. Фары включил. Вдали, на обочине, показались две фигурки. Подъехал поближе - девчата. Тормознул, хоть и спешил. А вдруг чего серьезное? - Куда бредем? - из кабины высунулся. - До Бордукова подвезете? - Садитесь. Только по этой дороге, в сторону не пойду. Некогда. - По этой, по этой. Сразу стало весело и тесно. Включил в кабине свет. Девчата чуть притихли, а потом одна, темненькая, волосы волнами густыми по красному пальто, из-за подружки глядь-глядь: - А вы куда едете? - Да в Сухиничи. - А-а. А то на танцы бы пошли вместе. Уткнулись друг в дружку, засмеялись - Некогда, девчата. День рождения у меня, - объехал корягу. - Домой тороплюсь. Ждут. Выклюсил лампочку в кабине - дорогу плохо видно. - Кто? Дети? - это опять темненькая. И снова смех, только теперь уже короткий, ждущий. - Нет, детей пока нету. Но будут, это уж точно. Потому что хочу. - Хотеть мало, - это уже подружка. Рыженькая. Опять смехом подавились Санька головой покрутил. Веселые девчата. За пацана, видать, приняли. А тут и Бордуково вынырнуло из-за поворота. Так, окна кое-где горят. Но один дом светится весь. Клуб. Девчата полезли из кабины: - Спасибо. Приезжайте на танцы, а то ребят ну совсем нету. - Как-нибудь заеду. Темненькая на секунду задержалась. Все лицо как на ладони - под фонарем остановился. Глаза темные блестят, носик - красивей не выдумаешь. Санька тоже весь на виду - свет в кабине опять включил. Обдала улыбкой: - До свидания..., - не то, видно, хотела сказать. Добавила тихо. - Приезжай. И засмеялась, заиграла звездами под ресницами. - До свидания. Качнул удивленно головой, улыбаясь в ответ. Понравился что-ли? За кабиной осталось лукавое: - А он ничего!.. И смех растаял. Дорога из лесу вынырнула. Так, по обочинам редкие тени. До шоссе километра два, не больше. И вдруг руль вправо повело. Что за чорт, вроде, нормально было. А руль тянет все сильнее. "Ничего, до шоссе доберусь, а там посмотрим. Если что, на второй скорости допилю. До города рукой подать - десяток километров". Одно и успел подумать. Все сразу завертелось, закружилось... Очнулся в кабине. Лоб горит. Потрогал - кровь. Тело болит. Вылез. Вокруг светло-сине от месяца. Машина в кювете на боку лежит. Невдалеке на дороге что-то чернеет. Не на это ли налетел? Подошел - заднее колесо вместе со ступицей и полуосью. Вот оно что, гайка не выдержала. Когда подшипник развалился, то резьбу на чулке смазало... Домой приехал на попутке за полночь. Света нет. Постучал негромко.Тихо. В окно пальцами побарабанил. "Не дождалась, моя Золушка. Спит", - подумал ласково Решил про машину ни звука. Зачем расстраивать. В коридоре свет щелкнул. На пороге жена. Санька шагнул вперед, прижал к груди: - Женушка моя! И вдруг винцом пахнуло. Отстранилась. Глаза ледяные: - Нагулялся, - и пошла в хату. Санька остолбенел. По привычке хотел оправдаться, но от нее вином пахло. Никогда такого не было. Может, без него отмечали? Вошел в дом. Стол чистый. Сверток какой-то. Развернул - корабль в волны зарылся. На корме дощечка блестящая: "Другу Саше от друзей в день рождения". Рядом бутылка водки непочатая. Под кораблем записка: "Санька, пришли и ушли. Тебя нет. А без тебя и пить не интересно. Пошли в "Бычий глаз". Поздравляем с четвертаком. Желаем еще три раза по столько. Привет. Николай и другие". Внизу приписка тоненько: "Потом расскажем". Санька бумагу свернул, хотел на подоконник положить. А там смятая пачка из-под сигарет. Такие сосед курит. Большая бутылка за фикусом. На этикетке: "Портвейн розовый". Пустая. Мысли как бревном по голове. Бросился в спальню, свет включил. Жена подушку обняла, спит вроде. Но видно все. - Кто был? Жена голову оторвала: - Ребята приходили. - Сосед был? Ресницы дрогнули. Губы красные, красные: - Не было соседа, - и отвернулась. Санька от догадки аж зашатался. Если бы сказала, что сосед был, тогда другое дело. Тогда как всегда. А тут ведь неправда. В голове все смешалось. Пошел на кухню, присел на табурет. Схватил лицо руками, замычал. Больно, ох, как больно. Взял бутылку, налил водки в стакан. Выпил. Редко такое бывало. Боль уходит, уходит. Перед глазами лицо. Не жены, а той, темненькой, из Бордукова. Смеется: - Детей нет? Санька ей: - Врешь! Будут дети! А она смеется. А она все смеется... БЛАЖЕННЫЙ . Осень. А утро такое солнечное, будто опять вернулось лето. Громадные корпуса литейного цеха загораживают полнеба. Тень от них, перебежав широкий двор, достает аж до модельной мастерской. Ванька выбирается из тени и купает лицо в солнечных лучах. Сидя на ящике, за ним угрюмо наблюдает Игорь. Угрюмый он потому, что Ванька уже достал его своими дурацкими выходками. Работать надо, а он прохлаждается. Кружится на месте, неуклюже, как медведь. Наконец. останавливается, блаженно улыбается и смотрит на голубое небо, на высоко поднявшуюся крышу цеха. Лицо медленно принимает удивленное выражение: - Игорь, иди сюда - машет он руками. - Ну чего еще? - сердито отзывается тот. - Глянь, что там? - Вот дубина, - бормочет про себя Игорь. Но подходит. - Чего тебе? - Ты посмотри на крыше-то. Дерево, видишь? Ванька вытягивает руку вперед и, не мигая, смотрит вверх. Игорь вглядывается в ту сторону. Наконец, замечает на краю крыши маленькое деревце. Зеленое. - Ну и что! - говорит он. - Земли ветром надуло, а потом семена. Пойдем железо таскать. Тянет Ваньку за рукав, но тот не двигается с места. Рот полуоткрыт, в глазах все так же стоит изумление. - Это ж надо? - шепчет он. - Жизнь-то... Глаза становятся задумчивыми, светятся из-под темных бровей влажно и непонятно. Махнув рукой, Игорь опять идет к стене. А Ванька все смотрит на крышу. Затем, вздохнув, медленно тащится к куче железа. Полчаса работают молча. Неспеша перетаскивают брак - чугунное литье - на привязанный к трактору лист железа. Потом Ванька снимает рукавицы и идет к углу модельного цеха. С этого места хорошо видно дерево на крыше. - Ты будешь работать, или нет? - злой гусыней шипит Игорь. - Честно, я мастеру скажу. Ванька будто не слышит. Дойдя до угла, внимательно смотрит на деревце. Видно, как трепещет оно листочками на слабом ветру. Игорь бросает рукавицы в кучу зелеза, закуривает. Перед глазами маячит комната гостинного типа, которую обещал начальник цеха. Но если так пойдет дело, гостинки не видать. "Вот гад, - направляясь к лавке возле стены, думает он. - То бы получил, сразу в электрики перевелся, а там квартира и.... Сто лет бы не снилось пыль да газ глотать". Он сплевывает сквозь зубы. Ванька отделяется от угла и садится рядом: - Ты знаешь, от чего образовалась нефть? - спрашивает вдруг, задумчиво глядя, как Игорь тянет сигарету. От неожиданности дым у того застревает в горле. Сквозь слезы он смотрит на Ваньку как на сумасшедшего и давится едким кашлем. - Ты только не удивляйся, - торопливо говорит тот. Темные глаза загораются. - Все говорят, что она получается оттого, что деревья сопрели, животные, там, разные. А я думаю не так, - он поднимается с ящика и смотрит прямо в зрачки. От этого взгляда становится совсем не по себе. - Я давно вывел эту гипотезу. В Москву хочу написать. Только ты пока никому. - Он пытливо скользит по лицу Игоря, выискивая начало улыбки. Ее нет. - Ты видел в кино, как собирают каучук? Игорь кивает головой. - Вот так и нефть. Раньше росли огромные леса. Это еще до людей было. А может, когда люди, но доисторические. Леса были нефтеносные. Как с березы течет березовый сок, так и с тех деревьев текла нефть. Игорь бестолково хлопает глазами. - А ты не вылупляйся, - у Ваньки зрачки стали совсем стеклянными, как у бешеного. Чтобы убедить, он начинает дергать за рукав. - Нефть стекала в одно место, а потом ее реками уносило под землю. Она-то легче воды? В доказательство он показывает на лужу, в которой плавают пятна мазута. В этот момент из цеха выходит мастер. Увидев, что ребята сидят, еще издали кричит: - Ванька! Опять баланду травишь? - мастер квадратный, с кирпичным лицом. Раньше служил в торговом флоте. Игорь облегченно вздыхает и берется за рукавицы. С Ваньки сразу сходит весь пыл, и он молча, нагнув голову, тащится к куче литья. - Я тебе говорил уволю? Ох, уволю за тунеядство, - подходя ближе, беззлобно хмурится мастер. - А какой интерес делать дурную работу, - огрызается Ванька. - Возим на склад чугун, чтобы получить чугун, только отформованный в одинаковые болванки. - Но, но, поразговаривай. - А что, неправда? - распаляется Ванька. - Автогеном порезать этот брак, и в вагранку И все. И никакой возни. - Ты, рационализатор, - начинает сердиться мастер. - Сопи в две дырки и делай, что тебе говорят. Ни хрена не сделали. Игорь, я предупреждал тебя, гоняй его, если не хочешь неприятностей. Игорь задирает голову и отворачивается, всем своим видом показывая, что это бесполезно. А мастер продолжает шуметь: - Вчера из-за черта разгон получил, и сегодня под ковер подводит. - Это почему из-за меня? - Взвивается Ванька. - А потому! Щебенку грузил? - Лопатой? - Лопа-атой, - передразнивая, кособочит лицо мастер - А кто два обеда ухи мозолил: "ручной труд - на плечи машин"? - теперь Ванька кладет голову набок и тыкает пальцем вперед. - Во, во..., - злится мастер, а сказать нечего. Минуту он нервно прикуривает. Потом, вспомнив, зачем пришел, рычит снова. - Идите порошок грузить, - на одной ноге подскакивает к Ваньке. - Только попробуй там... Враз у начальника будешь. Но Ванька работает хорошо. Он всегда здесь работает хорошо. Порошок нужен для стержневого состава. Не подай вовремя, стержни начнут рассыпаться. До обеда время летит быстро. А потом снова чугунное литье, и опять та же картина. Игорь пробует таскать килограмм по восемьдесят чугунный брак один. Пыхтит как ежик, но быстро устает, садится под стенку и думает о гостинке. Ваньки и близко нет. Вагранка закрыла солнце, и теперь, чтобы погреться, он бегает аж на другой конец модельного цеха. Когда появляется в поле зрения, Игорь совсем поспевает от злости. Но Ванька сразу его не трогает. Сам перетаскивает пару болванок на лист. Долго напильником правит ножовку, которую за ненужностью бросили плотники. И лишь потом садится рядом. - Слушай, чего ты от нас не уйдешь? - спрашивает Игорь, а сам как чайник с кипятком. - А зачем? - Как зачем? Тебя ж гоняют. - Везде гоняют, - вздыхает Ванька. - Ты в армии был? - Был. - И там гоняли? - И там. - Все ясно. Горбатого могила исправит, - подводя итог, хлопает по лодыжкам ладонями Игорь. - А погрузчик вчера под щебенку дали, - ни к селу, ни к городу лепит Ванька. В глазах, черт ее, что-то непонятное. - Сначала три шкуры спустили, а потом дали, - Игорь говорит уже спокойно. У него явно не осталось сил. Он смотрит на литье. Еще много литья, и мысли опять бегут к гостинке. Как сквозь вату слышен голос Ваньки о том, как ученые открыли молекулу, в молекуле атомы, в атоме нейтроны, протоны. Нейтрино. Еще что-то. - Может, и наша Земля - молекула какого-нибудь тела, - как сквозь вату прорывается его голос. - Может, миллиарды наших лет для этого тела всего один день. Вон, в нашем организме микробы есть, минуты живут. И у них, может, вокруг своего солнца мотается своя планета. "Все, хватит, - думает Игорь. - С какой стати портить себе жизнь из-за этого дурачка. Блаженный какой-то". Он встает и идет к мастеру. Спину прожигает непонятный взгляд Ваньки. РАБОЧАЯ СКАЗКА . В цех завезли автоматическую линию формовки. И когда смонтировали ее, когда закрутила она громадными каруселями кантователей, когда поползли по ней, "покуривая", морские черепахи - опоки, заскрипели, вдавливая двенадцатью слоновьими ногами землю в полуформы пресса, троекратное "Уррррра" стегануло железными палками по клетчатым фермам потолка и несколько дней носилось из конца в конец, заглушая громоподобный рев литейного цеха, отдаваясь послабее в заваленных бумагами службах, включая кабинет начальника цеха. Формовщики - народ грудастый, глотки луженые. На африканских лицах глаза бриллиантами, да зубы в две нитки жемчугов. От радости. Упала с небес мечта, залопотала под боком электрическими командами, замигала разноцветными огнями на досках пультов. Старые конвейера теперь под зад коленом. Каждый увидел себя пусть не в белой рубашке, зато в чистом костюме. Подвязанные проволокой пудовые от грязи штаны, да рубашку без единой пуговицы - на свалку. В утильсырье никто бы не принял У Гришки тоже в душе все перевернулось. Туда бы, кнопки пальцами давить. Мастера забегали лучших отбирать вместо ученых - наладчиков, которые пока линию опробовали. Набралась команда из двадцати человек. Это из тысячи то. Гришка не чаял, не гадал - попал. И Санька Пожогин, и Лешка Талый, и Веня Хрянин. Все из одной бригады, с кольцевого конвейера. Веня Хрянин вертлявый, как обезьяна, допусти в зоопарк - мартышки со смеху подохнут. Но на кольцевом он лучший формовщик. Тут тоже поставили на сборку - спаривать полуформы. Санька Пожогин - медведь расчетливый - на пескомете дробил. Поставили на выбивку. А Гришка и Леша Талый с машин-трясунов попали на пресса. Главная ударная сила автомата. Сначала было шепоток пополз. Гришку, мол, заменить бы надо. Формовщик хороший, да язык без костей, во все дырки лезет. Не напакостил бы. Но радость общая быстро задавила шепоток. Навалились на учебу. Только за бортом какие остались, еще долго не могли унять обиду, вспоминая бывшие и небывшие грехи взлетевших высоко. Да и та скоро утонула в своей же воде. Учеба была скорая, но толковая. Всю линию по нотам проиграли. Когда ребята научились брать главные аккорды, поставили самостоятельно, под неусыпное наблюдение часовых с учеными степенями. С этого момента Гришка и показал свой язык, который, кстати сказать, был как у всех нормальных людей, но с одним изъяном - порол правду-матку где попало и обязательно в глаза. Пока учился, не до этого, вроде, было, ведрами знания черпал. А как поставили кнопками играть, увидел и изнанку бобровой шубы. Изнанка оказалась из дерьма. Во первых, отладку механизмов институтские головы провели кое-как. Тут земли мимо опок насыпало курганы - затвор не сработал, там одна деталь другую сковырнула - плохо подогнали. Бульдозер - лопата такая здоровая - который на выбивке зелю вместе с литьем сдвигал на пластинчатый конвейер, почему-то двигал ее наверх. А надо бы наоборот, или хотя бы ровно. Тогда бы штанги не ломало и нож не выкручивало бы из этих штанг, как при приеме самбо. А все потому, что стол, на котором распахивала брюхо опока, был поднят неизвестно от чего вверх. Увидел Гришка эти разные недоделки и возмутился. Рядом кольцевой под натужный звон мускулов пупки рвет, а автомат, вместо того, чтобы помочь старичку, или совсем сменить, развалил свои длинные ходули - рольганги и почесывает их лениво сотней - другой опок в день. Ляпнул как-то свои соображения инженеру, который поближе был. Тот погладил гусиное яйцо с очками посередке туда-сюда и забормотал индюком: - Ты бы поменьше вникал в эти тонкости, а то станешь умным. Тогда убегут от тебя волосы, а вместе с ними и жена, - инженер был разведенный, всех девок в цеху перещупал. - И придется тебе, как мне сейчас, обниматься с постылой работой, да с нелюбимыми женщинами, которые и на груди уже всю рассаду выщипали. Гришка было призадумался. Но тут Алька, зараза, которая стержни проставляла, хлопнула своими пауками над густо синими незабудками и побежали по ее лицу, обращенному к инженеру, змейки. Дурачок, мол, чего с этого Гришки возьмешь. Она давно уже к гусиному яйцу неравнодушие проявляла. Ретивое так и прыгнуло из уздечки. Эта-то куда! Еще подол выше задницы мотается, а уже змейками играет. Закусил Гришка удила и понес. Это не так, то не так. Что ни день - скандал. Благо, ученые уже бумагу подписали. На прощание похлопали по плечу, сказали: "Воюй". И вдохнули полные груди земляных отрубей, которых много носилось по цеху ввиде пыли, потому что вентиляцию еще не навели. После их отъезда Алька немного поплакала и успокоилась. Гришка туда, Гришка сюда - не с кого спрашивать. Попер на цеховое начальство. Те руками разводят, мол, черт ее знает, что теперь делать - командировка у ученых кончилась. И кольцевой пора бы уже по времени срезать, и автомат ни бе, ни ме. А старший мастер линии, тот сразу ошпарил: - Где ты раньше был? Распрыгался, как поджаренный кузнечик. Без тебя голова болит. Санька Пожогин подошел как-то, мотнул полусонной головой: - А чего ты, правда. Валюта как на кольцевом идет, - и отвалил ленивым крейсером. А ему в первую очередь бы глотку драть - выбивка-то совсем развалилась. Еще пуще разошелся Гришка. Народное добро на это самое переводить! Кругом так. То запчастями дороги выложены, а скоро комбайны целиком станут валяться. И в таком духе. И с ветерком. Сначала слушали. Алька, та снова к Гришке переметнулась. Тот на собраниях все рубахи на себе порвал. Ей рвать не положено, так она голосом наддает. Из-за спины, правда. Подойдет во время работы, тронет верными незабудками: - Ты докажи, Гришенька. Мне тоже стержни кривые подсовывают. Ты докажешь, ты сильный. Вздохнет Гришка - одна опора, хоть и не прочная. Веня Хрянин барсуком стал. Налился салом, залез в свою норку на сборке - танком не сопрешь. Лешка Талый мыслителем заделался. Целый день морда кверху. То ли лампочки считает, то ли еще что. Звезды вроде не видны. Тут крыши не видно из-за дымовой и пылевой завесы. А чего не считать - простои день деньской. Без перекуров. Метал, метал икру Гришка, дометался. Посмеиваться стали. Дело ни с места, одна болтовня. А где усмехнулись, там и засмеялись. Алька лягнулась, да в этот ржущий табун. Помаленьку весь цех от хохота затрясло. На кольцевом, когда такие же кренделя выкидывал, еще терпели. Тут другое дело. На все начальство замахнулся. Старший мастер при очередном обмене речами прямо тигром оскалился: - Проходы подметать иди. Венику доказывай. Там твое место. Сняли с пресса. Неделю Гришка ходил - лица не видно. Потом забрался в угол, разложил листки и начал строчить жалобы во все концы. Как из пулемета. На линии благодать. Только разговоры: - Прав Гришка. Да не с его языком. Аж голова проясняться стала. - А чего ж не поддержал? - А что мне, плохо? А сам-то? - Я близко на трехкомнатную. - То-то и оно. Через два месяца вдруг приехал гусиное яйцо с очками посередке. С коллегами. - Где этот балаболка? А-а, вот он. Ухи бы тебе оборвать, от научной работы отрываешь. И давай заново линию коверкать. Кое-что целыми узлами выкинули. В частности, выбивку. Кое-что вывели, кое-что довели. И пошло, пошло, поползло, поехало... Только металл подавай. Формовщики аж засветились. На кольцевом по пятьсот - семьсот форм выдавали. А тут новая линия стала за один раз по тысяче форм выкидывать. А в каждой форме умещалось по семь форм таких, как на кольцевом. Да во вторую смену столько же. Весь цех стал на ушах ходить. Конец кольцевому. Да и ручной формовке тоже. Не на словах, а на деле. Больше всех радовался Гришка. Но радость его была преждевременной. Начальство как было на него злое, так и осталось. Сколько нервов попортил! Здороваться, правда, стали. И все равно, Гришка у всех как бельмо на глазу. Поставь на пресса, сразу в герои вылезет. Еще неизвестно, что из этого получится. Хотя, формовщик, в общем, отменный. Кое у кого - у ответственных - мысль одна часто проскальзывала. Уволился бы, что ли! ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА . Рассказ. Завод переходил на выпуск нового комбайна. Мощного, с необъятным бункером. С комфортабельной кабинкой со множеством рычагов и, даже с вентилятором в этой кабинке. По всей территории шла реконструкция. Над старыми цехами нависли краны. Совсем старые спихивали бульдозерами и на их место строили новые - громадные и стеклянные. Не обошла реконструкция и цех серого чугуна. Наоборот, именно с него она и началась, подняв на крышей две новые вагранки. Кто ни проходил мимо самого большого и самого тяжелого цеха на заводе, непременно задирал голову кверху и цокал языком - искрогасители вагранок монтажники монтировали черте на какой высоте. Возле облаков. И кто его знает, может, оттого и дождя так долго не было в городе, что монтажники разгоняли облака палками. Четыре года начальник цеха и другие ответственные носились с вагранками, как с писаной торбой. И все же день пуска пришел. За неделю до этого события цех от волнения работал в таком напряженном ритме, что выдал продукции еще на неделю. Старые вагранки одна за другой, не выдержав, вместо жидкого чугуна забили "козлов", каждый тонны по три весом. Но это безобразие никого не опечалило. Все, от высокой, худой, с вечно подоткнутым платьем, уборщицы бытовых помещений, до невысокого, плотного, с зачесанной назад седой шевелюрой, начальника цеха, жаждали одного - пуска. Кстати, они часто спорили друг с другом - начальник цеха и уборщица бытовых помещений. Подходили к монтировавшимся вагранкам, тыкали в них пальцами и спорили. О чем, никто не знал. Как только к ним приближались, они замолкали. Но заметили. После очередного спора начальник цеха пытался что-то доказать главному металлургу завода, который на это снисходительно улыбался с высоты своих почти двух метров. Он был лауреатом какой-то премии. Говорили даже, что он сам хотел ехать за вагранками на Урал, как, впрочем, и положено человеку, болеющему за родное производство. Но тут выпала путевка за рубеж, и он со своими укатил по ней. А за вагранками ездил молодой инженер Васюков. Шла пора летних отпусков. Надо сказать, что главный металлург был человеком аккуратным. Мало того, что вернулся из загранки вовремя, он там и времени не терял даром. И теперь воплощал кое-что ихнее в кое-что наше. В одно и то же время, перед обедом, рабочие цеха видели его в опасной монтажной зоне с железной каской на голове и громадными листами чертежей в руках. В этот короткий промежуток времени руководил он с каким-то упоением, властно, не принимая возражений, заражая своей уверенностью сомневающихся, которым этого, правда, хватало только до следующего дня. Видимо, за бессонную ночь сомнения одолевали их снова, потому что на другой день они опять, как начальник цеха, пытались что-то доказать, при этом поминая недобрым словом молодого инженера Васюкова. Но осторожно, потому что тот был дальним родственником главного металлурга. В последнее время Васюков стал расти как на дрожжах. Доводы оставались безуспешными. Дав руководящие указания, главный металлург садился в черную "Волгу" с личным шофером и укатывал обедать. После обеда его никогда никто не видал. И так все четыре года. Ходили, правда, слухи, что на каком-то заводе в другом городе, замену вагранок производили за два, максимум, за три года, попутно заменив на новый сам цех. А за границей... В общем, слухи тут-же превращались в бабий треп, стоило распускавшему их увидеть главного за работой. Пораженный, он отходил в сторону: - Как-кой ум, - долго качал он головой. - Как-кая воля. И вот пуск. Еще ночью загрузили одну из вагранок самым лучшим коксом и чугунными болванками, отлитыми в Кривом Роге. Каждый компонент, из которых должен был получиться металл, прежде, чем подать в чрево вагранки, взвешивали, что называется, до грамма, чтобы ни на йоту не отступить от технологий. Во время загрузки можно было услышать такие слова: - Сколько подал флюсов? - спрашивал вагранщик у завальщика шихты. - Столько-то, - отвечал тот. Вагранщик хмурился, задумчиво тер подбородок ладонью. Потом брал горсть этих флюсов, некоторое время качал на весу, отсыпал немного и бросал на транспортер, увозивший ее к горловине. Старые вагранки испокон веков загружали на глазок, кидая туда корявые литники, и замусоренный кокс. А кое-когда проскакивало что и стальное - лопали за милую душу. Сенька Голиков лез из кожи больше всех. Мало того, что был рабкором - рабочим корреспондентом - у него еще язык на разные несправедливости будто с привязи срывался. А тут, в связи с вагранками, совсем распоясался. Его уже на цеховые собрания перестали пускать. Даже объявления на этот счет на стену вывешивали. Но если он попадал в зал, то, завидев его, выступавший скороговоркой старался закончить доклад. Тут вставал Сенька, и собрание превращалось в бурное море. В редакции многотиражной газеты на него глядели с таким испугом, будто он собирался всех пересажать, или уволить без уважительных причин, потому что приносил материалы один страшнее другого. И все-таки пыл его, не давая плодов на местной почве, стал угасать. Кое-кто обрадовался. Но рано. Задолго до начала смены, часов в шесть утра, вокруг новых вагранок собрался почти весь цех. Еще не приступившие к работе, но уже черные от рубашек, измазанных формовочной землей, формовщики, наладчики станков, которые были немного почище, чистые токаря и слесаря из инструментального отдела, и совсем чистые бухгалтера, плановики и остальные бумажные люди. Все негромко переговаривались друг с другом, завистливо поглядывая на ходивших петухами деловитых плавильщиков. Из бухгалтерского состава часто вздрагивали от громких хриплых команд: - Подддай!!! - Ос-сади-и!!! Такие страх и любопытство светились в их глазах, что, казалось, они впервые узнали и увидели, какая у плавильщиков опасная работа. Теперь уж без сомнения можно было предположить, что зарплату они получат копеечка в копеечку и не будут носиться из бухгалтерии в расчетный отдел, а из расчетного отдела в бухгалтерию, выискивая бухгалтерское равнодушие в мешке с цифрами. Да бестолково пялиться на рассчетный листок и повторять бесконечное "ну?" при объснениях на профессиональном бумажном языке почем фунт лиха. Даже формовщики, народ привычный, почесывали затылки, кидая уважительные взгляды на вагранщиков. А ведь совсем недавно, когда не хватало металла, они обкладывали их такими матюками, что у непривычного сами собой уши отлетали. Наконец, кто-то крикнул: - Идут. По проходу широко шагал главный металлург, за ним семенила целая свита добротных костюмов. Главный сразу подошел к здоровенному, с лицом, которое не влезло бы ни в какой кадр, старшему вагранщику. Все заметили, что тот с самого начала чем-то недоволен, но подумали, что просто он старается спрятать излишнюю гордость. Старший поднял руку. Плавильщики застыли каждый на своем месте. Толпа замерла, напряженно вглядываясь в ту точку, откуда должен был появиться металл. Кто не знал, где она находится, напряженно искал ее по всей вагранке. Один главный металлург сохранял спокойствие. И даже снисходительно улыбался. Оглянувшись на начальника цеха и на своих приближенных, у которых на лицах застыли маски непонимания, он улыбнулся и небрежно кивнул головой: - Прррабива-ай!!! - рявкнул старший вагранщик. Все разом вздрогнули. Ухватившись за длинный тонкий костыль, двое почетных вагранщиков тыкнули им в основание вагранки, в глиняную летку. Рука одного из заливщиков аж побелела на пульте управления копильником, в который должен был побежать металл. И металл побежал. - Уррра-а! - хлестнуло по железным фермам перекрытия цеха. - Уря! - запоздало звякнула бухгалтерия, наконец-то увидевшая, откуда льется металл, но так и не понявшая до конца этого события. И вся гуртом пошла выписывать премии, в том числе и себе. Постояв немного, пощурившись на золотистую струю, главный металлург завода похлопал по плечу старшего вагранщика, пожал ему руку и, под громкие рукоплескания пошел в кабинет к начальнику цеха., где силами цеховой столовой, нелегально, был организован небольшой променад начальственных желудков. Естественно, за счет профсоюза. С радостными улыбками за ним поспешили остальные, даже сомневавшиеся. Металл пошел. Минут пятнадцать формовщики завороженно смотрели на него, будто впервые увидели - По места-ам, - заголосили мастера. У вагранок остались уборщица бытовых помещений, как всегда забывшая оправить платье, да Сенька Голиков, рыжий, среднего роста парень, токарь из инструментального отдела. Он задержался из-за того, что по такому событию надо было давать заметку в многотиражку. Он был рабкором. - Не пойдеть, - неожиданно громко сказала уборщица. Поняв, о чем она говорит, Сенька усмехнулся, посмотрел на старшего вагранщика и удивился. Вытирая лицо грязным платком, тот сердито косился на льющийся металл. Он даже не возразил уборщице, хотя и слышал ее слова. - Почему не пойдет? - настрожился Сенька. - Металл холодный, - поджав губы, со знанием дела ответила уборщица. - Холодный металл, - угрюмо кивнул вагранщик. Сенька заволновался: - Так жару подбавьте, или как его там... - С ночи на всю катушку, - не глядя на него, ответил старшой. До Сеньки услышанное еще не дошло, но волнение уже охватывало его всего. Он знал, что такое холодный металл. На то и работал в литейном цеху. - А чего ж вы не сказали? Чего молчали-то? - завелся он. - Кому? - разозлился вагранщик. Указал рукой туда, куда ушел главный металлург. - Ему? Я заикнулся, так он меня чуть с должности не снял. А мне до пенсии год - Миксеры, - негромко прервала их уборщица. - Миксеры, - согласился старшой. - Какие миксеры? Какие хрениксеры-то? - Сеньке и не надо бы так, но вот, черт ее знает, лез, и все тут. - Какие, какие, - передразнил его вагранщик. - В каких металл до нужной температуры доводят. Какие..., - он громко высморкался, вытер нос рукавом. - Наконструировали, мать в душу... с секретами. - Если миксеры срежут - вагранкам хана, - продолжала уборщица. - Плавильные пояса - что у воробья колено. Тонны полторы - две плавки. У старых три тонны, а эти... Сдохнут на первом повороте. - Точно, - подтвердил старшой. - В миксеры нагонишь загодя тонн десять металла, потом добавляй и все. А без них час работы. А два часа жди, пока вагранка новую плавку выдаст. - А нельзя как-нибудь? - с надеждой начал Сенька. - Нельзя, - прервала его уборщица. - Конструкция негодная. Температуру не держит. Я говорила начальнику цеха. Нет, пойдут, пойдут..., - она помолчала. - Вагранки без миксеров еще можно кое-где использовать в мелких цехах, а для такого, как наш, польские по СЭВу выписывать надо. И откопал же где-то, бесов дух. Их сто лет как сняли с производства. У других не пошли, а у нас пойдут. Тьфу, - она по мужицки сплюнула в сторону. - Почему же сразу-то не поглядели? - спросил Сенька, с тревогой глядя, как заливщики начали развозить в барабанах холодный металл по формовочным конвейерам. Он был рад сейчас хоть костер развести под этими долбаными миксерами, только бы прогреть металл до нужной температуры. - Сразу, - старший вагранщик задумчиво опреся о железную стойку, поддерживавшую монорельс. - Сразу не получилось. Главного не было. За вагранками послали молодого специалиста. А когда главный приехал, их уже привезли. Кто ж за это по головке погладит? Четыре с половиной миллиона отвалили. Вот он и крутился тут, все выдумывал. Видно, с радости от загранки чертежи не глядя подмахнул. На уме больше ничего, кроме парижей родимых, - он повернулся к миксерам, долго смотрел на них. - А может, и пойдет. - добавил с надеждой в голосе. - Не пойдеть, - отрубила уборщица и направилась к выходу из цеха, на ходу вытаскивая пачку папирос. От ее слов Сенька так и взвился, потому что вагранщик было подал надежду, а она как обухом по голове. Каркает, старая калоша. - Знахарка. От... знахарка, - сплюнул он ей вслед. - Ты ее не тронь, - неожиданно повернул к нему злое лицо вагранщик. - Она всю войну при плавильных печах отстояла. Сама монтировала и сама в них чугун варила. - Он недобро посмотрел на Сеньку. - Ходют тут... Работать мешают, - и отвернулся. После обеда стало ясно - цех гонит брак. Холодный металл как следует не успевал разлиться по форме - застывал. Детали получались или однобокими, или с громадными дырками. Срочно вызванный маленько порозовевший главный металлург завода, которого впервые увидели в цеху после обеда, больше часа сам пыхтел над разными ручками, вентилями и кнопками. После чего миксера снова выдали порцию холодного металла. Вторая вагранка, ее пытались опробовать во второй смене, вообще на все забила "козла". Теперь было три "козла" - громадных кусков застывшего сплава из шлака и чугуна в чревах вагранок - два в старых и один в новой. Неделю над возникшей проблемой спецы ломали головы. Ухватившись за уши руками, начальник цеха носился по отделам. Цех, а вместе с ним и завод, стоял на грани катастрофы. Без муфт, без барабанов да шкивов - какой комбайн. Наконец. приняли решение срезать миксеры и пустить вагранки напрямую. Но пророчество уборщицы бытовых помещений сбылось. Они давали столько металла - кот больше наплачет. Целый месяц, пока разные комиссии придумывали, как спасти вагранки, цех лихорадило от нехватки металла. Ничего не придумав, комиссии одна за другой давали добро на запуск старых вагранок. Вслед за миксерами, новые вагранки начали потихоньку срезать. - Допрыгались, мать в душу, - на простоях собираясь в кружок, играли нехорошими усмешками рабочие. - Четыре с половиной миллиона угрохали, а виновных нету. - Ну как же нету! - отвязывался кто-нибудь. - Что на последнем собрании сказал главный металлург? Что так-то и так-то. Проектный институт, мол, виноват, дал неправильные чертежи. - А где он сам-то был? Куда глядел-то? - Ну! Это, брат, не скажи. Видал, каким гоголем он тут вымахивал? А ты ему претензии. - Претензии... Сколько лет цех раскрытый стоит. Половина людей на больничных сидят. И пыль, и снег, и слякоть... Тьфу. А сколько еще раскрытый простоит? А деньги? По две квартиры да по два места в садике каждый имел бы. - Зато, худо-бедно, без работы не сидишь. В Америке-то, или в англицких владениях, давно б на улице шатался. Без квартиры и без денег. - Это точно, - смеялись вокруг. Но смеялись как-то не так. - Ладно, - сказал Сенька на последнем собрании, посвященном вручению цеху переходящего Красного Знамени за самоотверженный труд. Перед этим он видел главного металлурга завода, на черной "Волге" объезжавшим цех другой дорогой. - Ладно, - повторил он, в упор разглядывая сидевших в зале, будто они были виноваты во всем. - Я в "Труд" напишу. В зале затихли. Кое-кто в президиуме потихоньку втянул голову в плечи. Теперь на Сеньку смотрели не как на лучшего токаря инструментального отдела, и не как на способного, по публичному признанию многотиражки, рабкора. А по разному. Кто как на героя, кто как на обреченного. Тех, кто глядел как на обреченного, было больше. Но были и такие, которые видели в Сеньке дурачка. Мол, ошибки со всеми случаются. Чего за это человека места лишать. Но таких было мало. На другой день утром к токарному станку, на котором работал Сенька, подошел мастер. Он был старый. Очки у него тоже были старыми. Дужки прикручены проволокой. Вообще, старик был добрый. Но сейчас казался нервным. Некоторое время мастер искоса приглядывался, как Сенька, вытерев тряпкой суппорт, отцентровал на железных подкладках проходной резец и начал закреплять в патроне здоровенную железную болванку. У него было задание выточить вал для редуктора. - Вчера на планерке из-за тебя поругался, - негромко сказал мастер. Посопев, взялся за маховик задней бабки и упер плавающий центр в торец болванки. Сенька молча принял помощь, включил фрикцион, подвел резец к закрутившейся болванке и сделал на ней риску, чтобы узнать, "бьет" она или нет. Болванка чуть-чуть "била". - Ну и что? - выключив фрикцион и снимая очки, спросил он. Старик вытер тряпкой руки: - Лезешь ты со своим языком, куда собака..., - он положил тряпку в поддон. - Ну надо тебе эти вагранки? Пошумел и будет. Что теперь с них возьмешь? Их, вон, уже на свалку вывезли. По частям порезали и вывезли. - А отвечать кто будет? - зло сверкнул глазами Сенька. - Или ты, дядя Саша, хочешь, чтобы они еще такие смонтировали и опять на свалку? Тебе не жалко наших денег? - Да... какие они наши, - махнул рукой старик. - Ты их видал, что гоношишься? Заводы, вон, строят, а сырья поблизости нету. Черте откуда везут. Или в этой, как ее, в Грузии, в городе Рустави, не читал в "литературке"? Из самой Испании целый завод привезли. Угрохали за него почти сто миллионов рублей, половину валютой заплатили, чтобы он батарейки к приемникам, да к детским пистолетикам, выпускал. И что ты думаешь? Ни денег, ни ценного оборудования на этом заводе. На свалку, как наши вагранки, вывозят. А батарейки из-за границы выписывают. Опять за валюту. Или в той же Грузии благословенной завод по производству пепси-колы возвели. И оборудование разворовали, и сахар до сих пор мешками растаскивают. А ты уцепился за железо. Сенька было задумался. Но потом с сожалением посмотрел на старика: - Пороху в тебе, дядька Саша, совсем не осталось. Что ты суешь мне в пример свою "благословенную" Грузию? Там завод по производству грузовых машин "Колхида" с помпезностью открыли. "Колхиды" выкатились за ворота проходной и сдохли. Знаешь, как их теперь в народе называют? Грузинская гордость, а русские слезы. Через сотню метров хоть опять на сборочный конвейер загоняй. Наши комбайны до полей, все-же, добираются. - Мой порох там, - ткнув пальцем в военный плакат, рассердился старик. -Выговора из-за тебя получать, что ты идейно не подкованный. На-ка, - вытащил из кармана чертеж и сунул его Сеньке. - К обеду чтоб деталь была готова, - посопел немного, посверкал из-под очков глазами и примирительно добавил. На выбивке литья она два раза уже вылетала. Не знаю, дотянет та до обеда, ай нет. На переходнике вся втулка в трещинах. Да не запори, - снова нахмурился он. И зашаркал столетними полуботинками-полутапками к себе в конторку. - Не запори, - передразнил старика Сенька, вытаскивая из патрона болванку. - Я- то не запорю. Как некоторые. Бормоча под нос и придумывая, как бы ловчее написать в "Труд", Сенька отыскал в углу кругляш латуни. Деталь надо было делать из нее. Замерив штангенциркулем, машинально прикинул, что с торцов подрезать почти нечего. Никакого запаса по длине. Походил, посмотрел по отделу. Латуни - дефицита из дефицитов - больше не было. Закрепил найденный кругляш в патроне и включил фрикцион. За себя он не волновался. Снимет тончайшую стружечку как лазером. До тысячной доли миллиметра. Какой есть запас, и того хватит. Отходов меньше. Недаром последние два года все сложнейшие детали доверяли только ему. "Четыре с половиной...", - бормотал Сенька, виртуозно подрезая кругляш с одного бока. Стружка шла насквозь прозрачная. На другой бок оставалось столько же - две сотых миллиметра. Перевернув резцедержатель проходным резцом к кругляшу, Сенька включил каретку на самоход. Работа захватила его. Только в голове неприкаянно болтались "четыре с половиной...". И если бы кто сейчас спросил у Сеньки, что такое эти "четыре с половиной", он бы сразу не ответил Деталь была сложная. Через два часа Сеньку отвлекли от работы мастер с бригадиром слесарей: - Давай, Голиков, стоим, - не дойдя до станка, крикнул бригадир. - Ну и стойте, - не думая, что говорит, буркнул Сенька. Он протачивал канавку. Оставалось перевернуть деталь, сделать два выступа, еще одну канавку, подрезать торец, и все. Фаску он в расчет не брал. Фаска - секунда дела. - Чего стойте? - подойдя к станку, опешил бригадир. Он был коренастый, с полуистлевшей тельняшкой на груди. - Чего стойте-то? - более грозно повторил он. - Чего стойте? - отрываясь от работы, удивился Сенька. - Это он спрашивает "чего стойте?", - подал голос мастер дядька Саша. - Он и спрашивает, чего... Тьфу. Чего стоишь-то? Деталь готова? - Сейчас будет готова, - недоуменно пожал плечами Сенька. - Я ж не метеор. - Метеор, - проворчал дядька Саша. - Давай скорей. Выбивка полетела, кольцевой стоит. Сенька отвернулся, доточил канавку, переставил деталь другим боком. - Четыре с половиной... От... четыре с половиной, - вытачивая выступы, бормотал он. Бригадир вылупился на него: - Чего четыре с половиной? - не понял он. - Конвейер полчаса уже стоит, а он... Тебе с утра дали ее вытачивать, - ехидно сощурил он глаза. - Ну, - поддакнул дядька Саша. - Языком то он кое-где мастер метелить, а потом выговоры из-за него, - старик обиженно засопел. - На старости лет. Сенька от этих слов только головой покрутил: - Н-ну, четыре с половиной..., - он уже проточил канавку. Осталось подрезать и снять фаску. Бригадир и мастер стояли рядом и лаялись по полной программе. Бригадир был из тех, кто считал его дурачком. Сеньке хотелось разозлиться, плюнуть на все. Но осталась самая малость. Да и на кого плевать? На конвейер? На ребят? На цех?. Не все ж такие, как бригадир. Черт ее знает, как меняются люди. На флоте, говорят, был самым лучшим корешем, а тут... Ну, дядька Саша куда ни шло. Старик. Здоровья нет, нервы не те. И то вчера на собрании за Сеньку хоть что-то сказал. И скажет еще. А этот... Сенька подвел подрезной резец, коснулся торца и отвел его. Еще раз покачав головой и пробормотав: "ну, четыре с половиной", он подкрутил ручку суппорта с делениями на сорок пять сотых миллиметра и снова подвел резец. Доведя его до центра торца готовой детали, Сенька тихо ахнул и застыл на месте. Надо было снять две сотых, а он стесал четыре с половиной десятых... За текущий месяц Сеньку лишили премии, заодно тринадцатой зарплаты, потому что по его вине конвейер простоял половину дня. Чертежи ему стали давать тоже попроще, чтобы сначала научился работать, а потом уж молол языком. Все думали, что после этого он не напишет в "Труд". А он написал. ИСПОВЕДЬ СОВКА. Я иду по городу. Нет, не иду, меня несут. Несет толпа, живая масса людей, которая проглотила уже весь воздух. Нечем дышать. Ни влево, ни вправо свернуть нельзя, только вперед и назад. Кажется, что попал в поток разящих духами бездушных резиновых манекенов. Впереди установленное кем-то размеренное прыгание тысяч голов. Слева стеклянные глаза, белое сплошное полотно лиц. Удушающая вонь выхлопных газов, беспрерывный гул железного транспортера. Головы, стекляшки, машины. Вонь, духи, углекислый газ. Напрягаю всю волю, иду в месиве как в клубке ободранных заживо змей. Я уже задыхаюсь, нет сил бороться с титанической машиной. Только одно, скорее вырваться отсюда. Но справа сплошной стеной тянутся камни с лепными украшениями, слева железные звери. Где же выход? Ищу маленькую лазейку в какую-нибудь подворотню. Но ее нет. Нервы сдают, и я уже бегу, кого-то толкаю, кричу. Или кажется, что кричу. Шепчу, а стене нет обрыва. Наконец, в ней появляется черная дыра. Едва не попадаю под колеса вылетевшей оттуда машины и без сил валюсь на лавку. Людей нет. Вокруг глухие, до самого неба, стены. И гул, гул, гул. Шум толпы и машин. Как рыба, широко разеваю рот. В спину толкают, спрашивают, к кому я пришел. Не дождавшись ответа, говорят, что туалета здесь нет и просят выйти. Умоляюще поднимаю глаза. Страшно выходить на улицу, но на меня смотрят стеклянные, без цвета и выражения, белки. Ничего не излучающее - ни одна черточка не дрогнет - лицо. Иду опять в клубок червей, раздавливаюсь в троллейбусе. Полупотухшим взглядом в окно вижу сплошные черепа машин. Страх разрывает на части, я почти теряю сознание. Кто-то нависает громадной глыбой, сажает на сидение и трет виски. На остановке выводят под руки, укладывают на скамейку перед магазином. Что-то говорят, дают таблетку. И уходят. Сознание медленно проясняется. Начинаю понимать, что приехал в новый микрорайон, где недавно получил квартиру. Поток машин меньше, людей меньше, я с жадностью глотаю менее разряженный воздух. Потом встаю и иду домой. Поднимаюсь на лифте на восьмой этаж. Жена спрашивает про какие-то спортивные костюмчики для детей. Распаляясь, принимается кричать, махать руками. Иду в свою комнату и валюсь на кровать. Тут-же по мне пускаются прыгать дети. Их двое. Слабо отбиваюсь, объясняю что-то. За стеной на всю громкость включили магнитофон. С потолка опять посыпались удары молотка - сосед сверху настилает паркет. Лай неизвестно какой собаки. За противоположной стеной назревает очередной скандал. Я это чувствую каждой клеткой. Визгливый женский голос переходит в истерический крик. Ему вторит доведенный добезумия голос мужской. Бетонная коробка девятиэтажного дома начинает содрогаться, звенеть, как пустая железная бочка. Наконец, крики выкатываются в коридор и вот уже к нам кто-то ломится. Открываю дверь. Соседи - муж и жена - продолжают драться на лестничной площадке. Вокруг бегает их восьмилетняя дочь. Это она стучала в нашу квартиру. Захлебываясь слезами, она кричит тоже, показывая на своих родителей. Слабо пытаюсь разнять. Удары с обеих сторон теперь уже сыпятся на меня. Кто-то расплющивает мне губы. Дико вскрикиваю и со всей силы, кулаком, бью в лицо. Наступает тишина. Бросаюсь по лестничной клетке вниз и бегу, не знаю куда. Снова гул машин закладывает уши, снова натыкаюсь на прохожих. И бегу, бегу, бегу... Опоминаюсь лишь тогда, когда передо мной встает водная преграда. Искусственный пруд, над которым с одной стороны нависают бетонные амбразуры окон, с другой некрутой берег с небольшим лужком. За ним - частные дома. Окраина города. Шум от скоростного шоссе на конце пруда сюда долетает слабо. Поворачиваюсь спиной к воде. Поднимаюсь на бугор и падаю в жесткую, просушенную солнцем, пропыленную траву. Медленно успокаиваясь, вздрагивает тело. Откуда-то сбоку наплывает другая картина. Районный городок. Знакомый запах меда. И вот уже над густыми кронами тополей клубятся золотистые пчелы. Сплошная, зеленая, сочная трава добралась до крыльца. Между деревьями в голубую даль бежит наезженная дорога. Иду по ней, смотрю на плавающие там, далеко, вместе с облаками, деревни, на высокое солнце, на косой полет ласточек и стрижей. И радость не умещается в груди. Дорога перешла в луговую тропинку. В небе перекатывает стеклянные бусы трепетный колокольчик. Жаворонок. Вокруг качаются пестрые пятна белых, желтых, красных, синих, зеленых и бог весть каких цветов. И река. Нет, маленькая речушка змейкой виляет меж всего этого цветного раздолья. От нее навстречу идет моя первая любовь. Тону в больших коричневых омутах. Целую в шею, щеки, губы, руки. Растворяюсь, превращаюсь в дымку. Но вот любовь отталкивает меня, отходит в сторону сама. Дальше, дальше, пока не сливается с голубым. Река разрастается, превращается в пруд, в котором тщетно пытаются развести рыбу. Тропинку срезают бульдозеры. И дом, в котором родился, растаскивают по кускам какие-то люди. Я кричу, пытаюсь защитить свое своим телом. Но надвигается громада машин. Рев моторов врывается в уши, и я со страхом открываю глаза. На зубах скрипит пыль. Встаю и иду в сторону дзотов с бойницами. Меня уже ждет милиция. Соседи помирились и теперь, тыча пальцами, в один голос доказывают, что во всем виноват я. Забирают. Долго перелопачивают всю судьбу. Отпускают. И я иду домой мимо магазина, в котором вчера обвесили и обозвали хамом, мимо колхозного рынка, на котором десяток яиц стоит два рубля, а поллитровая банка сметаны - пять рублей. Иду туда, куда идти не хочу. Потому что моей деревенской жене нравится город, потому что с ней мои дети. А больше идти некуда!.. Рейтинг: +1 Отправить другуСсылка и анонс этого материала будут отправлены вашему другу по электронной почте. |
|
© 2008-2025, myJulia.ru, проект группы «МедиаФорт»
Перепечатка материалов разрешена только с непосредственной ссылкой на http://www.myJulia.ru/
Руководитель проекта: Джанетта Каменецкая aka Skarlet — info@myjulia.ru Директор по спецпроектам: Марина Тумовская По общим и административным вопросам обращайтесь ivlim@ivlim.ru Вопросы создания и продвижения сайтов — design@ivlim.ru Реклама на сайте - info@mediafort.ru |
|
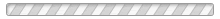
Комментарии:
Оставить свой комментарий