



Рубрики статей: |
Вернисаж Искуса
Вернисаж искуса
Вернись с вернисажа... На этих современных выставках, вернисажах ли с саженными полотнами и оскальпированными скульптурами очень забавно отмерять сажени, подкачивая и глазные мышцы адреналином, и чем выпендрежнее художник или глиномес, тем потом дольше отмывать пивом бублики глаз от публики, которой тут тоже надо выпендриваться, выжимая из себя уже всякое этакое!... На классике любой ее член норовит придать чуть благородства позвоночному столбу, а то и некоего красноречивого очарования - хотя бы своему затылку, опальцованному ли подбородку с обязательным указательным - на губах; на импрессионистах символизирующие слова взоры его затуманивает, рассеивает вместе с отражениями реальности в легкой, а то и в штормливой ряби цветовых лужиц, которые тут же замерзают в залах с плакатами соцреализма, в зеркалах которых - если еще и плакать в платок ностальгии - уже можно узнать, вспомнить и себя, даже официальным членом чего-нибудь; но тут же, в амбаре только что вспаханной целины модерна, иногда кажется, что эти чудища с промасленных холстов, даже с шершавой наждачки пастели невольно соскальзывают на пол, откуда уже вползают под юбки, ввинчиваются незаметно в мятые хоботы джинсов, накручиваются на карданы под Карденом, и вот уже глазеют, но на собственные отражения в рамках багета сквозь очки чужого недоумевающего понимания, обо всем увиденном уже вразумительно говорящего: - О, ё, наше-мое, неужели это я?! То-то эта сволочь с кисточкой постоянно щурился, предусмотрительно отходя подальше, - шепчет про себя эта уродина под чужим париком, чужим жевательным аппаратом, стараясь лишь не попасть случайно между керамических зубов со стальными сердечниками, клацающих в это время с этаким фарфоровым подвыванием вроде бы совсем иное, - о, но это же так восхитительно восхищает, что даже трудно передать само это восхищение, мама мима, брависсимо, зае... Бис, бис!... Этот мастер так мастерски показал тут свое мастерство, что я даже мысленно сама присутствую при этом акте маст..., простите, терения в его мастерской! Что вы говорите, это и есть турбанизм?! Ах, тубанизм, прямо из тубы, то есть... Да, это же просто мастурбулентно! О, да, кроме восторга тут исторгнуть было и нечего, хотя и есть на что. Конечно, это можно было и не исторгать, хотя думать такое было бы еще труднее(тут я по своему прошлому опыту их понимаю, когда сам пытался думать), поэтому они и исторгают это везде, по любому поводу, на все увиденное: полотно, сцена, экран, подшивка страниц, программ партии, голубок ли экспромтом знакомого автора, претендента, - из-за чего, кстати, я так долго и не замечал той метаморфозы, произошедшей и с куколкой моего ума, вдруг упорхнувшего бабочкой, которой надоело выползать еще и гусеницей из тюбиков сиены жженой, охры ли... - Ну, что вы, он, скорее, превосходно продемонстрировал свое превосходство, если вообще не предвосхитил все предыдущее! - знающе поправляют тому цветные лапшинки на сквозных ушах перекореженные самомнением кровавые края глубокой раны рта другого, вдруг прорезавшегося из послеобеденного чрева оратора, демонстрирующего глубоким придыханием и собственное знакомство с вдохновением, посещающим его и в других актах, ну, хотя бы пожирания ненасытным взором этого вполне диетического масла, на котором и был поджарен этот давно разложившийся труп в сплошных пятнах, который бы Сёра уже назвал серым, и который вроде бы только что за спиной давал автографы автора, тоже как бы в кубической манере буквально вырубливая, нет, даже врубливая буквы на собственном буклете же, однако, скромно подчеркивая, что непреходящая ценность его творений совсем не рублевая. - О, да, это же просто бурлеск биссектрис, булимия лоботомии, аншлаг шлагбаумов и дуршлаг... шлангов! Куда тут Шагалу, галлу и..., простите, англу! - Понятно, какой тут Дали, тут и Далю далеко... - Черт возьми, а кто же сейчас в этой даме с ее кубическими губами, биссектрисой декольте и всем попартрическим остальным, что под бархатным саваном? Неужели та кошка с прямой кишкой хвоста, то есть, наоборот, пожарная кишка с кошкой на конце? - мне это было даже страшно узнать, вдруг из-за этого тот кишкописец и сам выронит фломастер и опадет на паркет своей блузой с бантом, столько еще не дотворив, не дописав, не домалевав! - О, милый, поразительно, на это раз вы еще разительнее поразили зрителей, чем в разные другие разы! - разразился под самый потолок ее раскатистый голос, словно при этом кто-то тупым взглядом исподлобья все же разбил одно из этих кривых зеркал, звонкие на лету осколки которого падали уже вниз маслом по закону половой подлости, не донеся до пола ни единой нотки смысла, так созвучного вроде бы с маслом, из-за чего, видимо, и нельзя было заметить подмены. Да, по полу они уже и топали бархатистой кошачьей поступью. - Знаете ли, ваше искусство натюрморта просто искушает натуры и искушенные в натурализме! - Голубушка, увольте, но сама-то киса живая, - пытался тот возразить, с опаской поглядывая то на свое полотно, то на кубическую даму, - ее вкус и олицетворяет бессмертие искусства в его вечной и мученической схватке с мышками мещанства! - О, так это уже не натюрморт, а натюржор, даже натюркорт?! - блеснула вдруг тучки прически молния искусствоведения, замирая в ожидании грома сенсации. - Сенсорная сенсация! - Ну, дочке я назвал это кискиным натюртортом, - скромно тот пополнил перечень кошкописец, добавив перца в искусную дискуссию..., дискотеку ли десен. Увы, но клацанье чьей-то кусающейся пасти уже носилось зигзагами по злобно золотистому паркету, захлебываясь множеством заманчивых запахов носков, отдаваясь цоканье во вставной челюсти перезрелого педераста, который и сам уже почти обратился в застылую глину перед загорелым в печи мальчиком с двумя частями тела, отскакивая ли от случайных столкновений с сиамскими тазами, урноподобными вазами с букетами причесок, пытаясь на вкус уловить тот чуждый и враждебный запах постороннего мнения, которое едва успело прошмыгнуть вслед за мной сквозь тяжелые веки слепых дверей..., Улизнув на улицу! ...выпустивших мой вопиющий взгляд уже на выставку живых еще, жующих ли на ходу, фигур улицы, даже не восковых, не совковых уже, почему тут никто не восхищался даже царящим там воскресением, парящим небом, слегка залапанным облаками, так похожими издали на шипучую пену янтарного пива, вместе с которым в кружки вам разливают и солнце, которого из-за этого уже совсем не осталось там, увы, вообще не осталось там..., словно та кошка все же... - Там, там, там..., - о, только не это, неужели это оно, уже совсем погасшее, тусклое - в руках того оранжевого юноши с зачарованными ночью глазами, который едва уловимыми ударами лучистых пальцев спокойно выбивает на его совсем тусклом бубне томные и отдающиеся в темени звуки предвечерней тьмы, когда все вокруг погружено в давно пролитый на землю и застоявшийся свет. Отрешенные от происходящего и раскрашенные в солнечные цвета, его спутники и спутницы в развевающихся одеяниях почти плыли среди рам под крышами, извиваясь язычками пламени, ламы ли, в этом густеющем и набухающем тенью свете, до этого словно бы промокнув тонкими тканями одеяний все солнечные лужи на тротуарах, отчего кроме них все вокруг стремительно серело, как на том автопортрете кошкотворца, а что-то еще остававшееся живым сворачивало в переулки, в люминесцентные просветы стеклянных дверей магазинов, соринками залетая за веки подъездов, захлопывающихся от внезапной боли... Пенистое облако опадало, янтарь в кружке угасал, разливаясь холодными струями в смолистой пустоте тела, обмывая зябкой свежестью трепещущий осколок солнца, запутавшийся там в паутине разноцветных струн, осторожно перебираемых пальцами его лучей, отчего тело было переполнено пьянящей музыкой прошлой жизни, неслышимой уже снаружи, где взгляды равнодушных прохожих скользили слаженно по серому льду тротуаров, гонимые в спины ветрами того прошлого, не дающими возможности оглянуться, остановиться, броситься стремглав назад, зацепиться за чью-то руку, впиться в чью-то улыбку, обронить ли там хотя бы свой адрес в вечности, где это уже не повторится, где повторяются лишь эти запоздалые намерения и несбывшиеся воспоминания... Да, это был тоже вернисаж, но уже был, был... Желтовато-серый тоннель улицы с черной крышей, повсюду пробитой звездными гвоздями, сквозь дырки от которых в глаза все еще пытается пробиться солнечный свет, тут же застывающий в этом сером студне пустоты, стены которой обиты золотом окон, перечеркнутых иногда крестами. Изредка мелькают темные фигуры с матовыми, лунными лицами и безвозвратными взглядами, за спиной которых все ширится пропасть прошлого уже без намерений, без воспоминаний, где и время - лишь звуки своих шагов, обманчиво настоящих, отскакивающих от стен, а потом уж падающих в окаменевшую серость, наливающуюся чернилами. И впереди - та же пустота еще не умершего и не прожитого прошлого, но которое ты все равно не проживешь, ничего из него не запомнишь, тебе лишь надо побыстрее пробежать стометровку его бегущей дорожки, почему здесь ты уже можешь просто остановиться и не идти, не убивать его дальше, не тратить попусту! - Зачем оно мне, непрожитое прошлое, зачем эти тысячи шагов, всегда подобные одному? Какая разница - куда идти: вперед, назад ли, если и там, и там до солнца одинаково далеко, а так называемая золотая середина - лишь тот же шаг? Вокруг только мертвые тени-деревья, в которые синюшные сквозняки улиц еще пытаются вдохнуть подобие жизни, создать хоть чем-то ее иллюзию, подобную и той, что где-то там, далеко впереди, которое есть, пока до него не дойдешь. Позади даже надежней в этом отношении, оно почти вечно, но только почти, увы, и оно сразу умирает, едва лишь ты к нему устремишься, даже просто обратишься взором, пытаясь узреть его впереди... - От этих подобий мыслей тоже бежать было некуда, потому что кроме них уже ничего и нет, и бегство то равносильно их самоубийству, на которое они сами не способны, пока не принесут тебя в жертву, как то и случилось уже, но пока я лишь забывал об этом, не забыв сами слова. - Даже там, на вернисаже, среди этих вкусных натюрмортов с маслом, жизнь была правдоподобнее, видимо, она - это не сами мысли, это нечто другое, нежели мысли, которые не умирают даже в абсолютной тьме, потому они и не живут, и даже не светятся, как эти яркие глаза кошки, которая, вполне возможно, и была на той картине, потом и гоняясь там между юбок, штанов, запахов за моим пахом... Нет, моим запахом и выскочив на улицу... Брысь, адское чадо! Кошка без кишки - это как и наоборот... Ты только и можешь укусить эту безвкусицу моей плоти, эту бессмыслицу моей души, ну, и мое безумие, для чего тебе надо быть и беззубой! На, выкуси! Ха, да тебя и нет, поскольку твой кусательный инстинкт к искусству не имеет никакого отношения! Ну, не имел, я хотел сказать, теперь слово имел, иметь ли медь - и там имеется... Нет, мне было страшно, ведь и у кошки не было ума, чтобы понять это, и она могла лишь отступить на шаг, пусть и четырьмя лапами сразу, а потом догнать четырьмя за раз, если я сдвинусь с места... Но еще страшнее тут было стоять на месте самого себя, острой бритвой взгляда разрезая мир на две равных половины, в которых тебе - третьей - уже не оставалось места, ты сам становился ничем, тебя было не дано. Когда ты идешь, между ними возникает некоторое отставание, упреждение ли хотя бы на шаг, на полшага, и ты в него и втискиваешься пусть и в виде этого лишь шага, вольного ступать куда угодно, что угодно делая из того, что позади, впереди, сбоку, меняя их местами, кружа им голову, возвращаясь к ним хоть сотни раз, хотя хотелось всего лишь один..., которого и не было. Взгляд обоих глаз ее не был похож даже на обои сомнений, все же прикрывающих стену непреодолимости налетом надежды... - Чертовы таблетки! - нет даже смысла искать, шарить ли в пустоте и карманов, ведь даже их пустота уже вся - во мне, там из круглого остались только нули дыр. - Что ж, видно, вас черти и съели, чтобы не видеть самих себя... Живые шаги слов - Воронье - все это вранье! А ночи - это сами очи! Мужчина, увы, - муж чина! А девушка все ж - от дев ушка! А честь - это если уж есть! А совесть - совы весть! К тому же, их сила - с ила! Из ила ж он взять лишь мог... ила! - бодрясь, весело приговаривая, с сиренью в руках под звуки далеких сирен шла девчонка с пригорка, вспоминая того придурка, что за ней приударил утром. - Весело вам шагать, хоть и солнце село за облаком, алым лаком покрыв ноготки облаков? - не спросить ее просто сил не было, ведь даже просо звезд смеялось над соло слов ее, осыпаясь золотом ос на волосы. Глаза ей подарила черная лоза, уста она сорвала с розового куста, крылья бровей ей ласточки ровно раскрыли, тело б такое богиня любая хотела... - Иду как по льду я, летать не могу на беду! Шагаю по краю, от рая порой убегая! Боюсь я не чувств, но мечусь между них и мечтами! Венчания ж розы - что вечера в росах все зори! - отвечала девчонка, отчаявшись достучаться до чувств счастья, потеряв веру и надежд не ожидая, любая любовь улыбки ее убивала. - В дороге мне друг - пусть другой - все равно дорог! - Сама замечаешь - с ума я с сумою сошедший! Мечты только мачта, да порваный прозою парус! Стихов ветер стих, ведь как руль не лавирует лира! И сердится сердце, когда я с усердьем дерзаю! - соврав обобрал бы на пару я с нею и правду, один бы я дали навряд одолел одиночества. - Но счастлив участьем тебя обеспечить отчасти, но всем - не умею, а раз не имею - не смею! - Глупости это! Улыбку на волю выпусти! Близко идти, весь блиц - до конца улицы. Земля зелена за полями, за лесом - я знаю! И нет интереса ресницам моим там резвиться, - отвечала она безучастно на мое уже отчаяние, которое от ее стихов никак не могло стихнуть без таблеток. - Там лето иль пчел леток? Ах, да, извини, сирень умерла бы уж летом... - Странно, с тобою у нас - уже четыре половинки это мира, - пересилил я себя прозой, стихия которой была тише стихов, хоть могла быть громче, громаднее грома, - и даже вижу, насколько богаче стал выбор, отчего еще труднее выбрать удачу. Но, если ты или я повернем в разные стороны, тогда станет все равно - куда идти, раз мое позади будет твоим впереди, а твое прошлое - моим будущим. - А вдруг они при этом уничтожаются?! Ведь нам даны и два глаза за тем, чтобы одним возвращать то, что видим другим, - испуганно говорила она, закрыв глаза сиренью и даже взяв меня за руку для верности чему-то. - Да, я уже не вижу ничего, только знаю, что есть еще я, что я иду где-то, держась за руку некой мировой оси, которая держится и за меня. Так мы будем долго ходить вокруг да около, но теперь уже мы идем точно по разному: я - передом вперед, а ты - задом назад, пусть и по одному кругу, в котором есть только мы. К тому же, дважды два - это четыре, значит, умножается, но все же уничтожив тем мое... Ты, правда, сумасшедший? Да? Тогда я, выходит, наоборот - идущая на него. Мне даже нравится, что ты такой, но не нравится, что я не такая, и жаль, что ты не любишь стихи, вот в чем проблема! - Из-за них я и сошел оттуда, доигрался словами и рифмами, убрав лишь пустой пробел, отделявший меня от сумы, - честно признавался я, потому что для вранья у меня и не было ума, мне приходилось только повторять то, что было на самом деле. - Трагедия в том, что я их сочинял не для себя, не про себя, потому в один момент меня и не стало, остались только они, которым не хватало лишь моего ума, чтобы задуматься над своими чувствами, понять - чьи же они. Так они и забрали у меня последнее, что от меня оставалось. Теперь, вот, я - носильщик своей сумы, лиши ее меня, и меня не станет совсем. Мне тогда нужен будет хотя бы крест, чтобы его хотя бы носильщиком стать, но ведь для этого надо сперва поставить его на себе окончательно... - Странно, другие предпочли тюрьму суме пустых трюмов, - заметила она просто так. - Тюрьма - это соты, где пчелы откладывают мед печали, - просто так и я ответил на это. - Меня отвращала не сама тюрьма, а то, что ради нее нужно было делать: опустошать трюмы, строить терема - это муторно, это как матерные стихи. - Да, ты подошел к безвыходному входу из себя в мой мир, но мне это даже нравится, раз я иду в другом направлении, и для меня это выход. Хочешь пройти немного в моем? Тогда пошли, - сказала она решительно и открыла глаза. - Жаль только, конечно, тебе так идти совсем недалеко, потому что я уже пришла. Всего три шага, надо же, я думала, хотя бы три с половиной будет, тогда бы я тебе хотя бы половину оставила, но увы. Ты ведь шел с открытыми глазами, неужели ты не мог рассчитать? Ты погубил себя, мне жаль... Прощай! - Нет, я все же сам сделал два с половиной, но и ту половину заберешь ты, я хочу тебе что-то оставить на память о будущем, - без всякого огорчения сказал я, но она все же дала мне сдачи с моего полшага поцелуем. - Я должна быть справедливой, ведь у тебя шаг чуть больше моего, а мне лишнего не надо, - сказала она, любуясь своей помадой на моей щеке. - Она похожа на лепесток розы, который остался от всего бутона. Мне так не хочется его отпускать с тобой, но у меня все равно нет дома вазы, а поливать тебя слезами весь день мне жаль - ты превратишься так в соляной столб. - Ты можешь попробовать забрать его губами назад, - предложил я, чувствуя себя клумбным вором. - Ты бы и сам мог мне его вернуть, - с легким укором сказала она, протягивая ко мне свои губы, ставшие похожими на закрывающийся бутон. Была ночь, и я испугался, что он вскоре совсем закроется, поэтому быстро спрятал его среди своих губ, немного даже волнуясь за нее из-за того, каким же он был сладким. - Это, наверное, чайная роза, но с сахаром? - предположил я вслух, даже не подумав о том, что при этом я выпущу его обратно. Увы, теперь я унесу с собой только горечь потери. - Да, наверное, у тебя он и похож на чайную чашку, - согласилась она. - По утрам я могла бы пить из нее кофе, а вечером бы поила ее чаем, но только я такая растяпа, что вскоре бы я просто разбила ее вместе с сердцем, и обожгла бы свое кипятком случайности. Даже жаль, что это я, будь это другая, я бы оставила тебя своим сервизом на пустой пока что полке сюрпризов. Но, увы, ты сошел с ума, я пошла к себе, и мы с тобой - всего лишь одна пара сапог, в которых можешь уйти только ты один. Но ты можешь поискать меня ту, другую, но только там, где нет не меня... У нее, наверняка, есть даже ваза... Передавай ей привет от не меня! Пара одних сапог... Лучше бы она этого не говорила, потому что мне теперь стало гораздо труднее идти, вначале я даже не мог этого сделать. Ведь как один сапог я должен был вроде бы стоять на месте, пока - как другой - делать шаг вперед, даже пусть полшага. Это было немыслимо, что мне, пусть и безумному, совсем не облегчало задачи, поскольку едва я пытался стать одним, как я тут же забывал про другой, переставая быть им, едва успевая себя им вспомнить, чтобы не упасть хотя бы на его месте... Хорошо, что я еще не стал представлять на себе подковки, из-за чего я бы поднял такой шум... - Нет, все же зря не представил, тогда бы тебе было легче вместе с шумом поднимать и ноги, - просто заметил я, но даже не стал намекать на свои умственные способности, точнее, на оные способности пешехода, способного теперь только сходить, что мне и предстояло делать всегда. - О, черт, как же я не понял сразу! Дело не в сапоге, а в том, что я вернул ей лепесток, но так, что опять забрал свои полшага, отчего никак и не могу сделать один целый? Конечно же, полшага и может сделать только один сапог, а я сразу пытаюсь двумя! Вот именно, так-то оно легче и проще! Теперь я уже спокойно представлял себя то одним, то другим сапогом, переставляясь так по продолжению улицы в скорое утро, к которому и шел, поскольку, согласно и одной забытой теории, больше было и некуда, сейчас такие сапоги никто не носил, их просто бы вновь выбросили, а утро же никогда их не надевало, поэтому бы и не удивилось моему приходу, не прогнало бы, как тот вечер, сказавший мне в спину устами ночи: "Если бы ты был без ума от меня, а не от самого ума, тогда бы тебя еще можно было выносить, а так уходи сам...". Возможно, он еще добавил вслед устами же ночи, что сам я, по крайней мере, могу вынести суму, которую уж точно кроме меня никто не вынесет вместе со мной, а лишиться еще и ее было бы уже совсем невыносимо для меня, с одним сумасшествием шествовать было бы просто скучно, да и тавтологично как-то. Они ведь с ночью не знали, что же я несу в ней... Сума с ума... Но этого и никто не знал, поскольку сам я без ума тоже не мог этого знать, хоть у меня и были почти все жизненно важные органы познания, даже пожатия его плодов, да и этого не я лишился, а наоборот, он лишился меня, когда я сошел с него..., тут же и оказавшись с сумой, из которой сам собой, без моей помощи, напрашивался вывод, что в ней как раз то самое и есть, почему она так загадочно и называется и без всякого предлога. Нет, до нее тоже нечто было, что называлось Думой уже несколько безграмотно, заумно, ну, поскольку предлога Д нет ни в одном языке из мне неизвестных даже, как бы райские шахи ни шарахались тут в адрес неких извечных на Руси "д", среди которых, ясно, самих думасшедших и не было, хотя сам я бывал среди них и, видимо, искал только подходящий предлог. Нет, это не те три "С", не Сов это, что были меж Дум. Хотя, скорее всего, Сов - эта Дума, и зря я туда совал свой нос, я и для нее был мышкой. Там, в Думе все пытались умничать с умным видом и с калькулятором, думая лишь о суммах кулей, и лишь я по глупости - о чужой сперва суме, о сумме ли сум... Она и стала предлогом, поводом ли для размышлений, отчего я и стал поводырем сумы, зарекся уже от Думы, а не от нее, стремясь к ней, а не к сумме, чей зуммер в голове вдруг умер, и она очистилась от чисел. Это было все, что я вынес оттуда, из-за чего меня перестали выносить и Дома, вновь предложив на выбор: исходить из его крепости или из сумы сомнений, полной семян мыслей, бесполезных на обочине. Выбора не было: или сойти с ума, оставив суму, или идти с ней, расставшись с ним... Самое странное, но тут все же была золотая середина, кроме которой у меня ничего не было, - сума ума, умы сумы, ум сум... - Боже, да, все так и получается, и с этого замкнутого круга противоречий можно сойти и только с ней, с моей сумой! - воскликнул я в адрес той плеши в зените, подернутой облачками бачков, и с розовым румянцем зари на щеках, той плеши, из-за которой все же считал и Его умным, а не просто верил в Него, как и в себя теперь. - Прости, но мне даже интересно, а можешь ли Ты поверить мне, в целом ли нам? Ведь не понятно, а зачем нас было делать не богами, кому нельзя верить, хотя нельзя и знать? Что бы мы делали то, что Ты не можешь? Думали о Думе сумм или все же верили уже в Тебя, сходили с ума и ходили с сумой? Если так, тогда я вижу в этом и свой смысл безумца, сумоносца, как и эту церковь, загораживающую мне восходящее солнце, словно пренебрегая всеми теми, кто сейчас западнее, опять всех деля на тех, кто перед и за... Глупость же, ведь те, кто на востоке от нее, те в благодарность повернулись к ней уже и спиной, прочно сидящей на том самом месте и стоя... Не хочу быть ни теми, ни другими - придется зайти, вдруг это другая золотая середина между теми, кто не видит, и теми, кто не смотрит... Дверца церкви - Как почему я в кепке? - не понял я вопроса в лоб этой дамы в черном, подозревавшей меня, похоже, в чем-то, едва лишь я вошел сквозь эти тяжеленные двери, с трудом и даже как-то болезненно открыв их. - Ну, во-первых, потому что у меня нет шляпы, берета, пилотки, ну, и этой... крышки плеши, во-вторых, потому что под ней у меня - все же плешь, и, вы знаете, могут же подумать, что я умный, а мне бы не хотелось никого из вас обманывать и в этом... - Ну, а в-третьих?! - даже немного обижено спросила она в нетерпении, словно решила проверить предыдущее мое заявление. - Третьего не дано, насколько я помню, - озадачено отвечал я, хотя это была истинная правда... О, черт, это же как раз не была ни правда, ни ложь, чего и не было дано. - Простите, но третье я и хотел тут найти, разыскивая золотую середину между прахом вчера и миражом завтра. - Вы что, на это золото намекаете?! - уже совсем подозрительно разглядывало меня это бледное яичко в черном ободке, точнее, в черном квадрате, в который был вписан круг головы, с нарисованными на ней голубыми глазками и чуть розоватыми губами, которые у нее, видимо, лишь и умели краснеть. - Во-первых, это святое золото, освещенное, во-вторых, церковное... - А в-третьих? - с интересом спросил уже я. - А третьему не дано! - запальчиво выпалила она догмат логики, вместе со мной ошалелыми глазами глядя на картину как раз с тремя персонажами с золотыми монетами над головой. - Боже, прости мне язык враг мой, и этого вражину прости, искусителя... - О, нет, и тут кусаются! - испугано завертел я головой, заметив вдруг искусанное до крови тело, висящее на кресте. - Боже, а что же вы сделали с его головой? Неужели и он?... Да-да, мне примерно так и казалось, что так он и уходит из меня, когда я сходил с него, было так больно... Почему же он не сойдет тогда и с этого креста за одним? - С креста не сходят, а восходят, - уже уголком рта бурчала дама, взглядом следя за бородатым мужчиной, но тоже в черном платье, правда в шапочке, а не в кепке, появившимся из других, уже сплошь золотых дверей с золотым же крестом на груди, ну, чуть пониже, на солнечном как раз сплетении... - Да, я помню, помню... Дом восходящего солнца, конечно... Я ведь поэтому и зашел сюда, потому что оно еще до креста не добралось, чтобы окончательно взойти, - спешно соглашался я с ней, потому что из-за нашего разговора не слышал, что тот говорил стоящим впереди старушкам и женщинам в квадратных платках. - Раз восходят с креста, тогда понятно, зачем там наверху такой широкий купол, из-за которого ему можно взойти только в последний момент... Но, однако, тогда почему он хотя бы не взойдет с него, зачем же мучить человека? - Какие-то проблемы, братья и сестры? - спросил тот мужчина, неожиданно оказавшись перед нами, и, видимо, сравнивая свою шапочку с моей кепкой. - Батюшка, этот искуситель спрашивает, почему же Господь то не сойдет, а то не взойдет с креста, - склонив голову, словно что-то разглядывая на мозаичном полу, бормотала уже виновато моя недавняя обличительница. - Извините, дедушка, но это вовсе не я искусал, я сам даже сбежал с вернисажа от такого искуса, почему мне и этого господина искусанного стало жаль, вот я и спросил, - не мог я не оправдаться, такой уж у того был взгляд, а каков был рот, из-за бороды не было видно, только две крошки я и заметил, да одну красную капельку, словно он тоже... - Ну, взошедшего Господа не дано видеть простым смертным, но кому помнить о страстях Христовых все равно не помешает, за нас страдал ведь спаситель, избавитель и от наших искушений, - мягко отвечал тот, уже странно посматривая на меня, словно я и впрямь могу укусить, видимо, поэтому и протягивая мне белую корочку. - Утешьтесь... духом, ибо ваше есть царствие небесное... - Спасибо, хотя... не здесь же есть... А про него вы точно заметили, всегда ведь страдаешь за кого-то, из-за кого-то, хотя и по собственной глупости, - вздохнув и спрятав корочку в руке, поддержал его я, отчего та дама еще ниже склонилась, словно уже нашла, но поднять все же стеснялась. - Но, знаете ли, дедушка, после того, как я сам сошел все-таки, а не взошел, потому что не с креста, а с сумой, то из-за отсутствия и глупости, покинутой мной вместе с тем самым, я уже не страдал, но сегодня... Мне даже просто больно смотреть на него, у меня прямо вот здесь и вот здесь, ну, и здесь тоже - такая боль, что и таблетки не помогут, хоть их все равно нет, черт сожрал, видимо... - Свят, свят, свят! - испугано пробормотала дама в черном, видимо, и пожалев черта. - Что ж, отрок, сопереживание Господу - это тоже почти вера, Господь и таким образом нисходит до нас, даже и в этой корочке, - спокойно продолжал тот, странно лишь поглядывая на мои ладони, которые и впрямь словно кто-то уже прокусил, а на одной даже кровь выступила и уже почти засохла, из-за чего мне пришлось спрятать корочку уже среди слов во рту. - Покажите-ка, покажите-ка! Сестра... Сестра! Что с вами? Позовите же дьякона... - Я же говорил ей, что это не я, что это и меня кто-то укусил, - я уже не на шутку испугался еще и дьякона какого-то, чье имя мне вдруг напомнило нечто, тоже кусающееся... - Нет, вы извините, но я тогда и отсюда должен бежать поскорее, раз я даже искусство бросил из-за этого, хотя и без ума мог бы вполне предаваться там искусам, как и другие... - Отрок, куда же вы?! Это же стигматы! - воскликнул мне тот вслед, но я уже с трудом раскрывал эти тяжеленные двери, в момент чего меня опять кто-то цапнул за больное место зубами гвоздей... - Что вы, что вы, никаких больше стихов, никаких матов, раз это теперь одно и то же! - пообещал я ему сквозь щель кусающихся дверей, бросив последний взгляд коллеге по путешествиям... На улице мне пришлось подальше отойти от церкви, чтобы увидеть, как солнце восходит с креста, слегка перечеркнувшего его черненькими уже линиями, что еще можно было разглядеть, поскольку оно было не таким горячим, не жгло еще глаза стыдом за все увиденное. - Вот так, поставили на тебе крест, а теперь и восходить можешь, - с каким-то даже скепсисом сказал я вслух, и тут почувствовал некое родство... - Так, а если я с той стороны подожду, когда оно сходить будет? А, мадам, или оно не станет сходить с креста? Астрономию-то я учил еще там, еще когда был на том, хотя опыт поставить не мешает, истина - тоже критерий практики, если посмотреть с другой стороны... Надо же, какая вкусная булочка! Зря я не попросил целую... Тогда бы я спокойно дождался там этого... вечера, из-за которого, кстати, я и сам сошел! Да, все же надо было мне это сделать прямо утром, не дожидаясь... Я ведь тогда и подумал так, ну, пока еще мог, пока еще в голове было ясно... Догадывался же, что восходить и сходить - это почти одно и тоже, лишь время у них разное... Крест на холме за крестом... Естественно, что из-за этой церкви я, видно, и не заметил, что за ней был холм, с которого солнце восходило до того еще, как взойти с креста, почему купол тут был и не нужен! Понятно, что изнутри та дама не могла это видеть практически, полагаясь, видимо, только на догматы логики, ну, или их стигматы, из-за чего я ей все простил, поскольку прежде и сам часто так обманывался, пребывая в другом храме, где одни заблуждения можно было менять только на другие, блуждая по склонам Парнаса по подножному корму Пегаса... Холм, понятно, был тоже странноватый, раз я его сразу не заметил. Он был совсем пустой от прихожан, но уже снаружи, а наверх вилась, как огромный уж, каменистая тропинка, в самом конце которой можно было тоже заметить что-то подобное кресту, что им и оказалось, когда я нашел уже под ним две большие круглые булки хлеба, одной из которых можно было забивать гвозди в деревянные перекладины креста, зато второй можно было уже забить желудок до отказа, не оставив там места и этой сосущей пустоте, даже немного устранив и в суме пустоту, которую теперь я иногда ощущал и в голове, но забить которую уже было нечем, она только сильнее гудеть начинала, из-за чего я даже мог реально представить, как все то происходило, что я сам не очень помню: загудело, вонзилось, потом я, бац, клац ли лиц, сошел и упал - все! Потом, ночью, пустота и сосущее чувство голода в голове, но кормить меня уже вообще никто не собирался, в этом деле кухарок тоже нет, с этим я согласен был с ней, зная всю кухню... - Теперь кухарки опять все заправляют даром государством..., - намекнула мне она, отложив универсальную приправу в сторону, на что-то, что понять мне было уже нечем, она ведь уже поставила мне диагноз, выставив за дверь, откуда я и направился на выставку, хотя мне так хотелось называть ее именно "Вернис... аж!". Но в тот час он был тоже закрыт, был тоже выставкой... - Однако, этот крест все же лучше, - заметил я, прислонившись спиной к его теплой уже древесине, тоже цветом солнца. - На него, видимо, еще никто не восходил, не сходил с него, ну, кроме солнца лишь. А если и сошел Он, то еще лучше, крест без Него - это уже не орудие пытки, а цель, ну, прицел ли попыток! Странно, но из-за него почему-то и сам холм похож на церковь, но только наружную, а не внутреннюю, в которой ты сам словно внутренность. Все ведь крестом определяется? Да, когда на той церкви не было креста, она же была каким-то складом, как я вроде бы помню? А теперь там уже не мешки и мышки, а люди все же и совсем не смешные, смышленые... И холм этот я не заметил, пока не увидел его под крестом. Булочки только здесь побольше, потому что дедушки нет, наверно... И видно вокруг гораздо больше мест, почти сразу - все дороги, по которым можно идти, но здесь этого тоже не надо, поэтому можно и не смотреть, а лучше смотреть в себя, где теперь вообще ничего не видно, потому туда не надо ни сходить, ни восходить. Необычное это чувство - не надо! Там тоже было не надо многого, но самого этого чувства не было, а теперь даже его не надо, но зато оно есть, как есть и хлеб... Нет, оно еще не полное, еще надо посмотреть, как сходит и солнце с креста, а после этого уж... - А это кто... съел наш хлеб? Ты что здесь делаешь?! - услышал я громкие голоса неких существ, стоявших надо мной, загораживая солнце, отчего сами они слегка светились по краям, особенно средний, длинноволосый и тоже с бородой... Да, теперь у них появились и лица, даже видны были их черные, по краям с окровавленными нитками рубашки. - Теперь ничего не делаю, а до этого ел ваш, как вы сказали, хлеб, который для того и есть, - признался я честно, даже благодарно немного за наводящие вопросы. - Нет, только половину, но от половины, потому что этот зачерствел, пока я ел тот. Странно, если его не есть, то он есть... В той церкви мне корочкой только аппетит растравили, хоть я травку еще не пробовал... Ну, а раз тут церковь, значит, тут тоже хлебом угощают... - Причащают чаще. Ты прав, мы думали, что ты просто не понимаешь, - добродушно уже так, ну, потому что и было уже душновато слегка, сказал бородатый, и они чуть отступили, открыв как раз духоту солнца, что все объясняло, а сами сели рядом на камни преткновения, наверно, ну, потому что не подводные. - Нет, тут вы как раз не ошиблись, потому что я вообще ничего не понимаю - нечем, - честно признался я. - Это все ваш - видимо - крест, которым, я теперь уверен, солнце не зачеркнуть, раз он одного с ним цвета. Понимаете, как это здорово, когда что-то нельзя зачеркнуть, хотя можно разом - все? Пусть хотя бы солнце останется... - И многое ты зачеркнул, - спросила одна из женщина, но тоже в рубашке, понимающе глядя на меня. - Все, но только не просто крестом, а умом, с которого вдруг и сошел, как мне сказали, ну, а не верить я уже не мог, потому что не мог знать, раз ума нет, - пояснял я. - Ну, а его крест все же был и был красным, как роза, это уже я видел, а не чувствовал даже. - Ты сидел в дурдоме? - поинтересовался второй из них. - Нет, что ты, лежал, хоть там дур не было, там были только эти ангелы в белых халатах и даже в небесно голубых, - мне даже немного неудобно было и перед теми, которых тут не было, что их так назвали, ведь они были последними, кто - хоть и кололи меня уколами - были добры ко мне, что, конечно, некоторые и считают дуростью, но я-то не мог им отплатить злом, ведь у меня больше ничего и не было тогда. - Это мне сказали уже потом другие, те, кого я раньше считал ангелами, но после этого я ведь уже не мог что-то считать, раз я помню только само слово цифры, но при виде них самих у меня в голове начинается вихрь, она распухает, как снежный ком пурги, во время чего я, видимо, сильно похож на снеговика из ваты, если ту еще и зажечь... Понимаете, чтобы понять отсутствие ума, надо ведь быть тоже умным, а те ангелы были просто добрыми, они не могли быть и дурами... - Что ж, брат, эту требу мы принесли своим богам, и если ты съел ее, то ты почти один из них, просто... не знаешь этого, - сказал задумчиво бородатый, и я даже позавидовал ему в этом немного, - ведь тебе сказать это некому. Ну, кто бы мог чему-то научить бога, подсказать ему что-то? Мы даже представляем их себе неверно верой, в меру своего ума, пытаясь восходить до них, прыгая выше головы... Да, а ты, видишь, сошел до нас с него, что опять же может сделать только бог... Ты нас очень обрадовал, мы ведь и пришли посмотреть, приняли они нашу требу или нет - ты принял! Тебе некуда идти? - Что ты! Посмотри только: куда - можно! - Я не глядя обвел рукой все то, что уже видел до этого. - Просто мне никуда не надо, ну, может быть, пока, пока не появилось что-то нужное кому-то... Пока же я хочу увидеть, как и солнце сходит с креста, ну, потому что я хотел бы, чтобы и Он с него сошел, там Ему ужасно плохо... Если честно, мне на своем... было тоже не очень, я так рад был с него сойти, это я точно чувствую. Почему плохо? Ну, потому что он сам и видит, как он же... распинает - вспомнил, наконец, я слово - на себе сердце, тоже истекающее кровью прямо на него, вбивая в него гвозди якобы самопожертвования, хотя жертвой было оно, ведь оно лишь страдало за него, истекая внутренними слезами... Да, даже глаза иногда заливая... Какое ужасное слово я вспомнил, теперь уже его не забыть. Это было распятие, обращающее все вспять, оставляющее ли на распутье... Остается только его замалчивать, потому что во рту оно становится еще страшнее, его же там можно сделать разным, с разными смыслами, но мне и так больно за того человека, господина ли, как его те зовут, словно издеваясь над страдальцем, господином своих истязателей. Ему не позавидуешь, если Он при этом не сошел с ума, если Он все это понимает... Это ведь самая страшная мука - понимать ее! Это уже само терзает, когда и нет самих причин, отчего еще больнее, ведь этой болью уже не поделиться с причиной, ее даже нечем оправдать. Это кара, которой ты караешь сам себя за других, зная, что незаслуженно. И какое же при этом счастье - оправдание себя сумасшествием! Я видел, как им трудно было сходить со своей церкви, как их ноги так и пытались повернуть назад, словно бы они тоже хотели сойти не просто с холма, но их время еще не пришло сюда вместе с ними, оно еще оставалось там, в главном их месте, в их уме, который у них был всегда с собой, почему у них и было то главное, куда они должны были сходить просто с холма. У меня это тоже было и убыло с улыбкой... Схождение с восхождением... Для меня все это главное теперь было в суме, где я все равно сам без ума не мог оказаться, поэтому его и не было нигде для меня. Оно было только само для себя, даже в отличие от хлеба, который могло преломить со мною моими руками, давая мне каждый раз ровно половину... Поэтому я и мог спокойно дождаться того момента, когда солнце вновь оказалось на том кресте, приблизить момент чего я смог случайно, спустившись на середину склона холма, потому что мне все же не терпелось это увидеть. Когда я спустился еще ниже, то и оно тоже вместе со мной как бы сошло с того креста дальше и скрылось за куполом. Но когда я, очарованный видением, вновь стал подниматься на холм, то и солнце вместе со мной вновь начало восходить на крест и далее в небо. Не знаю, каким образом, но мы словно бы понимали друг друга, сходили и восходили одновременно, причем столько раз подряд, что оно неизбежно устало, но, к счастью, к тому времени мне уже некуда было дальше восходить, я взошел на вершину, не став подниматься на крест, хотя оно так и подталкивало меня на его, поэтому, слегка порозовев и бросив на меня усталый прощальный взор, сошло уже с креста окончательно, исчезнув даже с земли, убрав за собою и золотистую дорожку на море, по которой, возможно, приглашало и меня пойти за ним, но я бы не успел до нее даже долететь, столько между нами было нагромождено этих темных, непреодолимых глыб домов, кварталов, по улицам между которыми вились уже фиолетовые стоглазые змеи сумерек, глаза которых и светились почти так же, как у той кошки, но иногда их было столько много, что и сами змеи становились просто огненными чудищами, медленно ползущими по извивающимся вместе с ними улицам, переулкам, по пути заползая и в дома, изнутри тоже переполняемые золотом их света, все же не похожего на солнечный, как и цвет золотого креста. Было даже удивительно, как я выбрался оттуда живым, боясь даже кошки... - Видимо, тогда ее там не было, это, наверно, уж тропинки и сполз туда для размножения, - предположил я, не видя уже его. Смотрел я на них только потому, чтобы залечить страхом печаль от того, что я не смог помочь солнцу и дальше восходить, что я достиг своей вершины, и на крест восходил лишь в его лице, а в своем - не решился, что для него обернулось почти трагедией, ведь я-то все же сошел с ума на Землю, а не за нее, что она бы и сама могла сделать, должна была делать, не сваливая на других. С горечью я осознавал свою беспомощность, глядя, как запоздало гвозди звезд пробивают небосвод, хотя и мог вроде бы винить в этом холм, что было бы глупо делать даже умному, потому что холму это и не нужно было, раз на него восходят. Он-то мог и понять, что если бы он сам постоянно этим занимался, то он бы давно мог замучить солнце таким постоянным восхождением, отчего оно бы могло забраться на такие верха, которые мы даже представить не можем, а не только увидеть. Тут я и понял, кстати, почему земное восхождение может быть и опасным... Мне же это было простительно, солнце, может, на меня и не обиделось, а просто снисходительно в конце дало понять, что это все была игра его со мной, кого оно не принимает всерьез, не могло лишь просто так обидеть, ведь оно было таким добрым всегда, всегда возвращалось даже к тем, кто его не ждал, ни разу не обманув и тех, кто его любит, отвечая только добром на добро и даже на зло ночей, что и наш ум не всегда понимает, но что я все-таки смог почувствовать, мне уже не мешал скептицизм разума, да-да, этого одноразового ума, которому после него - хоть потоп, даже этой черной воды ночи, постепенно заливающей и гасящей огненных змей, оставляя лишь светляки неподвижных фонарей, да этих головастиков, изредка проскальзывающих по улочкам. Гасли и глаза домов, что меня уже не огорчало, ведь ни один из них не смотрел на меня приветливо, зазывно, не сказал вдруг "Вернис..." Мы считали друг друга мертвыми, слепыми ли, уже чужими. Уж, уже - это слово аж кусается... "...аж". Мне потому и стало до ужаса страшно сходить туда одному, без солнца, отчего я тут же пожалел, что не побежал за ним, к его дорожке, за край которой мог бы ухватиться... Поэтому я вернулся к кресту, вновь оперся спиной о его еще теплое, словно живое древо, преломил еще раз пополам хлеб со своей сумой и впервые за столько дней спокойно заснул сам, что прежде за меня приходилось уже делать сну, которому я сопротивлялся до тех пор, пока он не сбивал меня где-нибудь с ног, подло ли подставив свою, скамейки ли в парке... Сон пробуждения... Словно в примирение сон на этот раз увел меня из этого города в другой, только лишь внешне напоминающий этот: изгибами отдельных линий, подобием некоторых фигур, отдельными элементами архитектуры редких старинных зданий, которые еще можно было как-то запомнить, - но в целом он был неузнаваем даже днем, когда я там и оказался и, вроде бы, даже вновь умным, то есть, не сомневающимся или свято заблуждающимся в этом. Странно, но я не сомневался и в том, что это был мой город, из-за чего потом и понял, что и в остальном я заблуждался по наивности, хотя в этот раз это было даже приятно, мне нравилось быть умным здесь, то есть, понимать простоту других адекватно... Улицы только со стороны, из-за домов могли казаться такими же узкими, как само это слово, но едва я выходил на них, как они распахивались широкими проспектами с тротуарами, подобными тем дорогам, не говоря уж о зеленых газонах, обращавших эти тротуары в тенистые аллеи с множеством лавочек, что мне напоминало нечто... Нет, это был не тот город, старинные, массивные дома были здесь музейной редкостью, то есть, музеями, а остальные же изумляли воздушностью и свободой архитектуры, а также ее разнообразием... Повсюду было множество самых невероятных фонтанов, в струях которых на солнце всеми цветами радуги играли мириады алмазных капель, не нуждавшихся ни в какой подсветке... Машин я почти не видел, но повсюду не просто шли куда-то, а просто гуляли люди в светлых и ярких одеждах, с открытыми лицами и ясными взглядами, словно бы не смотрящими, а освещающими тебя своим светом, в котором даже читались простые и добрые мысли: "Приветствуем тебя, незнакомец!", "Ты прекрасно выглядишь, парень!", "Рады тебя видеть, дружище!", "Если бы я не была замужем..."... Больше слов и не надо было, потому что все становилось понятным, да и эти я просто додумывал, пытаясь покороче сформулировать то многое, чем были полны их взгляды, приветственные кивки, взмахи рукой, изгибы бровей... Иногда у питьевых фонтанчиков с газированной водой, так смешно шибавшей в нос сна, можно было и переброситься с кем-то несколькими фразами об этом чудесной городе, о прекрасном мире, его окружающем, а часто и о том, как я изменился даже за эти пять минут, менялся ли на их глазах... Почти от всех, даже от просто прохожих исходило некое желание сказать мне и всем что-то хорошее, словно это им самим доставляло невероятное удовольствие, даже у фонтанчиков они останавливались не просто попить, а обменяться комплиментами. Конечно, понять это я бы мог только будучи по настоящему разумным, но я ведь был словно бы в будущем... Некоторые тут же приглашали меня в гости к себе, в музеи ли, хотя дома и музеи походили друг на друга обилием именно музейных экспонатов, дивных мраморных скульптур богов, людей, огромными картинами, полными воздуха и красоты, отдельных предметов затейливой мебели... Все дома были открыты во все стороны арками, террасами, во дворы вели не двери, и те были полны зелени и цветов, и повсюду спокойно разгуливали, летали мирные звери и яркие птицы, голоса которых сливались со звучавшей отовсюду музыкой, словно бы и льющейся с неба, алмазными нотами - из фонтанов ли... В их домах мы тоже в основном ходили, редко садясь на диваны напротив какой-нибудь картины, чтобы обсудить ее, узнать, что на ней есть неузнаваемого... После этого мы шли дальше через сады, где я уже знакомился с другими людьми, словно специально вышедшими нам навстречу. Увы, в их домах мы могли застать и других прохожих, заходящих сюда посмотреть на что-нибудь, потому что эти дома были не для того, чтобы тут прятаться от других, а просто как бы для того, чтобы каждый мог создать для себя и для всех свой кусочек города, свою полянку Земли, но при этом считая своим и все остальное. Некоторые женщины, к которым мы заходили в дома, могли иногда вдруг поцеловать меня, когда на них нисходило вдохновение с какой-нибудь из картин, а не с ума, но это было подобно и их улыбкам, не вызывая никаких иных ассоциаций. И без этого казалось, что все люди просто любят друг друга, и все это знают, считая это вполне естественным, как дышать, ходить, беседовать об искусстве, о жизни, просто жить... Странно, смутно я понимал, знал даже, что сплю, нос мой даже чуял сон, но мне все же как-то издалека казалось, что здесь я, наоборот, лишь и проснулся из того кошмара предыдущей бессонницы, когда я метался по тому уже городу наподобие бездомного пса, еще не обозлившегося, еще помнящего своих хозяев, но уже запуганного всеми остальными, к кому ты вдруг устремлялся с открытым взором, запоздало увидев ошибку, а не улыбку, увы, даже в знакомых прежде лицах, теперь старающихся хотя бы не узнавать тебя из милости, конечно... К концу сна, когда я все ближе и ближе подходил к краю нового города, к этому зеленому холму, меня все больше страшило настоящее пробуждение, словно бы этот холм и был уже кладбищем моего прошлого, не видимым из-за сплошной зелени, на котором я в итоге и должен был умереть назад для этого мира, поскольку окончательной смерти я не мог представить, она и была такой - пробуждением в мире ужаса, куда и полз знакомый уж тропинки... Иногда мне даже отказывали ноги, и мои попутчики понимающе успокаивали меня, убеждая, что я еще вернусь, что как раз все остальное - временно и преходяще, даже безумие, с которого мне лишь надо еще раз сойти сюда... Последнее, что я помнил, это и был огромный холм из сплошных могил, которые я уже видел под кронами высоких деревьев, стволы которых совсем не застилали виденное. Но их сплошные кроны не пропускали сюда ни звуки города, ни свет солнца, могилы словно бы сами слегка светились, даже сгущая чуть воздух над собой... Но ужас был не среди них, не под ними, ужас был где-то за, на обратной стороне Земли, которой нет только у солнца, мир которого и был здесь, хоть я его и не видел, ну, поскольку оно там было во всем и повсюду, даже во взглядах... Воскрешение под крестом... - Вернис... саж, - только и успел я сказать, как черный ужас сковал меня ледяным холодом неподвижности, когда я взошел на вершину холма и вновь открыл там глаза, хотя только что перед этим смотрел ими перед собой, на огромный серый крест уже обреченным взглядом... Открыл вновь глаза я, словно бы упав в свой прошлый взгляд, ну, то есть, уже как бы выпав из еще предыдущего передо мной, из себя ли, вновь с трудом понимая и осознавая происходящее, приходящее ко мне, самого себя... Земля, на которой я вновь очнулся очами, была черна и холодна, торчавшие из-под ее тонкой кожи ребра, кости впивались в мое беспомощное тело, пытались продавить его до самого сердца, пока оно было сковано тисками тоски, опутано путами ужаса, которым был переполнен я весь, словно бы впитал его в себя отовсюду, пока отсутствовал, а теперь он мог бы или сдавить мое сердце, или же разорвать меня на куски - так ему не хватало внутри места... Живыми были только глаза - очи ночи! - и ими в черном омуте ее я уже видел прежний город в свете фонарей и редких тусклых звезд, и именно здесь, в жизни, я и был скован тем ужасом смерти, как несколько раз у меня бывало прежде только во сне, из которого хотелось проснуться. Но теперь я ясно ощущал, что я проснулся, что жив, но мое тело было словно бы мертво, мертвее деревянного креста, оно совсем не подчинялось мне, будто я уже давно должен был его покинуть, но тоже был не в силах этого сделать, потому что..., да, потому что я был вновь безумен, моими мыслями вновь были те обломки фраз, исковерканные и искореженные до неузнаваемости слова, хаотично скачущие, как птицы с перебитыми крыльями, в пустоте головы, из которой выйти мог только взгляд, которому ум был и не нужен, ведь он видел только то, что есть вокруг, чего не нужно придумывать, что от тебя никак не зависит, потому ты здесь все равно мертв, даже когда ходишь, когда разговариваешь, якобы живешь, но на самом деле являешься лишь безвольным рабом, марионеткой этой мертвой материи - как созвучно,! - с которой ты ничего не можешь сделать, не можешь ее оживить, это она может умертвить тебя, держать ли полуживым в своих цепях, объятиях ли, подобных этим, высасывающим из меня последние струйки дыхания, которого я уже и не ощущал, но удивиться этому не мог - я вновь был безумен! Таким же я лежал и тогда, когда голова моя лопнула, взорвалась из точки, и я распался на части, уже не узнающие и не понимающие друг друга... Потом среди них возникло некоторое понимание в виде желания этого, они уже могли координировать желательность своих действий, если вдруг не забывали об остальных, когда только сердце лишь продолжало самостоятельно биться, но даже дыхание вдруг путало вдохи с выдохами, ноги заплетались, спотыкались, теряли под собой землю, находили ли ее не там, так как взгляд видел совсем не то, что было нужно им, с каким-либо запозданием, или же опережая все... Даже при полном взаимопонимании тело мое все равно состояло из каких-то независимых кусков, членов моего только парламента, а совсем никакой не думы, за которыми нужно было следить, хотя это было невероятно трудно и непривычно... Даже в голове из-за этого постоянно возникали - нет, не мысли - разные чувства, независимые друг от друга: я мог наслаждаться каким-нибудь сильным и сытным запахом из булочной, видя при этом надвигающийся на меня трезвон трамвая, но слух мой убаюкивала иная музыка изо рта репродуктора, рождающего яйцо гармонии, которую я никак не мог и не хотел бы перекричать, переорать, и, только увидев в переулке кошку, тут же пускался бежать от нее, словно тень мыши... Боже, от кого бы я бежал, будь я женщиной? - Глупость, она, видно, и есть кошка, и даже та девчонка..., - сочувственно посмеялся я над собой губами трагика, вдруг понявшего смысл комедии, где он оказался случайно в роли комика. Сейчас в моей голове тоже одновременно роились и таяли воспоминания о том моем пробуждении, такие стройные, как мысли, а рядом с этим все мои чувства вопили от ужаса, требовали вновь закрыть глаза, убить их опущенными вниз пальцами, но те знали о беспомощности последних и холодно и обречено разглядывали этот мир смерти, даже не сомневаясь в этом как бы назло всему остальному, что было еще во мне. Глаза сейчас были подобны в этом моему былому уму, эгоистичному лишь со мной, до кого ему не было дела. Смерть они видели во всем: в застылости неестественно простых и ровных линий зданий с крестами антенн, в черноте крон деревьев, но все же колышущихся от ветра, ворошащего сухие струпья их кожи, и даже в синеватом свете редких звезд, похожих на разбросанные среди туч гнилушки или же кости. Само небо от страха плакало невидимыми слезами, обжигавшими мою кожу. Повсюду среди этого скользили бесформенные тени в разодранных одеждах, шкурах ли, просто ли голыми, в лоскутах лишь кожи, рыща по всем закоулкам в поисках моего трупа, порой мелькая совсем рядом, даже задевая его краями сырых одеяний, отчего он еще сильнее застывал в абсолютной недвижимости... почти до самого рассвета, разогнавшего эти тени во мрак дворов, скверов, переулков с крыш и с моего холма, после чего этот труп уже мог делать какие-то нелепые, отрывистые движения, постепенно сбрасывая с себя оковы своих предательских мышц, будто стряхивая мышей... Возвращение в никуда... Солнце вновь восходило, но я спешно спустился с могильного холма, и, словно обидевшись на это, оно тут же вновь скатилось за него, поджидая меня уже из-за его угла, брызнув оттуда озорно своими яркими лучами, приглашая вновь поиграть, просто ли пытаясь ослепить меня из милости, чтобы я не видел вновь всего этого, убежать от чего не удалось даже в безумие. Моему заледенелому и промокшему телу, дурной ли голове было не до игры ногами, поэтому и солнце вдруг сердито задернуло занавес туч до самого горизонта, дав мне понять, что это была бы не просто игра, а игра в жизнь, но по его сценарию. Но я еще был холоден... Повсюду можно было сразу заметить, где носились эти жуткие тени, клочки кожи и одежд которых облепили стены домов, их носило сквозняками по тротуарам, сбивая в кучи в углах дворов, кроны деревьев были всюду помяты, листья вывернуты наизнанку, повсюду были видны лужицы их мокрых следов, а из разорванных ими в гневе подземных жил то там, то сям сочились уже сгнившие соки, черная ли кровь. Тут же, на дорогах валялись и глинистые лоскуты их кожи, шкурок ли, уже рассыпающихся в прах, возвращаясь ли в него... Двери подъездов от ветра хлопали так гулко, будто дома были совершенно пусты, как и мертвые здания былых заводов, где теперь и днем под видом голубей жили призраки заводского шума, ночью устраивающие там дикие вакханалии, в одной из которых я участвовал позапрошлой ночью, отчего меня и потянуло вновь на вернисаж, где эти чудища могли прятаться днем, ведь неведомое было еще страшнее... Сейчас на призраков смахивали и редкие прохожие, чьи серые и сырые от дождя одеяния тоже трепетало порывами ветров, пытающихся содрать с них это последнее пристанище индивидуальности, так как лиц этих согбенных ниц фигур уже не было видно, а все их движения зависели только от ветра, перед которым они склоняли головы, сделавшего их всех марионетками на дождевых нитках, все же пытающимися даже смирением сопротивляться из последних сил, просто ли из упрямства, потому что и их разум уже отказывался от этой бесполезной борьбы с неведомым, не подчиняющимся таблицам умножения, правилам согласования времен, простоте и красоте истин... Они все еще пытались спасти свои зонты, плащи, шляпы, даже свой стыд под платьями и юбками, совсем забыв про еще более легковесные души, которые ветра перемен запросто могли незаметно вырвать из их занятых столь многими делами рук. Хорошо еще, что они ничего не слышали, мало что видели, почти не вдыхали воздух, который сам врывался в их рты - они закупорили все остальные выходы-входы, из которых ветром могло вырвать и их разум, размазать ли его по стенкам черепа скользкой пленкой хитрости, перемешать ли в нем все понятия и ценности в несуразный хаос, что мало чем отличается и от безумия, за исключением лишь заблуждений на этот счет, которых у меня хотя бы не было, почему я не сопротивлялся и ветрам, и ливню, от которых не веяло ужасом неподвижности... Город же весь был во власти дикой и жестокой к нему стихии. Вместо тех фонтанов его захлестывало потоками, веерами струй небесных якобы вод, но лишь воспаривших туда из всех болот, застойных водоемов, сточных каналов, что небо и не могло принять, возвращая все это людям с мстительной яростью, словно бы в подтверждение и моих былых предсказаний, предчувствий, уже сочтенных мешаниной помешательства. Странно, но мое безумное тело почти зверя вполне сносно чувствовало себя в этом безумстве же стихии, адекватно реагируя и предугадывая все его порывы, перемены, да, и стихия словно чувствовала своего, огибая меня струями ветров со стороны, раздвигая передо мной даже потоки воды, как будто понимала, что мне и деваться от нее некуда, что она теперь - это и мой дом, это и моя крепость, в которой я лишь и могу спрятаться от всего остального, что было не нашим с ней... до такой степени, что я и не сразу понял, что это был шторм, я все еще вспоминал солнце, жалея, что отказался от игры в жизнь ради этой пародии на нее. Конечно, сейчас я хотел бы отказаться вообще от всего этого, мне бы жутко хотелось, чтобы и стихия вдруг забрала меня отсюда, унесла в свои края, но она, видимо, понимала, что наши края - это совсем не это временное буйство протеста, предназначенное для других, а, может быть, я нужен был ей здесь для чего-то, ну, чтобы был тут кто-то близкий ей, поскольку сейчас тут вообще ничего не было, даже города словно бы не было - это был полный хаос людских тел, обрывков и обломков деревьев, кусков крыш, всего городского мусора, мечущегося в асфальтовом море с бетонными берегами островов, по ущельям улиц и оврагам вражеских переулков... О, да, мне их всех было опять жаль, в них не было былого превосходства, они не могли противиться и моей жалости, а уж я-то представлял, как тяжело на их месте понимать свою беспомощность, беззащитность перед чем-то громадным и непознаваемым, особенно, после того, когда ты сам себе казался великим, всемогущим, чуть ли не богом всего этого - и вот расплата за слепоту и близорукость зеркал! Бездумно это воспринимать было куда легче, как и саму их жизнь, да, ведь и сейчас они считали, что живут, предпочитая и это моему! Да, как и многие глупцы считают, что они мыслят, что они даже мудры, если их слушают и даже кивают при этом... Слушающий да услышит, что говорит говорящий! О, нет, я так заблуждался только прежде, пока не взглянул на себя со стороны, сойдя с холма своего разума, увидев только эту пустую почти суму мудрости, от которой осталось только одно слово - ум. Ум, Бум, Гум, Шум Дум... Но чтобы суметь взглянуть со стороны, я и должен был прежде сойти с ума, перестать быть одновременно и зеркалом и зрителем. Другие это, возможно, увидели раньше, давно перестав меня слушать, широко зевая ли при этом лишь ртами, словно показывая, что хотели бы более съедобного... Они же даже сейчас, когда умишки их забились в самые дальние углы этих растрепанных и размазанных по стихии тел, которые можно и не учитывать, не могут этого сделать, считая, что им просто опять не до этого, что они все - в борьбе, заняты очень важным делом - спасением собственной шкуры, вполне достойного одеяния рассудка и его чувственных отростков. Да, природные катаклизмы, которые даются для испытания ума, они воспринимают как искушения их телам, нервам и душам, словно последние могут чему-то научиться, переучиться в один миг... Воспитание чувств! Мои и не пытались, у меня некому было и заблуждаться в их способностях. Конечно, меня они и считали совсем другим и, может, даже и не человеком, который мог существовать, лишь мысля, хотя я всего лишь сошел с ума на той же станции души, где раньше они проживали вместе, рядом, под его как бы крылом строя свое коммунальное гнездышко. Они считали меня никем, но это я сегодня вернулся в никуда, ведь здесь не было ничего и от их гордыни, самомнения - только эгоизм шкуры, спасающей саму себя! Увы, в обычное время это труднее увидеть под множеством их масок, которые в штиль так легко менять незаметно, плавно. В шторм все маски срывало, он их всех самих обращал в маски... Массы масок Поразителен не сам шторм, который может поразить по-разному, но истинно поразителен мир после шторма, особенно пораженный им город! Не смотря на деревья, выдранные с корнем из асфальтового черепа, на порванные струны проводов с вывернутыми колками столбов, перевернутые и выпотрошенные наизнанку утробы урн, сорванные с домов крыши и прочее, - он сам необычайно чист, выбрит и невероятно ароматен, поскольку уж воздух-то его был промыт сверху донизу. Это не наводнение, со всех сторон сводящее в него весь окрестный мусор, который он прежде вывозил туда назло зеленым пророкам... Я тоже чувствовал себя таким же чистым до нитки, сухожилия, нерва, и уже весело смотрелся во все эти сверкающие свежестью стекла витрин, киосков, грязь в которых могла остаться только внутри, но для меня ведь теперь городом и было лишь то, что снаружи: улицы, внешние стены, крыши и черноокие стекла окон, черные ли очки их квартир. Да-да, и небо! Город после дождя и шторма я любил и тогда, когда у меня не было времени им любоваться, когда оно было нужно для работы, для жизни, для размышлений и о любви... Теперь мне ничего этого не было нужно для самого времени, я мог любоваться даже просто им самим, столько его у меня было в этом пустом моем пространстве, которое у меня никто и не отнимал пока, почему я и рад был этой генеральной уборке моего огромного дома. Его было столько много, что здесь даже не было часов - его измерять, отсчитывать ли каждый его миг, фиксировать каждую минуту, отрезать каждому его отрез с точностью до секунды - здесь просто было оно, время, опустившееся сюда сверху из его вечности краем хитона Хроноса, но лишь не проникая за острые края порогов, сквозь пристальные стекла - там уже были другие времена, как и в лживых ртах огнедышащих экранов... Во время шторма же все это небесное время тут было еще и так перемешано, что даже сам город можно было не узнать, счесть его или древним, или же неким будущим, а то и сразу все вместе, ну, то есть, настоящим. Все это же можно было сказать и о людях, появляющихся на улицах не в повседневных одеждах своего времени мод, модально стереотипных, потому и терпимых, а либо в чем-то забыто старом, либо же в таких немыслимых сочетаниях самых разных предметов, которые еще нигде не встречались, так как их для них подбирала случайность непредвиденных обстоятельств... Некоторые мне издали просто казались инопланетянами в этих оранжевых и зеленых скафандрах, прибывшими сюда со спасательной миссией, но оказавшимися в полной растерянности - они вновь были в своем гардеробе. - Вернисаж! - Со всей улицы спасать им надо было только меня, единственного чужака для всех вышедших из подъездов моих инопланетян, высыпавших на балконы, распахивающих окна, с любопытством разглядывая и друг друга, но только не меня, бельмо на глазу их мира, соринку ли в нем, так и не смытую ливнем! Для меня среди них ничего не изменилось, я все еще был никем, то есть, был опять нигде и никогда. Их приветливые друг другу лица, ко мне вновь обращались в виде масок, удивительным образом успевающих появляться на их лицах, каждый раз меняясь. - Светик, Люсик, спускайтесь сюда, здесь так изумительно свежо, просто поразительно, насколько мы тут все, - голубкой ворковала какая-то дама в сторону распахнувшихся окон, ко мне же обернувшись лишь окровавленной помадой маской пантеры, готовой уже поражать чем-то иным, - что вы тут путаетесь под ногами, что вынюхиваете под моими мышками? Да, я и правда решил понюхать свежесть, словно в ее слове она была другая, из другой тучи, и оказавшейся не моей. Я лишь пожалел ее мышек... Мужчина же, знакомо руководивший среди улицы не ретушированием, а разделкой огромной туши дерева, распластавшего по асфальту лапы, тут же менял маски говорливого руководства действием на - тупого и остросюжетного облаиванья, хотя его собственной, обращенной и не ко мне, а внутрь, в утробу, была маска нестерпимой жажды пива, черты которой проступали желваками из-под кожи, а нижний край был так отчетливо виден и даже шевелился вместе с кадыком, словно глотая сок Адамова яблока, сплевывая косточки... Да, я тоже любил пиво, может, теперь я вообще только его и любил, еще вчера и взаимно, почему у других, видимо, и не было ко мне безответного чувства... Не любил я и кровь, поэтому и сам убежал не из бора, а от дерева, когда в него с хрустом вонзилось первое лезвие из тех, что не оставляют вообще сущностей, которые сами визжат, как зарезанный боров резни... Однако, при моем появлении продавщица киоска, уже споро торговавшая пивом, потому что масок жажды его и просто желания расслабиться, залить и себя изнутри влагой, чтобы уравновесить состояния всего мира, было множество, тут же надела на себя строгую маску закрытого крана недоумения, хотя не могла не заметить и на мне маску той жажды, которую порой невозможно утолить даже смирением с невозможностью. - Тоже мне, у тебя нет даже такой мелочи! - Понятно, что глаза-то ее были не с маски, они выглядывали из ее черных прорезей ресниц, предательски выдавая гораздо больше эмоций, среди которых в уголках могло быть замеченным и сострадание, ну, или просто сопереживание моей жажде, но именно в этих уголках они и косились на ценники из таблицы умножения, где кресты были совсем иные, такие же косые, как и на свастике - лишь без указателей направления, которое она сама уточнила несколькими буквами... - Простите, но я не думал, что и в этой любви к пиву главное - мелочь, - сморозил я глупость насчет своего думанья, заставив ее даже изменить ту на маску гомерического хохота, особенно когда я добавил огорченно, - неужели и эта любовь продажная? - Боже, и кто это нам намекает! И он еще обнаглел намекать! - буквально возопила с противоположной стороны улицы едва узнанная мной маска тоже внезапного узнавания, а потом и стыдливого возмущения этим, от негодования крепко сжавшая губы, поскольку слова ее могли бы разодрать рот и самой маски, а не только мои спасенные тем уши. Я догадался, кто под ней прячется, кто тут же подменил ее маской потребительского ажиотажа, обычного после бури, перед войнами ли, пытаясь спрятаться от моего очевиденья за стеклянными глазницами универ... - нет - мага, мага, только мага, обладавшего всеми ими и невероятными магическими способностями в этом. Увы, просто универ кончают, редко даже вспоминая, особенно теперь, когда сам по себе он тоже стал похожим на универ-маг, но этот уже не кончается, этот уже не имеет пределов, поскольку туда-то можно и просто ходить без денег, бросая на прилавки, на вешалки одежд и на кассы обнадеживающие взгляды. Так же можно было стоять и в очереди за пивом до самого конца, хоть и сорок лет подряд, все еще веря в ее успешный исход... - Как я мог намекать? Как ты могла так противоречить сама себе, тем своим словам? - я видимо тоже был сейчас в легкой маске недоумения, потому что при моем виде по их маскам порхала одна и та же улыбка презрительно насмешливого удивления... - Да, я шут, я циркач, так что же?! - одна из таких усмешек даже попала мне в ухо зудящей мухой, но я и это не должен был понимать, как не мог я и намекать - это были несправедливые, даже незаконные повторные обвинения со стороны ее маски меня в одном и том же преступлении, которое и было карой, ну, почти так же, как если бы самоубийцу вдруг назвать палачом дважды: с веревкой в руках и на шее. Я понимал, что рядом с нею был этот кошелек со вставленной в прорезь сигарой, и для него надо было чем-то оправдать мое появление, абсурд моего немыслимого существования вообще, но не обязательно же ложью... - Как можно и лгать, не имея ума? - мысленно спрашивал я некоторые прошлые ее маски, тут же засмеявшись даже над этим, но только оторопело, осознав, куда завела меня эта шутка. - Неужели мысленно можно спрашивать, даже не имея мыслей? Может, она все же права отчасти, может, я и намекать могу? О, нет, зачем это мне?! Мне плохо именно из-за этого тут! Вдруг и это все лишь намек на жизнь, на реальность? Неужели я верил и этому? Дерево креста, холм - и безумие их пустой символики, распятие креста или даже перекрестка, распутья! Да, мне от этого стало вновь ужасно, потому что и сам город вдруг на свое посвежевшее, умытое лицо надел маску смиренного исправления, возвращения прежнего облика непререкаемого судьи с прокурорским оскалом и усидчивостью присяжных. Даже чириканье очнувшихся воробьев было похоже на свистки ментов, догоняющих меня отовсюду... Их жизнь возвращалась в свое асфальтовое русло со стеклобетонными берегами, в которое я уже и не мог войти второй раз, выйдя лишь однажды, у меня и не получилось этого, меня берега не пускали к себе, они тут же хлестко и больно, со всей очевидностью отражали меня от своих даже и не зеркальных витрин и дверей, от этой вставшей передо мной на дыбы поверхности чистых вод, остекленевших во взглядах, которые теперь переполняли их дома, откуда доносилось еще шипение угасающего до ночи огненного ужа неуживчивости... Многозначительные мелочи Но ложь была не самая непреодолимая преграда, поскольку ее я уже и не пытался преодолевать. Моим отражениям было достаточно пустоты улиц, по которым они могли резво прыгать, отскакивая от одной витрины к другой... Оказалось, что есть другая преграда, окружавшая меня со всех сторон, начиная с моих карманов, но это была преграда отсутствия и отсутствия банальной мелочи... - Неужели такая мелочь и может решить и решила все? - уже вполне оправдано недоумевал я, ну, и будучи недоумком. - Неужели для вас мелочь - главное? Главным же было глобальное, и сломившее глыбу убожества, ради чего и пожертвовали жерновами жатвы, жратвы? Я молчу, молчу о себе, ум - это не такая уж великая жертва, это, скорее, даже удачная потеря, потому что он бы точно не перенес этого, он бы тогда от горя заразил той болезнью и душу, и она бы заболела, хотя я и прежде был слегка душевнобольным чужими душами... - Неужели меня нет для вас из-за такой мелочи? - спрашивал я безмолвно эти манекены, между которыми безответно скакало мое недоуменное отражение, так же резво отскакивая и от их стеклянных глаз, как и от лужиц растоптанной свежести, словно это и был большой теннис, этакий турнир "Больного шлема", которым и была сейчас моя пустая голова, похожая и на мяч, испачканный множеством отражений. - Я думал, что из-за него, почему и пожертвовал собой, сойдя с него, как с трона, оставив его в одиночестве, пустив по миру с сумой и в суме... Выходит, напрасно? Выходит, я должен был не покидать его, а умертвить, похоронить в себе этой грудой мелочи, его самого разменять, чтобы он в таком виде тут стал всем нужным и меня бы вывел в свет, на чистую ли воду этих заплеванных уже вашими бычками луж? Но разве об этом шла речь вчера в заветах на завтра? Для этого ли и Он там до сих пор, точнее, вы Его там с тех пор еще держите, кусая Его плоть даже своими мокрыми взглядами, полными слюны слез? Разве не так, ведь даже ваши глаза - это сплошь терновые венцы ресниц, которые вы примеряете на Его голову, как и на мою сейчас, в которой уже не осталось крови мыслей, они вся превратились в струпья фраз? О, нет, я-то счастливчик по сравнению с Ним, ведь Он-то сам не может сойти со своего креста, который теперь вроде бы несет Его на себе, а не наоборот... Вы даже не утолили Его жажды, потому что у Него там тоже не было этой мелочи, вы и теперь поите его уксусом вашей веры, вытекающей из него уже кровью... - Может и ты сошел с креста, ну, раз тот пуст как зимний куст? Крест-то есть, но кто сказал, что у тебя был ум, с которого можно было сойти? Мы тебя никогда не понимали, хотя это ни о чем не говорит о нас. Да, ты - сам дурак, но лишь с претензией, - летали вслед моим отражениям дырявые удары насмешек. - Конечно, дурак, раз не понимаешь, что мелочь - это и есть все, поскольку только мелочи может быть много, как и всего, а главное твое - это нечто одно, да еще и пустое, как твоя голова, этакий мыльный храм мысли! Ха, ты же сам изгнал их оттуда, как Он почти, так разве они - не менялы той мелочи? Ты и этого не понял, дурак, безумец?! Но от того и твоя жажда теперь неутолима, и ты ничем не зальешь ее пламя! Вождь - вошь, муж мух, туп - труп, бок блох!... Отражения жажды жизни Нет, понятно, те манекены не могли бы говорить подобное, этих прелестных чудищ творил всего лишь человек, сам все же создание божье, под которого те и должны были мимикрировать прежде, создать некий говорящий гибрид, и я замечал на бегу, налету ли, как их плоские тени судорожно выворачивало наизнанку, отчего они становились словно бы их душами, которые уже соскальзывали, стекали с витрин по мокрым тротуарам к ногам прохожих и, просачиваясь через неразборчивые подошвы, одевали в себя плоть тех, тоже становящихся этакими выворотнями, у кого мертвая душа была вся снаружи, даже сквозила холодом из их глаз, чьи взгляды тут же стекленели, становились подделками под драгоценности, а собственные души черствели в этих холодильниках, как не принятая богами треба... Теперь и улица превратилась в тот же самый вернисаж, то есть, в выставку попартрических, натюрмортно-натуралистических ходячих статуй, стены которой были сплошь замалеваны черными квадратами окон, чаще с удивленно отвисшими квадратными челюстями, с жесткими крестами переносиц, без них ли, о внутреннем содержании которых наглядно свидетельствовали рекламные плакаты витрин, не умеющих плакать акварелью, а только алкающих. Дадаистические мышки трамваев неслись мимо них, визжа как сюрреалистические чушки на серебряных лезвиях скотобойни, развозя уже готовые человеко-манекены по другим залам и галереям города, клацая дверями, откусывая тех целиком от их уже отражений, которые тут же умирали, просто тая в пустоте дыхания города, как и синюшные выхлопы этих чопорных каракатиц, под блестящей оболочкой которых хрипло кашляли пропитанные смрадом торбы утроб. Черные квадраты окон тоже выворачивало, им тоже было чем сблевать на эту чистоту, и вымытый ливнем асфальт города был черен от этого, вроде бы избавившись от серости будней, от пыли безысходных путешествий по его лабиринту ненужности выходов, и мне могло бы даже показаться, что город тоже пытается весь вывернуться наизнанку, пользуясь такой возможностью, как очистительный шторм нового века, который, увы, только смывал пыль бесплодного времени с его обочин на ниву дорог, возвращая ему лишь прошлую, уже мертвую первозданность, словно бы омывая перед похоронами... О, да, он пытался вывернуться и в этих отражениях витрин, смотрящихся друг в друга, потому и не видящих там ничего более, как лишь взгляды города на самого себя, на выворотня... Но не будь его, здесь бы было и нечему смотреться в самого себя - парадокс! - стекло и камень спасали жизнь от универсума смерти... Без них тут бы не было отражений жизни, жизнь и смерть здесь были нужны друг другу, в одиночку они бы не смогли существовать... Да, в отличие от моих отражений, которым и я уже был не нужен, как и моему уму - до этого, поэтому я, видимо, где-то вдруг и потерялся, и везде были только мои отражения, уже и не смотревшие даже друг на друга, словно бы играя в некие салочки с завязанными глазами, где цель и смысл могли быть только невидимками... Их становилось все больше и больше, их вскоре стало так много, что они неизбежно должны были стать мелочью, но только совершенно бессмысленной, теперь уже и не нужной, потому что я покинул их со своей неутолимой жаждой, с неугасимым пламенем безумия... Вернись на вернисаж Я бросил там даже свою суму, когда пробегал по причалу мимо одного из мусорных баков окончаний, в который выбрасывали объедки дня, очистки ночи, отбросы вирусов прошлого века, количественно поражающие воображение, но чье качество не могло заполнить тот бак даже до половины баксами, почему моя сума была для их суммы весомым приобретением, хотя для меня - лишь вновь той самой счастливой потерей. Я ведь знал, куда я бегу, оставаясь на месте, замерев вдруг там, остолбенев на половине своего шага, уже зная, что нельзя его доводить до конца, который и был окончательной сутью этого мира, с ума которого можно было лишь сойти, чтобы вырваться из него. Та девчонка помогла мне в этой арифметике, в геометрии ли странствий, назвала и цену моей потери своим безразличием, а крест тот, похожий на перекресток, указал мне главную дорогу, по которой нельзя возвращаться, с которой нельзя сходить, нельзя уступать свою главную дорогу даже этим железным чудищам прошлого века с чавкающими утробами, с зубастыми ртами радиаторов, с огромными, выпученными глазами, мое отражение в которых было немного похоже на птицу - оно вдруг научилось летать! Нет, не как остальные, ведь его уже не было в тех витринах, у него уже не было отражений, которые могли бы мне крикнуть: "Вернис...!" Нет-нет, это мне тоже показалось, для них это слово имеет уже иной смысл - маслом намазанного искусства, искуса ли с искусственными челюстями искушений... И мое отражение тоже было здесь, было в единственном экземпляре, переглядываясь со мной вновь понимающими взглядами, хотя и невозможно было даже представить, что в его голове на этой серебряной и абсолютно плоской поверхности зеркала мог уместиться мой ум, который я и оставил там в качестве платы за свободу. Там он был нужен, без него там ничего невозможно было понять - в чем ты хотя бы запутался, хотя после этого оставаться там было еще невыносимей, поскольку понять ложь просто невозможно, в нее необходимо и возможно лишь верить, что там и считалось рассудком, а кое-кем - и разумом, качественной характеристикой тех полутора килограммов плоти, из которых много каких мелочей может изойти, но сойти с них только потому, что они наверху, - это уже немыслимо для остальной плоти, это возможно или от избыточного веса или самомнения... Но и это все пустое здесь, в этом городе, где ничего понимать, ломая голову, не надо, здесь все просто и ясно, как и сама истина, конечно, иногда и там могущая снизойти на вас, но... тогда берегитесь, ведь как и в случае со сходящим солнышком вас могут тоже счесть сошедшим с ума, но уж с сумой - точно! О, да, это не столь и страшно, поскольку это будет, с другой стороны, началом вашего пути сюда, в ее город, где начнется уже настоящее путешествие сумасшедшего - на вершину... - О, нет, друг, ты вернулся вовремя, тут как раз открылся дивный вернисаж, - сказали мне мои старые уже знакомые, подхватив меня под руки, - а это много лучше всяких там вершин, вермишели веры и вертихвосток вероятности. Мы от него просто с ума сходим! Невероятная символика смысла любви и одухотворенности разума! Тебе надо тоже сходить... С ума?! 7.05.08 Рейтинг: +2 Отправить другуСсылка и анонс этого материала будут отправлены вашему другу по электронной почте. |
|
© 2008-2025, myJulia.ru, проект группы «МедиаФорт»
Перепечатка материалов разрешена только с непосредственной ссылкой на http://www.myJulia.ru/
Руководитель проекта: Джанетта Каменецкая aka Skarlet — info@myjulia.ru Директор по спецпроектам: Марина Тумовская По общим и административным вопросам обращайтесь ivlim@ivlim.ru Вопросы создания и продвижения сайтов — design@ivlim.ru Реклама на сайте - info@mediafort.ru |
|
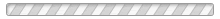
Комментарии:
Оставить свой комментарий