



Рубрики статей: |
Сонеты Шекспира(прямой перевод)
Фреске
I. I. FROM fairest creatures we desire increase, От красивейших жаждем мы приплод That thereby beauty’s rose might never die, Красы так роза вечно не увянет. But as the riper should by time decease, Когда бы умер вдруг созревший плод, His tender heir might bear his memory: Наследник юный сохранил бы память. But thou, contracted to thine own bright eyes, Ты ж с ясным взором обручен своим, Feed’st thy light’st flame with self-substantial fuel, Огонь его своим ж питая маслом, Making a famine where abundance lies, Сьедая глад, обилье где мертвим, Thyself thy foe, to thy sweet self too cruel. Своей ты сласти, свой ты враг ужасный. Thou that art now the world’s fresh ornament Кто сам есть мира нынешнего цвет And only herald to the gaudy spring, И только вестник пира пробужденья, Within thine own bud buriest thy content Внутри бутона свой храня портрет, And, tender churl, makest waste in niggarding. Скупец, от скупости ты в истощенье. Pity the world, or else this glutton be, Мир пожалей, обжора ль тот могилой To eat the world’s due, by the grave and thee. Сожрет тебя и то, что миру мило. II. II. When forty winters shall beseige thy brow, Когда чело осадят сорок зим, And dig deep trenches in thy beauty’s field, В полях красы сумев лишь окопаться, Thy youth’s proud livery, so gazed on now, Наследство юности, что нынче зрим, Will be a tatter’d weed, of small worth held: Покроет траур клочьями богатства, Then being ask’d where all thy beauty lies, Спроси, где ж вся покоится краса, Where all the treasure of thy lusty days, Где все сокровище тех дней отрадных, To say, within thine own deep-sunken eyes, Сказать - во впалых глубоко глазах - Were an all-eating shame and thriftless praise. Хвалить щедро при скромности всеядной. How much more praise deserved thy beauty’s use, Как красоты воспели б примененье, If thou couldst answer ’This fair child of mine Коль ты б сказал: "Красы моей дитя - Shall sum my count and make my old excuse,’ Моя вершина, старости прощенье" Proving his beauty by succession thine! Красу назвав наследством от тебя! This were to be new made when thou art old, Успех узнаешь вновь ты, став немолод, And see thy blood warm when thou feel’st it cold. Крови теплом согретый в самый холод. III. III. Look in thy glass, and tell the face thou viewest Взгляни в глаза себе, скажи лицу, виднейший, Now is the time that face should form another; Пришла пора лицо другое создавать, Whose fresh repair if now thou not renewest, Чуть посвежей. Не возродись сейчас -в дальнейшем- Thou dost beguile the world, unbless some mother. Обманешь мир, не осчастливишь чью-то мать. For where is she so fair whose unear’d womb Есть ли она - краса, невспаханное лоно Disdains the tillage of thy husbandry? Чье стать пренебрежет вдруг пашнею твоей? Or who is he so fond will be the tomb Иль кто есть он, кто из любви к себе полона Of his self-love, to stop posterity? Готов могилой стать любви, не дав детей? Thou art thy mother’s glass, and she in thee Взор матери своей ты, и она взывает Calls back the lovely April of her prime: В тебе к любви Апрелю той своей весны: So thou through windows of thine age shall see Смотреть моршины и тебе не помешают Despite of wrinkles this thy golden time. Сквозь окна лет былого золотые сны. But if thou live, remember’d not to be, Но если ты живешь, не вспомниться чтоб после, Die single, and thine image dies with thee. Умрешь один, и образ твой умрет, как кости. IV. IV. Unthrifty loveliness, why dost thou spend Прекрасный мот, зачем так тратишь ты Upon thyself thy beauty’s legacy? Сам на себя же красоты наследство? Nature’s bequest gives nothing but doth lend, Природа ж так не даст, а лишь взаймы And being frank she lends to those are free. Ссужает щедро вольным тратить средства. Then, beauteous niggard, why dost thou abuse Используешь, скупец, что ж плохо так The bounteous largess given thee to give? Дар щедрой щедрости, что дан дающим? Profitless usurer, why dost thou use Бесплодный ростовщик, что ж благо благ So great a sum of sums, yet canst not live? Так пользуешь, не сделать чтобживущим? For having traffic with thyself alone, С самим собой одним ведя дела, Thou of thyself thy sweet self dost deceive. Цветок свой нежный сам же и обманешь, Then how, when nature calls thee to be gone, Когда б уйти Природа призвала What acceptable audit canst thou leave? Какой контроль приемлемый оставишь? Thy unused beauty must be tomb’d with thee, Красу должны с тобой похоронить, Which, used, lives th’ executor to be. Коль,ею пользуясь, был палачом, чтоб быть. V. V. Those hours, that with gentle work did frame Часы, что знатным создали трудом The lovely gaze where every eye doth dwell, Предмет восторгов для любого взора, Will play the tyrants to the very same В тирана роли выступят потом, And that unfair which fairly doth excel: Красу подвергнув, чем он горд, разору, For never-resting time leads summer on Ведет и время лето, не устав, To hideous winter and confounds him there; К зиме отвратной, там и разрушая; Sap cheque’d with frost and lusty leaves quite gone, Замерзла кровь, живого нет листа, Beauty o’ersnow’d and bareness every where: Краса - под снегом всюду иль нагая. Then, were not summer’s distillation left, По капле лето выдавлено все, A liquid prisoner pent in walls of glass, В стеклянных стенах жидкий узник спрятан, Beauty’s effect with beauty were bereft, Эффект красы с красой же унесен. Nor it nor no remembrance what it was: Не вспомнится, а было ль то когда-то. But flowers distill’d though they with winter meet, С зимою встреча высушит цветы, Leese but their show; their substance still lives sweet. Но живо воплощенье красоты. VI. VI. Then let not winter’s ragged hand deface Пусть не зимы уродует рука In thee thy summer, ere thou be distill’d: В тебе расцвет, пока ты истекаешь. Make sweet some vial; treasure thou some place Создай красе ли чашу из цветка, With beauty’s treasure, ere it be self-kill’d. Чтоб сохранить, пока себя кончаешь. That use is not forbidden usury, Ростовщиком быть не запрещено, Which happies those that pay the willing loan; Когда ты счастьем возвращаешь ссуду. That’s for thyself to breed another thee, Чтоб возродить в другом, тебе дано, Or ten times happier, be it ten for one; Но в десять раз счастливей десять будут. Ten times thyself were happier than thou art, Счастливей сам ты будешь в десять раз, If ten of thine ten times refigured thee: Повторь они тебя десятикратно! Then what could death do, if thou shouldst depart, Что делать смерти, коль, оставив нас, Leaving thee living in posterity? Живым вернешься в детях ты обратно? Be not self-will’d, for thou art much too fair Не спорь, красы не дали б столько зря, To be death’s conquest and make worms thine heir. Чтоб мертвым стал ты предком для червя. VII. VII. Lo! in the orient when the gracious light Глянь! На востоке благостный лишь свет Lifts up his burning head, each under eye Главу огня вознес - все тупят взоры Doth homage to his new-appearing sight, Его явленью новому в ответ, Serving with looks his sacred majesty; Служа его величеству так споро. And having climb’d the steep-up heavenly hill, И восходящий на небесный холм Resembling strong youth in his middle age, Похож так сильно на юнца младого, yet mortal looks adore his beauty still, К нему взор смертных обожанья полн, Attending on his golden pilgrimage; Вослед ступая странствия златого. But when from highmost pitch, with weary car, Но лишь с высот в усталой колеснице, Like feeble age, he reeleth from the day, Как старец, устремится он из дня, The eyes, ’fore duteous, now converted are Покорный тут же взор преобразится, From his low tract and look another way: К вершине устремится вдруг от пня. So thou, thyself out-going in thy noon, И ты стремишься к жизни половине, Unlook’d on diest, unless thou get a son. Хотя умрешь, коль не продлишься в сыне. VIII. VIII. Music to hear, why hear’st thou music sadly? Что ж музыку ты слушаешь с печалью? Sweets with sweets war not, joy delights in joy. Не могут нега, радость враждовать. Why lovest thou that which thou receivest not gladly, Зачем любить, что с горестью встречаем, Or else receivest with pleasure thine annoy? Иль надоело радости вкушать? If the true concord of well-tuned sounds, Коль благозвучье звуков гармоничных By unions married, do offend thine ear, Союзом брачным оскорбит твой слух, They do but sweetly chide thee, who confounds Те упрекнут - мол спутал ты типично In singleness the parts that thou shouldst bear. В берлоге роль, не ту все ж взяв из двух. Mark how one string, sweet husband to another, Заметь, струна как сватает другие, Strikes each in each by mutual ordering, На них играет, им чтоб дать играть. Resembling sire and child and happy mother Так как отец, дитя и мать родные: Who all in one, one pleasing note do sing: Одна где нота песней может стать. Whose speechless song, being many, seeming one, Чья песнь нема - будь много их - одна, Sings this to thee: ’thou single wilt prove none.’ "И ты один - никто" - поет она. IX. IX. Is it for fear to wet a widow’s eye Для вдовьих слез ли то, что в холостой That thou consumest thyself in single life? Ты расточаешь жизни сам с собою? Ah! if thou issueless shalt hap to die. Ах! Если вдруг ты умер бы пустой, The world will wail thee, like a makeless wife; Мир завопит бесплодною женою, The world will be thy widow and still weep Твоей вдовой оплакивать начнет, That thou no form of thee hast left behind, Что за собой себя ты не оставил. When every private widow well may keep Вдова любая же легко найдет By children’s eyes her husband’s shape in mind. О муже память детскими глазами. Look, what an unthrift in the world doth spend Глянь, что за мот здесь тратит перемены, Shifts but his place, for still the world enjoys it; А дом его - наш мир доволен тем. But beauty’s waste hath in the world an end, Красы пусть трата и сойдет со сцены, And kept unused, the user so destroys it. Но сохранение убьет совсем. No love toward others in that bosom sits Любовь к другим ту грудь не посетила, That on himself such murderous shame commits. Что на себя столь смертный грех взвалила. X. X. For shame! deny that thou bear’st love to any, Отвергнь к стыду, что нес любовь кому-то, Who for thyself art so unprovident. Кто для тебя непредназначен был. Grant, if thou wilt, thou art beloved of many, Да, сам ты - дар, в любви других, как в путах, But that thou none lovest is most evident; Но ясно то, что сам ты не любил. For thou art so possess’d with murderous hate Да, обладал, смертельно ненавидя, That ’gainst thyself thou stick’st not to conspire. Что против вдруг, не думая, пронзал. Seeking that beauteous roof to ruinate Прелестный кров ты рушил лишь завидя, Which to repair should be thy chief desire. Хоть посетить был должен - не желал. O, change thy thought, that I may change my mind! Смени же мысль, чтоб изменил я мненье! Shall hate be fairer lodged than gentle love? Иль лучше примут ненависть любви? Be, as thy presence is, gracious and kind, Будь, но в приемной ласк, благодаренья Or to thyself at least kind-hearted prove: Иль хоть к себе сердечность прояви: Make thee another self, for love of me, Лишь стань другим ты из любви ко мне, That beauty still may live in thine or thee. И жить красе тобой или в тебе. XI. XI. As fast as thou shalt wane, so fast thou growest Как будешь убывать, так и растешь In one of thine, from that which thou departest; В себе и из себя, кого бросаешь. And that fresh blood which youngly thou bestowest Кровь свежую, что юным ты берешь, Thou mayst call thine when thou from youth convertest. Собою нареки, лишь тлен познаешь. Herein lives wisdom, beauty and increase: Лишь в этом мудрость, красота и рост. Without this, folly, age and cold decay: В ином - безумье, старость, хлад распада - If all were minded so, the times should cease Все думай так - и время на погост And threescore year would make the world away. Лет в шестьдесят уйти бы было радо. Let those whom Nature hath not made for store, Природой кто не сделан для стола - Harsh featureless and rude, barrenly perish: Бесплодным мри - зачем там горечь,серость. Look, whom she best endow’d she gave the more; Но одаренным больше и дала; Which bounteous gift thou shouldst in bounty cherish: Но дар и твой хранить должна лишь щедрость. She carved thee for her seal, and meant thereby Ты вырезан был ею как печать - Thou shouldst print more, not let that copy die. Не смерти акты - родов утверждать. XII. XII. When I do count the clock that tells the time, Когда часы идущие замечу, And see the brave day sunk in hideous night; Или фиалку, что сорвал весной, When I behold the violet past prime, Увижу ль дня с убийцей-ночью встречу, And sable curls all silver’d o’er with white; Иль черный вихр, как белый, весь седой, When lofty trees I see barren of leaves Совсем без листье кроны древ высоких, Which erst from heat did canopy the herd, Куда стада сгонялись от жары, And summer’s green all girded up in sheaves Иль зелень лета, связанную в снопья, Borne on the bier with white and bristly beard, На дрогах... с белой щеткой бороды, - Then of thy beauty do I question make, Твою красу подвергну я сомненью: That thou among the wastes of time must go, Зачем средь хлама времени бредет, Since sweets and beauties do themselves forsake Когда она своею станет тенью, And die as fast as they see others grow; Умрет, другая видя как растет, And nothing ’gainst Time’s scythe can make defence И не спастись от Времени косы, Save breed, to brave him when he takes thee hence. Твои и рода встанут лишь часы. XIII. XIII. O, that you were yourself! but, love, you are О, что Вы сами! ведь, Любовь, Вы есть No longer yours than you yourself here live: Не дольше тех, кем сами здесь живете: Against this coming end you should prepare, Финала ждите, когда образ весь And your sweet semblance to some other give. Вы свой другим подобьем отдаете. So should that beauty which you hold in lease А красота, чем дали Вам владеть, Find no determination: then you were Решить не сможет, для чего Вам снова Yourself again after yourself’s decease, Быть здесь, когда придется умереть, When your sweet issue your sweet form should bear. Забрав наследство дивной той основы. Who lets so fair a house fall to decay, Кто ж рухнуть даст, коль так прекрасен дом, Which husbandry in honour might uphold Не вспашет по хозяйски поле чести, Against the stormy gusts of winter’s day Чтоб уберечь в суровый зимний шторм And barren rage of death’s eternal cold? От смерти вечной и бесплодной мести? O, none but unthrifts! Dear my love, you know Не скаредность! Любовь, твой путь один - You had a father: let your son say so. Имел отца: пусть так твой скажет сын. XIV. XIV. Not from the stars do I my judgment pluck; Я не по звездам выношу свой суд, And yet methinks I have astronomy, Но астрономией владею видно, But not to tell of good or evil luck, Не чтоб удачи всякой тешить зуд, Of plagues, of dearths, or seasons’ quality; Вещать чуму иль мор, сезонов виды. Nor can I fortune to brief minutes tell, Судьбу мгновений предскажу навряд, Pointing to each his thunder, rain and wind, Гром, ветер, ливень каждый обознача, Or say with princes if it shall go well, С царями в разговоре об удаче By oft predict that I in heaven find: Навряд скажу, что звезды говорят: But from thine eyes my knowledge I derive, В глазах твоих - все ж знание мое, And, constant stars, in them I read such art В двух верных звездах и о том читаю, As truth and beauty shall together thrive, Что красота лишь с правдой расцветет, If from thyself to store thou wouldst convert; Коль их хранить ты будешь, излучая. Or else of thee this I prognosticate: Еще одно пророчество знай ты: Thy end is truth’s and beauty’s doom and date. День смерти правды, твой и красоты. XV. XV. When I consider every thing that grows Я вижу в каждой вещи, что растет Holds in perfection but a little moment, И на вершине держится мгновенье, That this huge stage presenteth nought but shows Что этот миг так долог, но пройдет, Whereon the stars in secret influence comment; На что есть звезд безмолвных повеленье; When I perceive that men as plants increase, И люди тоже, как цветы, растут Cheered and cheque’d even by the self-same sky, Под ласковым небес надзором, лоском Vaunt in their youthful sap, at height decrease, Гордясь тем в юности, но с гор сойдут And wear their brave state out of memory; Лишь в гордости и памяти обносках. Then the conceit of this inconstant stay Пусть в той метафоре мгновения тщеты Sets you most rich in youth before my sight, Ты - богатейший в юности для взора, Where wasteful Time debateth with Decay, Из Времени с Разрухою вражды To change your day of youth to sullied night; Ты выйдешь побежденным в ночи морок. And all in war with Time for love of you, Я за тебя бьюсь с Временем в бою. As he takes from you, I engraft you new. Пусть заберет тебя - я вновь привью. XVI. XVI. But wherefore do not you a mightier way Что ж путь не величайший выбрал ты, Make war upon this bloody tyrant, Time? В войне с тираном Временем кровавым, And fortify yourself in your decay Не столь священные возвел форты With means more blessed than my barren rhyme? В сравненье с лоном рифмы сей дырявым? Now stand you on the top of happy hours, Так стой в зените счастия часов, And many maiden gardens yet unset Коль не зашел ты в столь садов невинных With virtuous wish would bear your living flowers, С желаньем бросить семена цветов Much liker than your painted counterfeit: Что красивее копий на картинах. So should the lines of life that life repair, Так жизни линии жизнь обновить - Which this, Time’s pencil, or my pupil pen, Рисуй их я-школяр, само ли Время - Neither in inward worth nor outward fair, Сумеют и дадут возможность жить Can make you live yourself in eyes of men. В глазах людей, ни в образе, ни в тени. To give away yourself keeps yourself still, Не сохранишь себя ты, не отдав, And you must live, drawn by your own sweet skill. Но будешь жить, себя ж нарисовав. XVII. XVII. Who will believe my verse in time to come, В грядущем кто поверит сим стихам, If it were fill’d with your most high deserts? Коль в их пустыне лишь заслуги ваши? Though yet, heaven knows, it is but as a tomb Хоть небо знает - лишь могила там, Which hides your life and shows not half your parts. Что и полжизни вашей не покажет. If I could write the beauty of your eyes Сумей красу глаз ваших передать And in fresh numbers number all your graces, И в сомне новых строф число всех граций, The age to come would say ’This poet lies: Поэту зрелость скажет: "Хватит лгать, Such heavenly touches ne’er touch’d earthly faces.’ Могло ль так небо лиц земных касаться!" So should my papers yellow’d with their age Бумага желтой станет, постарев, Be scorn’d like old men of less truth than tongue, Но не язык - полправды презирая And your true rights be term’d a poet’s rage И ваше право, что поэта гнев And stretched metre of an antique song: И выразит, как прежде распевая. But were some child of yours alive that time, Но будь ребенок ваш в то время жив, You should live twice; in it and in my rhyme. И Вам жить дважды: в нем и в звуке рифм. XVIII. XVIII. Shall I compare thee to a summer’s day? Могу ль тебя сравнить я с летним днем? Thou art more lovely and more temperate: Ты более прекрасен и умерен: Rough winds do shake the darling buds of May, Трясут ветра весны родной бутон, And summer’s lease hath all too short a date: И лугу лета краткий срок отмерян. Sometime too hot the eye of heaven shines, Лучей светило радует игрой, And often is his gold complexion dimm’d; Но часто блекнет цвет лица златого, And every fair from fair sometime declines, Любимая отвергнет нас порой By chance or nature’s changing course untrimm’d; Случайно, из каприза ли простого. But thy eternal summer shall not fade Но вечным лето будет лишь твое, Nor lose possession of that fair thou owest; Не потеряешь ты красы владений. Nor shall Death brag thou wander’st in his shade, Коль в вечных строках время лишь растет, When in eternal lines to time thou growest: Не скажет Смерть, что под ее ты сенью. So long as men can breathe or eyes can see, Пока дышать и видеть смогут люди, So long lives this and this gives life to thee. Столь жить и жизнь твою продлять то будет. XIX. XIX. Devouring Time, blunt thou the lion’s paws, Прожора Время, лапы льва ты тупишь, And make the earth devour her own sweet brood; Велишь земле свой выводок сжирать, Pluck the keen teeth from the fierce tiger’s jaws, Из пасти тигра острые рвешь зубья, And burn the long-lived phoenix in her blood; Но можешь Феникса в крови сжигать. Make glad and sorry seasons as thou fleets, Тасуй сезоны радости, печали, And do whate’er thou wilt, swift-footed Time, Все волен делать, Время-быстроход, To the wide world and all her fading sweets; С цветами смертными в земной ты дали; But I forbid thee one most heinous crime: Я дал тебе один запретный плод: O, carve not with thy hours my love’s fair brow, Чело любви не иссеки мгновеньем, Nor draw no lines there with thine antique pen; Черт не коснись скрипящим уж пером. Him in thy course untainted do allow Пусть не промокнет он в твоем теченье, For beauty’s pattern to succeeding men. Потомкам стать красы чтоб образцом. Yet, do thy worst, old Time: despite thy wrong, Иль нет, Старик, твори все зло - в сонетах My love shall in my verse ever live young. Любовь не постареет и при этом. XX. XX. A woman’s face with Nature’s own hand painted Лик женщины дала тебе Природа, Hast thou, the master-mistress of my passion; Любви Хозяйка-Сударь вместе с тем, A woman’s gentle heart, but not acquainted И сердце женское, что, как их мода, With shifting change, as is false women’s fashion; Изменчивых не ведало измен; An eye more bright than theirs, less false in rolling, Ясней твой взор, притворно не стреляя, Gilding the object whereupon it gazeth; Озолотит сперва, потом уж зрит, A man in hue, all ’hues’ in his controlling, Мужчина в цвете, цветом управляя, Much steals men’s eyes and women’s souls amazeth. Взор дам, мужской украдкой изумит. And for a woman wert thou first created; Для женщины был создан, но Природа, Till Nature, as she wrought thee, fell a-doting, Влюбилась без ума, тебя создав, And by addition me of thee defeated, Меня дополнила тобой бесплодным, By adding one thing to my purpose nothing. Дав вещь одну, ничто мне прежде дав. But since she prick’d thee out for women’s pleasure, Тебя склоняет к женским коль усладам, Mine be thy love and thy love’s use their treasure. Люби меня ты вместе с их отрадой. XXI. XXI. So is it not with me as with that Muse Со мной не так совсем, как с Музой этой, Stirr’d by a painted beauty to his verse, Красой рисованной подмешанною в стих Who heaven itself for ornament doth use Того, кто небом назван неба цветом, And every fair with his fair doth rehearse С красой его оно сводя других, Making a couplement of proud compare, Создаст союз из гордого сравненья With sun and moon, with earth and sea’s rich gems, С Луной и Солнцем, с цветом ли весны, With April’s first-born flowers, and all things rare Земли и моря помянув каменья, That heaven’s air in this huge rondure hems. Оправой неба что окаймлены. O’ let me, true in love, truly write, В любви правдивому дай им быть в слове And then believe me, my love is as fair Тогда и верь - моя любовь честней, As any mother’s child, though not so bright Как матери любой дитя, не скрою - As those gold candles fix’d in heaven’s air: Не ярче неба все ж златых свечей. Let them say more than like of hearsay well; Сказать дать больше им, молва чем скажет: I will not praise that purpose not to sell. То не хвалю я, что не для продажи. XXII. XXII. My glass shall not persuade me I am old, Не убедит меня мой взор, что стар, So long as youth and thou are of one date; Пока ровестник с юностью еще ты, But when in thee time’s furrows I behold, Но видя, временем как вспахан пар, Then look I death my days should expiate.A298 Сведу я, смерть, с моею жизнью счеты. For all that beauty that doth cover thee Коль вся краса, сокрыла что тебя, Is but the seemly raiment of my heart, Всего лишь сердца моего одежды - Which in thy breast doth live, as thine in me: Оно ж в тебе, как ты внутри меня - How can I then be elder than thou art? То как тебя я постарею прежде? O, therefore, love, be of thyself so wary Любовь моя, будь недоверчив столь, As I, not for myself, but for thee will; Насколько для тебя - не для себя - я. Bearing thy heart, which I will keep so chary К дитя как няня не допустит боль, As tender nurse her babe from faring ill. Несу твое так сердце, сберегая. Presume not on thy heart when mine is slain; Не верь в свое, коль вдруг мое убил, Thou gavest me thine, not to give back again. Ты дал мне сердце - я ж не возвратил. XXIII. XXIII. As an unperfect actor on the stage Как неготовый ли актер на сцене Who with his fear is put besides his part, Предстал в испуге в роли не своей, Or some fierce thing replete with too much rage, Или злодей, кто захлебнулся в гневе Whose strength’s abundance weakens his own heart. И в сил избытке сердцем стал слабей. So I, for fear of trust, forget to say Так я от страха долга забываю The perfect ceremony of love’s rite, Слова любви обряда произнесть And in mine own love’s strength seem to decay, И в силе собственной ослабеваю, O’ercharged with burden of mine own love’s might. Устав ярмо ее величья несть. O, let my books be then the eloquence Тогда пусть книга будет мой оратор, And dumb presagers of my speaking breast, Заставь молчать предчувствие в груди, Who plead for love and look for recompense Любовь кто защитит, ища награду, More than that tongue that more hath more express’d. В чем щедрый все ж язык опередит. O, learn to read what silent love hath writ: Учись читать, любовь что тихо пишет - To hear with eyes belongs to love’s fine wit. Глазами светлый ум любви лишь слышит. XXIV. XXIV. Mine eye hath play’d the painter and hath stell’d Роль живописца взор исполнил мой, Thy beauty’s form in table of my heart; Лик высек твой на сердца он скрижали, My body is the frame wherein ’tis held, А тело служит рамкою живой. And perspective it is the painter’s art. В его искусстве - будущего дали. For through the painter must you see his skill, Сквозь мастера ж Вам видеть мастерство To find where your true image pictured lies; И находить, где истинный ваш образ, Which in my bosom’s shop is hanging still, Что в мастерской лишь сердца моего, That hath his windows glazed with thine eyes. Застеклены твоим где взором окна. Now see what good turns eyes for eyes have done: Смотри, как служат все ж глаза глазам: Mine eyes have drawn thy shape, and thine for me Мои тебя рисуют, а твои же Are windows to my breast, where-through the sun Что окна мне - заходит солнце к нам Delights to peep, to gaze therein on thee; Сквозь них, тебя чтоб разглядеть поближе. Yet eyes this cunning want to grace their art; Искусства взор себя ж и награждает, They draw but what they see, know not the heart. Рисуя то, что видит, но не знает. XXV. XXV. Let those who are in favour with their stars Пусть те, кто в фаворе у звезд своих, Of public honour and proud titles boast, Публичной славой, титулами тщатся, Whilst I, whom fortune of such triumph bars, Но я,лишенный почестей таких, Unlook’d for joy in that I honour most. Их невниманье счел своим богатством. Great princes’ favourites their fair leaves spread Листва царей любимцев в рост идет, But as the marigold at the sun’s eye, Но как календула под солнца взором, And in themselves their pride lies buried, В себе самом кто гордость погребет, For at a frown they in their glory die. Под взором хмурым умирает скоро. The painful warrior famoused for fight, Больной боец, прославленный войной, After a thousand victories once foil’d, Из книги чести вычеркнут спокойно Is from the book of honour razed quite, После побед промашкой лишь одной. And all the rest forgot for which he toil’d: Забыто все, над чем так бился воин. Then happy I, that love and am beloved Счастливец я: люблю и сам любим, - Where I may not remove nor be removed. Там остаюсь, где я - неудалим. XXVI. XXVI. Lord of my love, to whom in vassalage Любви моей Бог, в чей вассалитет Thy merit hath my duty strongly knit, Заслуги взяли все мое почтенье, To thee I send this written embassage, Тебе я шлю мой письменный привет - To witness duty, not to show my wit: Свидетельством не знанья - преклоненья. Duty so great, which wit so poor as mine Столь велико оно, сколь беден ум, May make seem bare, in wanting words to show it, Что, видно, гол, поскольку голословен. But that I hope some good conceit of thine В душе твоей, надеюсь я, средь дум In thy soul’s thought, all naked, will bestow it; Тщеславьем добрым будет он пристроен. Till whatsoever star that guides my moving Звезда ж, что вдохновляет мой порыв, Points on me graciously with fair aspect Аспект свой дивный на меня направит, And puts on my tatter’d loving, Любви лохмотья одеяньем скрыв, To show me worthy of thy sweet respect: Тебя достойным пусть меня представит. Then may I dare to boast how I do love thee; Пока не горд я этим, моему Till then not show my head where thou mayst prove me. Ты испытаний не давай уму. XXVII. XXVII. Weary with toil, I haste me to my bed, Устав в трудах, гоню себя в кровать, The dear repose for limbs with travel tired; Так дорог отдых членам утомленным. But then begins a journey in my head, Но в голове пускаюсь вдруг блуждать, To work my mind, when body’s work’s expired: А ум - работать в теле полусонном. For then my thoughts, from far where I abide, И мысль спешит к тебе издалека, Intend a zealous pilgrimage to thee, Где я сейчас, в паломничестве рьяном, And keep my drooping eyelids open wide, А щель меж сонных век так широка, Looking on darkness which the blind do see Что ночь слепых я вижу их обманом, Save that my soul’s imaginary sight Храня тот мнимый взор души моей, Presents thy shadow to my sightless view, Что дарит тень твою слепому зренью, Which, like a jewel hung in ghastly night, Парящую алмазом в тьме ночей, Makes black night beauteous and her old face new. Дав ночи старым лицам обновленье. Lo! thus, by day my limbs, by night my mind, Вот так днем ноги, ум мой по ночам For thee and for myself no quiet find. Покоя не дают обоим нам. XXVIII. XXVIII. How can I then return in happy plight, Как мне вернуться в счастия союз, That am debarr’d the benefit of rest? Коль прав лишен я смерти бенефиса? When day’s oppression is not eased by night, Коль ночь дневной не ослабляет груз, But day by night, and night by day, oppress’d? Ночь днем, а день мой ночью тяготится? And each, though enemies to either’s reign, И каждый, хоть другого власти враг, Do in consent shake hands to torture me; Меня чтоб мучить, жмут в согласьи руки, The one by toil, the other to complain Один трудом, тот жалобой: мол как How far I toil, still farther off from thee. Далек в трудах, так дальше и в разлуке. I tell the day, to please them thou art bright Заверю день: ты - свет в угоду им, And dost him grace when clouds do blot the heaven: Его ж украсишь, лишь нагрянут тучи. So flatter I the swart-complexion’d night, И смуглолицей ночи подольстим When sparkling stars twire not thou gild’st the even. Тем, что вечор без звезд твой скрасит лучик. But day doth daily draw my sorrows longer Но день на день печаль лишь удлинит, And night doth nightly make grief’s strength Что ночь сильней лишь делает на вид. seem stronger. XXIX. XXIX. When, in disgrace with fortune and men’s eyes, Когда немил глазам людей, судьбе, I all alone beweep my outcast state В себе оплакиваю я изгоя And trouble deaf heaven with my bootless cries Глухому небу ли кричу в мольбе, And look upon myself and curse my fate, Кляну свой рок, следя сам за собою. Wishing me like to one more rich in hope, Тому быть любым, кто богат мечтой, Featured like him, like him with friends possess’d, Его черты , друзей иметь, желая Desiring this man’s art and that man’s scope, Его искусств с возможностей чертой - With what I most enjoy contented least; Что меньше даст, чем больше обладаю? Yet in these thoughts myself almost despising, За мысль себя хоть презираю сам, Haply I think on thee, and then my state, Тебя лишь вспомнив, жаворонком чувства Like to the lark at break of day arising Гимн запоют, взлетев к небес вратам From sullen earth, sings hymns at heaven’s gate; С рассветом вместе из юдоли грустной. For thy sweet love remember’d such wealth brings Казну любви твоей наполнив - память, That then I scorn to change my state with kings. Не поменяюсь царством сим с царями. XXX. XXX. When to the sessions of sweet silent thought На суд когда дум добрых и безмолвных I summon up remembrance of things past, Я созываю память о былом, I sigh the lack of many a thing I sought, По многим плачу тем, кого лишь помню, And with old woes new wail my dear time’s waste: Кого впервые нет вдруг за столом: Then can I drown an eye, unused to flow, Взор увлажнить могу, сухой доселе, For precious friends hid in death’s dateless night, Я по друзьям, кто скрылся в ночь и смерть, And weep afresh love’s long since cancell’d woe, Стонать в утрате многих дивных зрелищ, And moan the expense of many a vanish’d sight: И тех, за кем давно закрыл уж дверь: Then can I grieve at grievances foregone, Могу оплакать горести былого, And heavily from woe to woe tell o’er Ведя от горя к горю грустный счет The sad account of fore-bemoaned moan, Уже проплаканному плачу, снова Which I new pay as if not paid before. Платя, как словно не платил вперед. But if the while I think on thee, dear friend, Но в мыслях о Тебе, все, что теряли, All losses are restored and sorrows end. Вернется вновь, теряя лишь печали. XXXI. XXXI. Thy bosom is endeared with all hearts, Любовь к твоей душе влекут сердца, Which I by lacking have supposed dead, Что мертвыми я счел за неименьем. And there reigns love and all love’s loving parts, Любви ж часть любит средь любви дворца, And all those friends which I thought buried. Сердца друзей где, преданных забвенью. How many a holy and obsequious tear А сколь святых, подобострастных слез Hath dear religious love stol’n from mine eye Любовь-монашка у меня украла As interest of the dead, which now appear Избытком мертвых, что в себе ты нес, But things removed that hidden in thee lie! Кто снова здесь, как смерть не укрывала. Thou art the grave where buried love doth live, Могила - ты, любовь живет где та, Hung with the trophies of my lovers gone, Что вся - в любимых мертвых, как в трофеях, Who all their parts of me to thee did give; Свою кто часть меня тебе отдал. That due of many now is thine alone: Сейчас один ты, долгом всех владея. Their images I loved I view in thee, В тебе все образы любви былой. And thou, all they, hast all the all of me. И как они, ты всем владеешь мной. XXXII. XXXII. If thou survive my well-contented day, Во всем довольный день мой пережив, When that churl Death my bones with dust shall cover, Когда мой прах Смерть скроет пылью грубо, And shalt by fortune once more re-survey Ты, на удачу заново раскрыв These poor rude lines of thy deceased lover, Строй строк корявый... умершего друга, Compare them with the bettering of the time, Их с улучшением времен сравни, And though they be outstripp’d by every pen, И превзойдет их пусть перо любое, Reserve them for my love, not for their rhyme, Их не за рифму - за любовь храни, Exceeded by the height of happier men. Счастливцев превзойдут чем высотою. O, then vouchsafe me but this loving thought: Тогда с любовью мыслью удостой: Had my friend’s Muse grown with this growing age, "Как рос сей век, росла бы Муза также, A dearer birth than this his love had brought, И с ним в сравненьи плод дала б такой, To march in ranks of better equipage: Что стал бы в строй, но лучшим экипажем. But since he died and poets better prove, Когда он мертв, слагали вы свои: Theirs for their style I’ll read, his for his love.’ Чту их за стиль, его - из-за любви!" XXXIII. XXXIII. Full many a glorious morning have I seen Рассветов дивных столь я повидал, Flatter the mountain-tops with sovereign eye, Что взором властным горы вдруг обнимет, Kissing with golden face the meadows green, Лугам ли юным лица целовал, Gilding pale streams with heavenly alchemy; Златил потоков бледность, как алхимик… Anon permit the basest clouds to ride И тотчас пустит низость облаков With ugly rack on his celestial face, Нестись с грозой пред божеского взору, And from the forlorn world his visage hide, Его содрав с заброшенных миров, Stealing unseen to west with this disgrace: Стащив на запад духа мир с позором. Even so my sun one early morn did shine Но солнце все ж мое хоть раз светило With all triumphant splendor on my brow; С триумфа блеском на челе моем! But out, alack! he was but one hour mine; Погасло,да! Лишь час моим и было - The region cloud hath mask’d him from me now. Теперь закрыто облака плащем. Yet him for this my love no whit disdaineth; Земной диск в пятнах пусть - любовь простит, Suns of the world may stain when heaven’s sun staineth. Коль диск небесный пятнами покрыт. XXXIV. XXXIV. Why didst thou promise such a beauteous day, Прекрасную что ж обещал ты пору, And make me travel forth without my cloak, Вперед идти без маски побудил, To let base clouds o’ertake me in my way, Чтоб тучам низменным предать, которых Hiding thy bravery in their rotten smoke? Туман твое все показное скрыл? Tis not enough that through the cloud thou break, Мне мало, что пробился ты сквозь тучи, To dry the rain on my storm-beaten face, С лица обветренного дождь утер. For no man well of such a salve can speak Никто не скажет, что бальзам тот лучше, That heals the wound and cures not the disgrace: Что лишь обиду лечит - не позор. Nor can thy shame give physic to my grief; Не облегчит твой стыд моей печали, Though thou repent, yet I have still the loss: Раскаянье утрат мне не вернет, The offender’s sorrow lends but weak relief Позор обидчика не облегчает To him that bears the strong offence’s cross. Обиды крест тому, кто крест несет. Ah! but those tears are pearl which thy love sheds, Но слезы жемчугом любовь роняет, And they are rich and ransom all ill deeds. И их богатством зло все искупает. XXXV. XXXV. No more be grieved at that which thou hast done: Достаточно о сделанном печали: Roses have thorns, and silver fountains mud; С шипами роза, ключ весь заилен, Clouds and eclipses stain both moon and sun, Луну и Солнце тучи затмевали, And loathsome canker lives in sweetest bud. И с червоточиной любой бутон. All men make faults, and even I in this, Все ошибаются, и даже я, Authorizing thy trespass with compare, Грех оправдав твой этим вот сравненьем, Myself corrupting, salving thy amiss, Тем портя, что неверно исцелял, Excusing thy sins more than thy sins are; Прощенье дав сильнее прегрешенья. For to thy sensual fault I bring in sense-- В ошибку чувств твоих вношу я смысл- Thy adverse party is thy advocate-- Враждебной стороне дав адвоката - And ’gainst myself a lawful plea commence: И к самому себе вернув свой иск: Such civil war is in my love and hate Любовь и ненависть в войне заклятой. That I an accessary needs must be Как соучастник вору в ней я нужен, To that sweet thief which sourly robs from me. Коль без меня меня он грабит хуже. XXXVI. XXXVI. Let me confess that we two must be twain, Признаюсь, двое быть должны двумя, Although our undivided loves are one: Хоть наши две любви неразделимы: So shall those blots that do with me remain Бесчестье то, падет что на меня, Without thy help by me be borne alone. Мной будет без тебя переносимо. In our two loves there is but one respect, Пусть две любви - почтенье в них одно. Though in our lives a separable spite, А в наших жизнях зло хоть и раздельно, Which though it alter not love’s sole effect, И хоть любовь не омрачит оно, Yet doth it steal sweet hours from love’s delight. Но сколь часов любви пройдет бесцельно. I may not evermore acknowledge thee, Не вечно ж мне не признавать тебя, Lest my bewailed guilt should do thee shame, Не вызвать чтоб виною подозренья, Nor thou with public kindness honour me, И ни тебе открыто чтить меня, Unless thou take that honour from thy name: Коль в имени твоем не взять почтенье. But do not so; I love thee in such sort Но нет, не надо! Ты мне люб как есть, As, thou being mine, mine is thy good report. Коль сам ты мой, моя тогда и честь. XXXVII. XXXVII. As a decrepit father takes delight Как дряхлый старец восхищается To see his active child do deeds of youth, Подвижного дитя поступкам юным, So I, made lame by fortune’s dearest spite, Удач лишенный прихотью фортуны Take all my comfort of thy worth and truth. Твоей удачей, правдой тешусь я. For whether beauty, birth, or wealth, or wit, К богатству, знатности, красе, уму, Or any of these all, or all, or more, Иль к одному, к всему, иль больше даже, Entitled in thy parts do crowned sit, Где увенчать из них трон может каждый - I make my love engrafted to this store: Привью любовь к обилью их всему. So then I am not lame, poor, nor despised, И я тогда ни беден, ни презрен, Whilst that this shadow doth such substance give Пока их сень дает то состоянье, That I in thy abundance am sufficed И твоего мне хватит достоянья, And by a part of all thy glory live. Хоть частью славы я живу - не всем. Look, what is best, that best I wish in thee: Все, что есть лучшее, тебе желаю, This wish I have; then ten times happy me! Желая так, сам лучшим обладаю! XXXVIII. XXXVIII. How can my Muse want subject to invent, Как может Муза сочинять сюжет, While thou dost breathe, that pour’st into my verse Пока твое дыханье льется в стих? Thine own sweet argument, too excellent Сюжет настоль твой чуден - проку нет For every vulgar paper to rehearse? Ему чтоб вторить для бумаг любых. O, give thyself the thanks, if aught in me Себя благодари, в моих коль ты Worthy perusal stand against thy sight; Найдешь достойное с тобою спорить. For who’s so dumb that cannot write to thee, Чтоб не воспеть тебя, нет немоты, When thou thyself dost give invention light? И в творчестве тебе лишь нужно вторить. Be thou the tenth Muse, ten times more in worth Десятой Музой, в десять раз ценней Than those old nine which rhymers invocate; Будь, чем те старых девять, так любимых, And he that calls on thee, let him bring forth И дай нести тому, придет кто к ней, Eternal numbers to outlive long date. Стих вечный по дороге жизни длинной. If my slight Muse do please these curious days, Моя б коль Муза груз сих дней взяла, The pain be mine, but thine shall be the praise. Страданья - мне, тебе же - похвала. XXXIX. XXXIX. O, how thy worth with manners may I sing, О, как твои достоинства вознесть, When thou art all the better part of me? Когда ты лучшее, что есть во мне? What can mine own praise to mine own self bring? Что могут мне мои ж хвалы принесть? And what is ’t but mine own when I praise thee? И что мое, когда пою тебе? Even for this let us divided live, Для этого пусть врозь мы будем жить, And our dear love lose name of single one, Любовь теряет имя единенья, That by this separation I may give Чтоб то, что только ты мог заслужить, That due to thee which thou deservest alone. Смог дать тебе я этим разделеньем. O absence, what a torment wouldst thou prove, В разлуке ты столь испытаешь мук, Were it not thy sour leisure gave sweet leave Ее хоть сладость дал досуг твой кислый. To entertain the time with thoughts of love, Лишь мысли о любви - весь наш досуг Which time and thoughts so sweetly doth deceive, Она ж обманет время да и мысли. And that thou teachest how to make one twain, Ты учишь, одному как разделиться, By praising him here who doth hence remain! Хваля того здесь, смог кто удалиться. XL. XL. Take all my loves, my love, yea, take them all; Возьми ты все мои любви, да все! What hast thou then more than thou hadst before? Что больше ты имеешь, чем имел? No love, my love, that thou mayst true love call; Хотя б одну неверной звать посмел, - All mine was thine before thou hadst this more. Имея ж все, ты превзошел предел. Then if for my love thou my love receivest, Коль для моей любви ее ж берешь, I cannot blame thee for my love thou usest; Как обвиню, что пользуешься ею. But yet be blamed, if thou thyself deceivest Виновным будешь, коль себе солжешь, By wilful taste of what thyself refusest. Отвергнутым намеренно владея. I do forgive thy robbery, gentle thief, Мой милый вор, грабеж тебе прощу, Although thou steal thee all my poverty; Хоть ты украл себе мою всю бедность. And yet, love knows, it is a greater grief Все ж от любви я лжи сильней грущу, To bear love’s wrong than hate’s known injury. Чем ненависти вынося ущербность. Lascivious grace, in whom all ill well shows, О, сладострастник, налицо зло в ком, Kill me with spites; yet we must not be foes. Убей ты им, чтоб лишь не быть врагом. XLI. XLI. Those petty wrongs that liberty commits, Та мелочь зла, свобода что творит, When I am sometime absent from thy heart, Когда я сердце вдруг твое покину, Thy beauty and thy years full well befits, Красе, годам твоим навряд претит, For still temptation follows where thou art. Соблазны коль еще не кажут спину. Gentle thou art and therefore to be won, Коль благороден - будешь побежден, Beauteous thou art, therefore to be assailed; Прекрасен коль, то будешь атакован. And when a woman woos, what woman’s son Сын женщины - ее ж не бросит он, Will sourly leave her till she have prevailed? Пока не будет ею завоеван? Ay me! but yet thou mightest my seat forbear, Мне ж горе! Мог бы трон мой миновать, And chide try beauty and thy straying youth, Бранить красы, годов ли заблужденья, Who lead thee in their riot even there Что могут в буйстве их туда зазвать, Where thou art forced to break a twofold truth, Где истин двух допустишь искаженье: Hers by thy beauty tempting her to thee, Ее, красой влюбив ее в себя, Thine, by thy beauty being false to me. Своей, красой же обманув меня. XLII. XLII. That thou hast her, it is not all my grief, Что с ней был ты - не вся моя печаль. And yet it may be said I loved her dearly; Сказать бы мог - ее любил я нежно. That she hath thee, is of my wailing chief, Что ты - ее, - вот слез моих главарь, A loss in love that touches me more nearly. В любви потери - вот что безутешно! Loving offenders, thus I will excuse ye: Любя обидчиков - так извиню вас я: Thou dost love her, because thou knowst I love her; Ведь в ней мою любимую ты любишь, And for my sake even so doth she abuse me, Она мной жертвует и снова для меня, Suffering my friend for my sake to approve her. Ради меня ж ее ты не осудишь. If I lose thee, my loss is my love’s gain, Тебя теряю - для своей любви, And losing her, my friend hath found that loss; Потерю друг найдет, ее теряя. Both find each other, and I lose both twain, Двоих теряю я - найдитесь вы, And both for my sake lay on me this cross: Меня же ради несть сей крест вручая. But here’s the joy; my friend and I are one; Но к счастью, коль с тобой неразделимы - Sweet flattery! then she loves but me alone. Пусть и обман! - лишь я ее любимый. XLIII. XLIII. When most I wink, then do mine eyes best see, Прикрыв глаза лишь, вижу лучше я - For all the day they view things unrespected; Не столь приятны днем у них виденья. But when I sleep, in dreams they look on thee, Когда лишь сплю, в мечтаньях зрят тебя, And darkly bright are bright in dark directed. И тусклый свет их ярче в ночи тени. Then thou, whose shadow shadows doth make bright, И ты, чья свет дает и тени тень, How would thy shadow’s form form happy show Мог сделать б светоч, светом наполняя To the clear day with thy much clearer light, Свою лишь форму тени в ясный день, When to unseeing eyes thy shade shines so! Коль для незрячих глаз так тень сияет. How would, I say, mine eyes be blessed made Как были б счастливы мои глаза, By looking on thee in the living day, Во дне живущем на тебя взирая, When in dead night thy fair imperfect shade Коль ночью мертвою в виденьях сна Through heavy sleep on sightless eyes doth stay! Тень светлая на них след оставляет! All days are nights to see till I see thee, Как ночи - дни, не видя чтоб смотреть, And nights bright days when dreams do show thee me. Ночами чтоб, как днем, тебя узреть. XLIV. XLIV. If the dull substance of my flesh were thought, Будь мыслью плоть унылая моя - Injurious distance should not stop my way; Разлуки б даль легко преодолела, For then despite of space I would be brought, Назло б пространству принесла меня From limits far remote where thou dost stay. Туда, где ты, из-за его пределов. No matter then although my foot did stand Где б ни был я - на это не смотря - Upon the farthest earth removed from thee; Стой на земле отсюда самой дальней, For nimble thought can jump both sea and land Мысль земли б перепрыгнула, моря, As soon as think the place where he would be. Подумав о тебе лишь - моментально. But ah! thought kills me that I am not thought, Но я - не мысль, и эта мысль гнетет, To leap large lengths of miles when thou art gone, Так далеко вослед тебе не прыгнуть. But that so much of earth and water wrought Мой стон со мной досуг мой проведет, I must attend time’s leisure with my moan, Коль из воды с землей я сам воздвигнут. Receiving nought by elements so slow Из них ничем я сделаюсь тогда But heavy tears, badges of either’s woe. От горя слез, чье горе не беда. XLV. XLV. The other two, slight air and purging fire, Те ж двое: воздух, огнь очищенья, - Are both with thee, wherever I abide; С тобою оба, где бы ни был я. The first my thought, the other my desire, Желанье - тот, а этот - мысль моя, These present-absent with swift motion slide. Всегда неуловимы и в движеньи. For when these quicker elements are gone Когда ушли - столь легкие - они In tender embassy of love to thee, К тебе любви волнующим посланьем, My life, being made of four, with two alone Из четырех лишившись тех двоих, Sinks down to death, oppress’d with melancholy; Жизнь тонет в смерть под тяжестью страданья; Until life’s composition be recured Пока состав ей не возобновят By those swift messengers return’d from thee, Посланцы те своим лишь возвращеньем, Who even but now come back again, assured Кто тотчас возвратятся же назад, Of thy fair health, recounting it to me: Дать знать мне о твоем выздоровленье. This told, I joy; but then no longer glad, Я рад тому, но более доволен, I send them back again and straight grow sad. Когда пошлю назад и стану болен. XLVI. XLVI. Mine eye and heart are at a mortal war Ведут мой глаз и сердце смертный бой - How to divide the conquest of thy sight; Кому ж дано завоевать твой вид. Mine eye my heart thy picture’s sight would bar, Глаз к сердцу облик не допустит твой, My heart mine eye the freedom of that right. Свободы прав тех сердце ль глаз лишит. My heart doth plead that thou in him dost lie-- Что ты лежишь в нем, сердце заявляет, A closet never pierced with crystal eyes-- Как в недоступном глазу тайнике. But the defendant doth that plea deny Тот заявленье то опровергает - And says in him thy fair appearance lies. Мол образ твой лишь в глаза уголке. To ’cide this title is impanneled Предмет раздора отдан в суд присяжных, A quest of thoughts, all tenants to the heart, И претенденты - в мыслей-судей власть. And by their verdict is determined По их вердикту получает каждый: The clear eye’s moiety and the dear heart’s part: Взор ясный половину, сердце - часть: As thus; mine eye’s due is thy outward part, Мой взор твой облик получает в долю, And my heart’s right thy inward love of heart. А сердце - сердце и с твоей любовью. XLVII. XLVII. Betwixt mine eye and heart a league is took, Меж взором с сердцем снова мир и лад, And each doth good turns now unto the other: Стремится каждый услужить другому: When that mine eye is famish’d for a look, Когда нуждается в виденьи взгляд, Or heart in love with sighs himself doth smother, В любви ли сердце, задыхаясь стоном, With my love’s picture then my eye doth feast С любви картиной взор устроит пир, And to the painted banquet bids my heart; За стол-рисунок сердце приглашая, Another time mine eye is my heart’s guest В другой же раз для сердца гость - кумир, And in his thoughts of love doth share a part: Любовной мыслью щедро угощает: So, either by thy picture or my love, Так, в образе ль своем, в моей любви Thyself away art resent still with me; Пусть ты далек и на меня в обиде, - For thou not farther than my thoughts canst move, Не дальше ж, мысли чем летят мои. And I am still with them and they with thee; Они с тобой, а с ними я в их виде. Or, if they sleep, thy picture in my sight Коль спят они, твой вид в глазах моих Awakes my heart to heart’s and eye’s delight. И сердце будит, восхищая их. XLVIII. XLVIII. How careful was I, when I took my way, Как тщателен я был, готовясь в путь: Each trifle under truest bars to thrust, Пустяк любой закрыл надежным мненьем, That to my use it might unused stay Оставив все, не смог чтоб посягнуть From hands of falsehood, in sure wards of trust! На то подлог, на веры попеченье! But thou, to whom my jewels trifles are, Ты ж, для кого и мой алмаз - пустяк, Most worthy of comfort, now my greatest grief, Достойный благ всех, - брошен мною в горе. Thou, best of dearest and mine only care, Ничто другое не хранил я так! - Art left the prey of every vulgar thief. Найдешь теперь ты вора в каждом воре. Thee have I not lock’d up in any chest, Тебя не спрятал я в любой груди - Save where thou art not, though I feel thou art, Лишь в той, где нет, хотя ты есть, я чую, Within the gentle closure of my breast, Внутри моей незапертой, уйти From whence at pleasure thou mayst come and part; Откуда волен ты и в жизнь иную. And even thence thou wilt be stol’n, I fear, Но и отсюда выкрасть может ворог. For truth proves thievish for a prize so dear. Воров испытывать - приз слишком дорог. XLIX. XLIX. Against that time, if ever that time come, Ко времени тому, коль вдруг придет, When I shall see thee frown on my defects, Когда в тебе увижу небреженье, When as thy love hath cast his utmost sum, Когда любовь итог мне свой швырнет, Call’d to that audit by advised respects; Проверить чтобы названным значеньем; Against that time when thou shalt strangely pass Ко времени тому, минешь когда, And scarcely greet me with that sun thine eye, Едва приветствуя сияньем взора, When love, converted from the thing it was, Когда любовь - совсем уже не та - Shall reasons find of settled gravity,-- В степенности начнет искать опору, - Against that time do I ensconce me here Ко времени тому устроюсь здесь - Within the knowledge of mine own desert, В пределах собственной заслуги знанья, And this my hand against myself uprear, В том, что смог руку на себя ж занесть, To guard the lawful reasons on thy part: Причинам дать твоим чтоб оправданье: To leave poor me thou hast the strength of laws, Меня законом можешь разорить, Since why to love I can allege no cause. Найду я оправданье, чтоб любить. L. L. How heavy do I journey on the way, Какой тяжелый путь я совершаю When what I seek, my weary travel’s end, И что ищу, так лишь конец пути, Doth teach that ease and that repose to say Что отдых говорить мой научает: ’Thus far the miles are measured from thy friend!’ "От друга мили все смогли пройти!" The beast that bears me, tired with my woe, Несущий зверь устал -едва шагает - Plods dully on, to bear that weight in me, От горя, что несет со мной во мне. As if by some instinct the wretch did know Злодей чутьем каким-то будто знает - His rider loved not speed, being made from thee: Не любит всадник спешки не к тебе: The bloody spur cannot provoke him on Кровавой шпорой не взбодрить бедняжку, That sometimes anger thrusts into his hide; Хоть злит порою, шкуру проколов, Which heavily he answers with a groan, На что он стоном отвечает тяжким, More sharp to me than spurring to his side; Что бьет больней, чем стимулы боков. For that same groan doth put this in my mind; Для этого ж напомнит стон: гляди - My grief lies onward and my joy behind. Вся радость сзади, горе ж впереди! LI. LI. Thus can my love excuse the slow offence Коль от тебя спешу, тем извинить Of my dull bearer when from thee I speed: Любовь смогла б носильщика помехи: From where thou art why should I haste me thence? Здесь коли ты, зачем так нам спешить? Till I return, of posting is no need. Зачем, коль я не возвращаюсь, вехи! O, what excuse will my poor beast then find, Но что же зверя извинит, когда When swift extremity can seem but slow? Неспешно с ним мы устремимся к краю? Then should I spur, though mounted on the wind; Ведь я и ветр пришпорил бы тогда - In winged speed no motion shall I know: Быстрей желанья скорость вряд познаю. Then can no horse with my desire keep pace; Конь от него не сможет не отстать, Therefore desire of perfect’st love being made, Любви желанье в чем найдет удачу. Shall neigh--no dull flesh--in his fiery race; Не плоть в обратной гонке будет ржать - But love, for love, thus shall excuse my jade; Любовь и для любви, простя тем клячу. Since from thee going he went wilful-slow, Раз от тебя идя, он в шаге лжив, Towards thee I’ll run, and give him leave to go. К тебе помчусь, поводья отпустив. LII. LII. So am I as the rich, whose blessed key Я что богач, благословен чей ключ - Can bring him to his sweet up-locked treasure, Ведет к открытию его ж сокровищ. The which he will not every hour survey, На них он редко бросит взора луч, For blunting the fine point of seldom pleasure. Что тупит наслажденья острие лишь. Therefore are feasts so solemn and so rare, С того пиры обильны, но редки - Since, seldom coming, in the long year set, На дольше хватит, если реже ели - Like stones of worth they thinly placed are, Как камни драгоценные, метки, Or captain jewels in the carcanet. Иль самый главный камень в ожерелье. So is the time that keeps you as my chest, Так время, что, как грудь, моя хранит Or as the wardrobe which the robe doth hide, Вас, или шкаф, что ваш наряд скрывает, To make some special instant special blest, Момент какой-либо благословит, By new unfolding his imprison’d pride. Его величье снова раскрывая. Blessed are you, whose worthiness gives scope, Благословенны Вы, дает Ваш ключ Being had, to triumph, being lack’d, to hope. Триумф имущим, всем - надежды луч. LIII. LIII. What is your substance, whereof are you made, Ты создан из какого ж вещества, That millions of strange shadows on you tend? Тебе теней коль служат миллион? Since every one hath, every one, one shade, У одного - у каждого - одна, And you, but one, can every shadow lend. Ты каждому мог дать бы тень в заем. Describe Adonis, and the counterfeit Изобрази Адониса. Портрет - Is poorly imitated after you; Лишь жалкое подобие твое. On Helen’s cheek all art of beauty set, В Елены щечках - красоты всей цвет, And you in Grecian tires are painted new: Ты в платье древнем создал вновь ее. Speak of the spring and foison of the year; Весну лишь вспомню, время урожая - The one doth shadow of your beauty show, Одна как тень твоей лишь красоты, The other as your bounty doth appear; Другой твоим щедротам подражает, - And you in every blessed shape we know. В любой благословенной форме - ты. In all external grace you have some part, В прекрасном внешне есть твои черты, But you like none, none you, for constant heart. Для сердца ж ты - никто, никто же - ты. LIV. LIV. O, how much more doth beauty beauteous seem Краса настолько кажется прекрасней By that sweet ornament which truth doth give! За счет прикрас, что истина дает! The rose looks fair, but fairer we it deem Красива роза, но ее ж украсит For that sweet odour which doth in it live. Тот аромат для нас, что в ней живет. The canker-blooms have full as deep a dye Все у шиповника: и цвет бездонный, As the perfumed tincture of the roses, И аромата след, - от роз самих, Hang on such thorns and play as wantonly И средь шипов же высыпет бутоны, When summer’s breath their masked buds discloses: Дыханье лета лишь раскроет их. But, for their virtue only is their show, Но весь эффект их - видимость сплошная, They live unwoo’d and unrespected fade, Живут одни, их смерть не встретит слез. Die to themselves. Sweet roses do not so; В себе и мрут. У роз судьба иная: Of their sweet deaths are sweetest odours made: Их смерть сильней благоухает роз. And so of you, beauteous and lovely youth, Краса умрет лишь ваших юных лет, When that shall fade, my verse distills your truth. Стих в каплях правды сохранит их цвет. LV. LV. Not marble, nor the gilded monuments Нет, мрамор, злато памятников царских Of princes, shall outlive this powerful rhyme; Мощь этой рифмы вряд переживет. But you shall shine more bright in these contents На площадях сих свет твой вспыхнет яркий, Than unswept stone besmear’d with sluttish time. Затмя тех блеск, что Время не снесет, When wasteful war shall statues overturn, Когда война грязь в грязь же и низвергнет, And broils root out the work of masonry, Масонов труд срывая до корней, Nor Mars his sword nor war’s quick fire shall burn Ни меч, ни огнь разрухе не подвергнет The living record of your memory. Живую запись памяти твоей. Gainst death and all-oblivious enmity Назло смертям, беспамятной вражде ли Shall you pace forth; your praise shall still find room Пойдешь вперед, где ждет хвала - туда, Even in the eyes of all posterity Где все глаза потомки проглядели, That wear this world out to the ending doom. Кто сносит мир до смертного суда. So, till the judgment that yourself arise, А до Суда, где ты воскреснешь вновь, You live in this, and dwell in lover’s eyes. Живи в стихах, в глазах моих, любовь. LVI. LVI. Sweet love, renew thy force; be it not said Взбодрись, любовь! Коль это не сказать, Thy edge should blunter be than appetite, Предел твой аппетита б стал тупее, Which but to-day by feeding is allay’d, Того ж - сегодня сколь ни притуплять - To-morrow sharpen’d in his former might: Назавтра будет он еще острее: So, love, be thou; although to-day thou fill Так ты, любовь, сегодня утоля Thy hungry eyes even till they wink with fullness, Голодный взор свой до пересыщенья, To-morrow see again, and do not kill Вновь завтра смотришь, заглушить нельзя The spirit of love with a perpetual dullness. Сей пыл любви и вечным притупленьем. Let this sad interim like the ocean be Стань с океан часы разлуки той, Which parts the shore, where two contracted new Брега влюбленных разделите далью, Come daily to the banks, that, when they see Чтоб глядя пристально на брег другой, Return of love, more blest may be the view; Любовь узрев, еще счастливей стали. Else call it winter, which being full of care Зимой зови ли то, приход где лета Makes summer’s welcome thrice more wish’d, more rare. Желанней втрое и на столь же редок. LVII. LVII. Being your slave, what should I do but tend Что должен делать раб твой - ожидать Upon the hours and times of your desire? Часами, ль долее твоих желаний? I have no precious time at all to spend, Но у меня нет времени - терять, Nor services to do, till you require. Услуг, чтоб делать, нет коль указаний. Nor dare I chide the world-without-end hour Не смею упрекать тот вечный час, Whilst I, my sovereign, watch the clock for you, Пока твой час часами ожидаю; Nor think the bitterness of absence sour Прощай ли слыша от тебя подчас, When you have bid your servant once adieu; Разлуки горечь в мысль не допускаю; Nor dare I question with my jealous thought Мысль не коснется с ревностью того, Where you may be, or your affairs suppose, Где можешь быть, твоих ли связей мнимых. But, like a sad slave, stay and think of nought Стою, как раб, и мыслю лишь одно: Save, where you are how happy you make those. Везде где ты - везде ты средь счастливых. So true a fool is love that in your will, Любовь - тот истинный дурак, слуга: Though you do any thing, he thinks no ill. Ей платишь злом, а в мыслях ты без зла. LVIII. LVIII. That god forbid that made me first your slave, Избави Бог, сперва создав слугой, I should in thought control your times of pleasure, И в мыслях время нег твоих проверить, Or at your hand the account of hours to crave, Иль счет часам вести твоей ж рукой! - Being your vassal, bound to stay your leisure! В твоем досуге твой вассал - за дверью. O, let me suffer, being at your beck, Дозволь терпеть в посыльных у тебя The imprison’d absence of your liberty; В тюрьме твоей свободы заточенье; And patience, tame to sufferance, bide each cheque, Терпенье стерпит каждый чек, терпя, Without accusing you of injury. Не обвинив в ущербе-оскорбленьи. Be where you list, your charter is so strong Настоль ты в привилегиях сильна, That you yourself may privilege your time Что времени дать их имеешь право To what you will; to you it doth belong Бывать везде; ты прав не лишена Yourself to pardon of self-doing crime. Прощать себе свои грехи-забавы. I am to wait, though waiting so be hell; Я должен ждать, будь ожиданье адом, Not blame your pleasure, be it ill or well. Благие, злые ли простив услады. LIX. LIX. If there be nothing new, but that which is Нет нового коль ничего, что ж есть Hath been before, how are our brains beguiled, И прежде было - ложью ум пленен наш, Which, labouring for invention, bear amiss Изобретая зря коль должен несть The second burden of a former child! Плод снова уж рожденного ребенка. O, that record could with a backward look, Пусть летопись, куда бы взор проник Even of five hundred courses of the sun, Лет на пятьсот хоть летоисчисленья, Show me your image in some antique book, Покажет образ ваш в одной из книг - Since mind at first in character was done! Ведь в знаке то впервой родилось мненье! That I might see what the old world could say Увижу в том, что мог тот мир сказать To this composed wonder of your frame; О вас со столь спокойным изумленьем, - Whether we are mended, or whether better they, Мы ль стали лучше, повернули вспять, Or whether revolution be the same. Иль то же самое планет вращенье. O, sure I am, the wits of former days Уверен я, что ум былого дней To subjects worse have given admiring praise. Субьекты худшие хвалил сильней. LX. LX. Like as the waves make towards the pebbled shore, Как волны бьются в берег каменистый, So do our minutes hasten to their end; Спешат мгновенья наши к их концу; Each changing place with that which goes before, Сменяя тех, кто более был быстрым, In sequent toil all forwards do contend. Сметая их, стремятся к их венцу. Nativity, once in the main of light, Рожденные раз в океане света Crawls to maturity, wherewith being crown’d, Ползут - где зрелость коронует их Crooked elipses ’gainst his glory fight, Кривым овалом - гордости предметом; And Time that gave doth now his gift confound. А время дар свой разрушает в них, Time doth transfix the flourish set on youth Цветенье юности на них пронзая, And delves the parallels in beauty’s brow, Чертя ли парраллелями красу, Feeds on the rarities of nature’s truth, Природы раритетами питаясь, And nothing stands but for his scythe to mow: Что, как и все, попало под косу: And yet to times in hope my verse shall stand, Назло лишь времени стоять стих будет мой, Praising thy worth, despite his cruel hand. Хваля твое, что пало под косой. LXI. LXI. Is it thy will thy image should keep open Твое ль желанье, чтобы образ твой мне My heavy eyelids to the weary night? Всю ночь не дал сомкнуть тяжелых век? Dost thou desire my slumbers should be broken, Желаешь ты ли, чтоб мой сон был сломлен While shadows like to thee do mock my sight? Твоей же тенью, поднявшей на смех? Is it thy spirit that thou send’st from thee Не твой ко мне ль ты посылаешь призрак, So far from home into my deeds to pry, Соваться чтобы не в его круг дел, To find out shames and idle hours in me, Выискивать обиды,лень, в чем низок, The scope and tenor of thy jealousy? Для ревности цель, облик и предел? O, no! thy love, though much, is not so great: Любовь, да, велика, но не велика It is my love that keeps mine eye awake; Твоя! И спать мне не дает моя; Mine own true love that doth my rest defeat, Моя ж мой сон прервать готова мигом, To play the watchman ever for thy sake: Сыграть чтоб часового для тебя. For thee watch I whilst thou dost wake elsewhere, Пока не спишь ты, я с тобою взглядом, From me far off, with others all too near. Ведь не со мной ты, а с другими рядом. LXII. LXII. Sin of self-love possesseth all mine eye Грех себялюбья взором овладел, And all my soul and all my every part; И всей душой, моею каждой частью; And for this sin there is no remedy, Найти лекарств я разве не хотел - It is so grounded inward in my heart. Но ведь в его ж глубины сердца власти! Methinks no face so gracious is as mine, Ничей мне лик не кажется милей, No shape so true, no truth of such account; Ни форма - правильней, верней - оценка, And for myself mine own worth do define, И добавляя так себе нулей, As I all other in all worths surmount. Я подвергаю всех других уценке. But when my glass shows me myself indeed, Зерцало ж покажи мне все как есть: Beated and chopp’d with tann’d antiquity, Побитого, дубленного годами - Mine own self-love quite contrary I read; Иное в себялюбье мог прочесть; Self so self-loving were iniquity. Несправедливо самолюбованье. ’Tis thee, myself, that for myself I praise, То все тебе, что я себе воздал хвалой, Painting my age with beauty of thy days. Мой возраст крася дней твоих красой. LXIII. LXIII. Against my love shall be, as I am now, Какой сейчас я, тем же быть любви, With Time’s injurious hand crush’d and o’er-worn; Изношенный, сокрушенный годами, When hours have drain’d his blood and fill’d his brow Что сушат кровь, наполнят сверх брови With lines and wrinkles; when his youthful morn Морщин; лишь стоит утру вместе с нами Hath travell’d on to age’s steepy night, Взойти на возраста обрыв ночной, And all those beauties whereof now he’s king И все красоты, что король лишь носит, Are vanishing or vanish’d out of sight, Исчезнут в бездне вмиг и за собой Stealing away the treasure of his spring; Вниз увлекут сокровища и весен. For such a time do I now fortify И вкруг того я стены возвожу, Against confounding age’s cruel knife, К чему ножа годов так рвется жало, That he shall never cut from memory Чтоб никогда не вырезать ножу My sweet love’s beauty, though my lover’s life: Красы любви моей - не жизни жалко. His beauty shall in these black lines be seen, В стенах сих строф краса его видна, And they shall live, and he in them still green. Пусть и черны - она в них зелена. LXIV. LXIV. When I have seen by Time’s fell hand defaced Когда я видел, пала как цена The rich proud cost of outworn buried age; Лет сношенных, рукой времен что стерты, When sometime lofty towers I see down-razed Высокая ль вдруг башня снесена, And brass eternal slave to mortal rage; Медь вечную ли в судорогах смертных; When I have seen the hungry ocean gain Иль вижу, как голодный океан Advantage on the kingdom of the shore, Сжирает королевства суши берег, And the firm soil win of the watery main, Или над ним земных победу стран, Increasing store with loss and loss with store; С потерей роста, с ростом ли потери; When I have seen such interchange of state, Страна ль вдруг так меняется с другой, Or state itself confounded to decay; Себя ли с тою спутав, разрушает; Ruin hath taught me thus to ruminate, Руины учат мысли лишь одной: That Time will come and take my love away. Любовь такая ж участь ожидает. This thought is as a death, which cannot choose Та мысль, как смерть, она не выбирает But weep to have that which it fears to lose. И плачет, чтоб иметь, что потеряет. LXV. LXV. Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea, Земля, медь, камень, море - нет, никто, But sad mortality o’er-sways their power, Но смерть уныло твердь всех расшатает; How with this rage shall beauty hold a plea, Представь красу, что с нею в спор вступает, Whose action is no stronger than a flower? Коль не сильней по силе, чем цветок! O, how shall summer’s honey breath hold out Медовым вздохом противостоять Against the wreckful siege of battering days, Под градом дней губительной осаде, When rocks impregnable are not so stout, Что неприступным стенам не сдержать? Nor gates of steel so strong, but Time decays? Врат сталь крепка, но не у Время сзади. O fearful meditation! where, alack, О, ужас дум, сокровище Времен Shall Time’s best jewel from Time’s chest lie hid? Где скрыть от Времени ж казны-могилы? Or what strong hand can hold his swift foot back? Чьей Он ль рукой вспять мог быть обращен, Or who his spoil of beauty can forbid? Красу ль Ему что б портить запретило? O, none, unless this miracle have might, Ничто, коль чудо той не знает силы, That in black ink my love may still shine bright. Любовь чем в черных светится чернилах. LXVI. LXVI. Tired with all these, for restful death I cry, Зову я смерть, всем этим утомлен: As, to behold desert a beggar born, Что неимущий только зрит награды, And needy nothing trimm’d in jollity, А кто имел все - в радость обряжен, And purest faith unhappily forsworn, А вера чистая отречься рада, And guilded honour shamefully misplaced, А честь бесчестным всюду отдают, And maiden virtue rudely strumpeted, И Девы честь вульгарно продается, And right perfection wrongfully disgraced, А совершенство грязью обольют, And strength by limping sway disabled, А сила слабой власти поддается, And art made tongue-tied by authority, И Муза властью сделана немой, And folly doctor-like controlling skill, И правит глупость мастерством, как мастер, And simple truth miscall’d simplicity, А просто правду звать коль простотой, And captive good attending captain ill: И Доброта у князя зла во власти: Tired with all these, from these would I be gone, Устав от этого, давно б все бросил я, Save that, to die, I leave my love alone. Но как здесь бросить одного тебя. LXVII. LXVII. Ah! wherefore with infection should he live, Зачем ему среди пороков жить, And with his presence grace impiety, Соседством нечестивость украшая, That sin by him advantage should achieve Ведь должен грех столь выгод получить, And lace itself with his society? Сам украшеньем стать, лишь с ним общаясь? Why should false painting imitate his cheek Зачем румян ложь подражает щек And steal dead seeing of his living hue? Живому цвету, видимость воруя? Why should poor beauty indirectly seek Зачем прикрасам жаждать роз еще Roses of shadow, since his rose is true? От призрака, не розу ту живую? Why should he live, now Nature bankrupt is, Зачем он жив, Природа коль банкрот, Beggar’d of blood to blush through lively veins? И кровь краснеть заставила сквозь вены? For she hath no exchequer now but his, Казну всю промотав, она живет And, proud of many, lives upon his gains. За счет его, других вздувая цены. O, him she stores, to show what wealth she had Хранит его свидетельством богатства, In days long since, before these last so bad. С чем в наши дни пришлось и ей расстаться. LXVIII. LXVIII.* Thus is his cheek the map of days outworn, Итак, его щека - былого карта дня, When beauty lived and died as flowers do now, Где красота жила и умереть успела, Before the bastard signs of fair were born, Пока подделка не была ли рождена, Or durst inhabit on a living brow; Иль показаться на живом челе не смела: Before the golden tresses of the dead, Пред тем, когда златые косы мертвецов, The right of sepulchres, were shorn away, Права гробниц ли выстригаться стали, To live a second life on second head; Чтоб снова жить на новой крыше мудрецов, Ere beauty’s dead fleece made another gay: Что под красы той мертвой шерстью пол меняли. In him those holy antique hours are seen, В нем времена святой той древности видны Without all ornament, itself and true, Без всех прикрас они, правдивы и невинны, Making no summer of another’s green, Лета их без чужого лета зелены, Robbing no old to dress his beauty new; И обновят красу без краж одежд старинных. And him as for a map doth Nature store, На эту карту все Природа нанесла, To show false Art what beauty was of yore. Искусству показать - какой краса была. * - далее - 6-стопный ямб LXIX. LXIX. Those parts of thee that the world’s eye doth view Во всем твоем, что созерцает глаз всемирный, Want nothing that the thought of hearts can mend; Нет, то что сердца мысль исправить бы могла; All tongues, the voice of souls, give thee that due, Все воздают тебе: языки, душ всех лиры, - Uttering bare truth, even so as foes commend. Что даже враг кивнет - так правда та гола. Thy outward thus with outward praise is crown’d; Так внешний ты хвалою внешней коронован, But those same tongues that give thee so thine own Но языки, что так тебе ж дают тебя, In other accents do this praise confound Хвалу в хулу оборотят акцентом новым, By seeing farther than the eye hath shown. Увидев дальше, чем глаза у них глядят. They look into the beauty of thy mind, Не на красу взглянут а на ума красоты, And that, in guess, they measure by thy deeds; Оценивая их пусть по твоим делам; Then, churls, their thoughts, although their eyes were kind, То мысль невеж, будь их глаза как с медом соты, To thy fair flower add the rank smell of weeds: Подсадят гнусных сорняков к твоим цветам: But why thy odour matcheth not thy show, И потому твой аромат, как вид, не видный, The solve is this, that thou dost common grow. Что рос и цвел ты на земле, увы, общинной. LXX. LXX. That thou art blamed shall not be thy defect, То в чем винят, твоим изьяном то не станет, For slander’s mark was ever yet the fair; С клеймом ведь клеветы всегда была краса, The ornament of beauty is suspect, И для красы все подозрения - орнамент, A crow that flies in heaven’s sweetest air. Как ворон, что парит в светлейших небесах. So thou be good, slander doth but approve Будь хороша, молва как молвит, подтверждая Thy worth the greater, being woo’d of time; Достоинства сильней, чем ждешь ты от времен; For canker vice the sweetest buds doth love, Порока ж червь бутон получше выбирает, And thou present’st a pure unstained prime. Ты ж - самый чистый, незапятнанный бутон. Thou hast pass’d by the ambush of young days, Ты миновала все засады той весною, Either not assail’d or victor being charged; Иль не напал, иль победитель был так сыт; Yet this thy praise cannot be so thy praise, Но та хвала не той является хвалою, To tie up envy evermore enlarged: Чем мог быть зависти раскрытый рот закрыт. If some suspect of ill mask’d not thy show, Но подозренья б тень на лике не имела, Then thou alone kingdoms of hearts shouldst owe. То всеми царствами сердец одна б владела. LXXI. LXXI. No longer mourn for me when I am dead Любовь, не дольше плачь по мне, когда умру, - Then you shall hear the surly sullen bell Пока лишь слышишь мрачный колокол печальный, Give warning to the world that I am fled Предупредит он этот мир, когда сбегу From this vile world, with vilest worms to dwell: Из мира грешного жить с мерзкими червями. Nay, if you read this line, remember not Когда ж строку прочтешь ты эту, позабудь The hand that writ it; for I love you so Ты о руке писавшей; так люблю тебя я, That I in your sweet thoughts would be forgot Что из твоих я должен мыслей ускользнуть, If thinking on me then should make you woe. Ведь обо мне не сможешь думать без печали. O, if, I say, you look upon this verse О,если, я сказал, ты смотришь этот стих, When I perhaps compounded am with clay, Когда, возможно, я смешался с прахом, с глиной, Do not so much as my poor name rehearse. Не повторяй так часто ты имен моих. But let your love even with my life decay, И пусть твоя любовь умрет с моей кончиной, Lest the wise world should look into your moan Что мир бы вдруг не изучил твой стон And mock you with me after I am gone. И нас не осмеял, когда я погребен. LXXII. LXXII. O, lest the world should task you to recite Чтоб мир не требовал с тебя перечислять What merit lived in me, that you should love Мои достоинства, что ты во мне любила, After my death, dear love, forget me quite, Посмертно, я хочу, чтоб ты меня забыла; For you in me can nothing worthy prove; Что для тебя во мне их может доказать? Unless you would devise some virtuous lie, Ведь, коль не сочинишь спасительную ложь, To do more for me than mine own desert, Чтоб больше дать, чем есть в моих заслуг пустыне, And hang more praise upon deceased I Похвал навешать больше ль на моей кончине, - Than niggard truth would willingly impart: У правды все ж скупца ты больше их найдешь. O, lest your true love may seem false in this, И чтоб любовь твоя и здесь не стала фальшью, That you for love speak well of me untrue, Где из любви ко мне расскажешь о другом, My name be buried where my body is, Зарою имя с телом под одним бугром, And live no more to shame nor me nor you. Чтоб не срамила жизнь с тобою нас и дальше. For I am shamed by that which I bring forth, И коли я стыжусь, несу сейчас кого, And so should you, to love things nothing worth. Ты не люби того, кто стоит ничего. LXXIII. LXXIII. That time of year thou mayst in me behold Ты созерцать во мне то можешь время года, When yellow leaves, or none, or few, do hang Когда лист желт, иль нет, иль мало их висит Upon those boughs which shake against the cold, На мерзлых веточках, что хлещутся о холод, Bare ruin’d choirs, where late the sweet birds sang. Пусты руины хор, где птиц не слышен свист. In me thou seest the twilight of such day Во мне ты сумерки того дня зришь воочью, As after sunset fadeth in the west, Что там на западе закату гаснут вслед, Which by and by black night doth take away, Да, те, что вскоре унесутся черной ночью - Death’s second self, that seals up all in rest. Мгновеньем Смерти, что печатью ставит крест. In me thou see’st the glowing of such fire Во мне ты отблеск видишь этого заката, That on the ashes of his youth doth lie, Сквозь пепелище юных лет чуть брезжит он, As the death-bed whereon it must expire На смертном одре угасая без возврата, Consumed with that which it was nourish’d by. И исчезая с тем, кем был он подожжен. This thou perceivest, which makes thy love more strong, То чувствуешь, что делает любовь сильнее, To love that well which thou must leave ere long. Любить чтоб крепче то, что бросишь вскоре с нею. LXXIV. LXXIV. But be contented: when that fell arrest Покоен будь, когда смертельный тот арест Without all bail shall carry me away, Меня умчит и под залог не отпуская, My life hath in this line some interest, Жизнь к этим строкам вдруг проявит интерес, Which for memorial still with thee shall stay. Что я с тобой тебе на память оставляю. When thou reviewest this, thou dost review Когда просмотришь их, то пересмотришь ты The very part was consecrate to thee: Ту часть главнейшую, что посвятил тебе я: The earth can have but earth, which is his due; Земля получит прах, что мы Земле должны; My spirit is thine, the better part of me: Моя ж душа - твоя, что ж есть во мне главнее! So then thou hast but lost the dregs of life, Тогда имеешь ты потерянным сей хлам, The prey of worms, my body being dead, Червей добычу, мертвые мои останки, The coward conquest of a wretch’s knife, Трусливую победу подлейшего ножа, - Too base of thee to be remembered. Низка основа, чтоб тебе оставить в память! The worth of that is that which it contains, Вся ценность этого в том, что содержит это, And that is this, and this with thee remains. И это то, с тобой что остается в летах. LXXV. LXXV. So are you to my thoughts as food to life, Для мыслей ты моих, что и для жизни явства, Or as sweet-season’d showers are to the ground; Дождь своевременный и свежий - для полей, And for the peace of you I hold such strife Для мира ж я с тобой с тобой в борьбе своей, As ’twixt a miser and his wealth is found; Какую видим мы меж скрягой и богатством: Now proud as an enjoyer and anon Сейчас он горд тем, обладатель тот, но тотчас Doubting the filching age will steal his treasure, Сомненье в годах-ворах богатство ж умыкнет, Now counting best to be with you alone, Сейчас считая лучшим вдвоем быть дни и ночи, Then better’d that the world may see my pleasure; Тогда сочту, чтоб видел мир то счастие мое; Sometime all full with feasting on your sight Порой пресыщен так твоим я созерцаньем, And by and by clean starved for a look; Но тут же трюм мой пуст, и голоден мой взгляд, Possessing or pursuing no delight, Не усладит ни поиск нас, ни обладанье, - Save what is had or must from you be took. Лишь то, что ты имела, иль то, что могут взять. Thus do I pine and surfeit day by day, Страдаю голодом с обжорством день за днем, Or gluttoning on all, or all away. То ненасытен всем, то все гори огнем. LXXVI. LXXVI. Why is my verse so barren of new pride, И отчего ж мой стих бесплоден в течке новшеств, So far from variation or quick change? Далек от вариаций так, от быстрых перемен, Why with the time do I not glance aside Что ж не гляжу порой по сторонам совсем To new-found methods and to compounds strange? Ища ль приемов новь, слов новых странно-сложных? Why write I still all one, ever the same, Что ж все еще пишу все тот, всегда тот самый And keep invention in a noted weed, И вписываю новшества в "за упокой" плевел, That every word doth almost tell my name, Что все слова звучат моими именами, Showing their birth and where they did proceed? И где рожден был, видно, кто и где взрослел? O, know, sweet love, I always write of you, Так знай, любовь, всегда пишу я лишь тебя, And you and love are still my argument; И ты, как и любовь, - мой аргумент как прежде, So all my best is dressing old words new, Все лучшее - то новь, но в старых слов одежде, Spending again what is already spent: Проматываю вновь, что уж растратил я: For as the sun is daily new and old, Как солнце каждый день и старо, и юнно, So is my love still telling what is told. Любовь то говорит, что произнесено. LXXVII. LXXVII. Thy glass will show thee how thy beauties wear, Покажет зеркало, как твой цветок увял, Thy dial how thy precious minutes waste; Твои часы - твоих минут бег холостой; The vacant leaves thy mind’s imprint will bear, След памяти твоей лист унесет пустой, And of this book this learning mayst thou taste. Чтоб изучая книгу ту ты это ж увидал: The wrinkles which thy glass will truly show Морщины показать зерцало может точно, Of mouthed graves will give thee memory; Пополнит память хор могильных голосов, Thou by thy dial’s shady stealth mayst know Узришь в уловке темной солнечных часов Time’s thievish progress to eternity. Времен ход вороватый к вечной ночи. Look, what thy memory can not contain Взор, память что твоя не сохранит сама Commit to these waste blanks, and thou shalt find Отдай пустым листам, где сам найдешь потом ты Those children nursed, deliver’d from thy brain, Детей рожденных в свет от твоего ума, To take a new acquaintance of thy mind. Для нового с твоей той памятью знакомства. These offices, so oft as thou wilt look, Здесь, чем ты чаще своим взором поникаешь, Shall profit thee and much enrich thy book. Себя и книгу больше тем обогащаешь. LXXVIII. LXXVIII. So oft have I invoked thee for my Muse Так часто звал тебя моей я Музой стать And found such fair assistance in my verse И находил в стихах помощников столь светлых, - As every alien pen hath got my use Не наши перья ж стали мной злоупотреблять, And under thee their poesy disperse. И под твоей пятой поэзья их исчезла. Thine eyes that taught the dumb on high to sing Твои глаза немого учат петь сопрано, And heavy ignorance aloft to fly Порхать невеж тяжелых учат в небесах, Have added feathers to the learned’s wing Добавят перья в крылья даже мудрым самым, And given grace a double majesty. И тем величия, велик кто дважды сам. Yet be most proud of that which I compile, Но больше все ж гордись предметом компиляций, Whose influence is thine and born of thee: Влиянье чье - твое, и кто рожден тобой, In others’ works thou dost but mend the style, На стиле их работ оно не может не сказаться, And arts with thy sweet graces graced be; Искусство грацией своей ты сделал красотой. But thou art all my art and dost advance Мое созданье, высота твоей заслуги, - As high as learning my rude ignorance. Лишь моего, увы, невежества услуги. LXXIX. LXXIX. Whilst I alone did call upon thy aid, Пока один нуждался я в твоей той ссуде, My verse alone had all thy gentle grace, Один владел послушной грацией стих мой, But now my gracious numbers are decay’d Но как стихов лишь изобилие убудет, And my sick Muse doth give another place. Уступит место Муза бледная другой. I grant, sweet love, thy lovely argument О да, любви твоей все ж тема основная Deserves the travail of a worthier pen, Мук заслужила подостойнее пера, Yet what of thee thy poet doth invent Ведь все что о тебе поэт твой сочиняет, He robs thee of and pays it thee again. Он у тебя крадет и платит длань вора. He lends thee virtue and he stole that word Дарит он добродетелью, украв то слово From thy behavior; beauty doth he give Из поведенья твоего, красой дарит, And found it in thy cheek; he can afford С твоих же щек списав. Не раб он произвола, No praise to thee but what in thee doth live. Чтоб не хвалить тебя; дай твоему лишь жить. Then thank him not for that which he doth say, И не благодари, за то что он сказал, Since what he owes thee thou thyself dost pay. Коль платишь сам, что он тебе же задолжал. LXXX. LXXX. O, how I faint when I of you do write, Как духом падаю, когда пишу о Вас, Knowing a better spirit doth use your name, Дух зная лучше, имя ваше кто терзает, And in the praise thereof spends all his might, И мощь кто всю свою хвале его отдаст, To make me tongue-tied, speaking of your fame! Чтоб рот заткнуть мне, говоря о ваше славе! But since your worth, wide as the ocean is, Но коль достоинство, что океан - твое, The humble as the proudest sail doth bear, А скромностью корабль ретивей выносился, My saucy bark inferior far to his Мой лайнер*, что длинной не соответствует его, On your broad main doth wilfully appear. В просторе гребней боя* все ж явился. Your shallowest help will hold me up afloat, Поможешь мелочью - я буду на плаву, Whilst he upon your soundless deep doth ride; Пока он из твоих немых глубин всплывает; Or being wreck’d, I am a worthless boat, Иль утону - никчемной лодкой я ж слыву, He of tall building and of goodly pride: Он ж ростом горд и что высокое ж слагает. Then if he thrive and I be cast away, Но если он цветет, а я же прогнан прочь, The worst was this; my love was my decay. То худшее уж было: моя любовь - из порчь. LXXXI. LXXXI. Or I shall live your epitaph to make, Я ль буду жить, чтоб ваш некролог сочинять, Or you survive when I in earth am rotten; Вам пережить меня ль, когда в земле гнить буду, From hence your memory death cannot take, Отсюда вашу память смерть не сможет взять, Although in me each part will be forgotten. Мою ж, увы, частицу каждую забудут. Your name from hence immortal life shall have, Здесь предстоит Вам жить бессмертной жизнью той, Though I, once gone, to all the world must die: Но раз уйдя, умру для мира для всего я, The earth can yield me but a common grave, Земля воздаст мне но могилой лишь простой, When you entombed in men’s eyes shall lie. Вам умерев найти в глазах людей покои. Your monument shall be my gentle verse, Вам монументом будет мой благородный стих, Which eyes not yet created shall o’er-read, Еще не созданным глазам зачитываться этим, And tongues to be your being shall rehearse И повторятся языки, чтоб жизнь нашли вы в них, When all the breathers of this world are dead; Хоть все живые существа умрут на этом свете. You still shall live--such virtue hath my pen-- Вам дальше жить - достоинство в том моего пера - Where breath most breathes, even in the mouths of men. Дыханье долее хранит, чем и людей уста. LXXXII. LXXXII. I grant thou wert not married to my Muse Я признаю: не обручен с моей ты Музою, And therefore mayst without attaint o’erlook Мог - без лишенья прав по смерти - пренебречь The dedicated words which writers use Дарами слов, что авторы используют Of their fair subject, blessing every book Для чести их субьекта; и приняв их речь, Thou art as fair in knowledge as in hue, В сношеньях столь ж красив ты, как и в форме, Finding thy worth a limit past my praise, Твои заслуги - грань былой хвалы моей, And therefore art enforced to seek anew И потому искать был принужден ты внове Some fresher stamp of the time-bettering days Свежее штампы улучшающихся дней, And do so, love; yet when they have devised И делай так, любовь! Когда те лишь открыли, What strained touches rhetoric can lend, Что реплик обнимающих риторика дает, Thou truly fair wert truly sympathized С красой, красив ты верно ведь, верны вы были In true plain words by thy true-telling friend; И слову верному, что верный друг речет. And their gross painting might be better used Мазне их грубой там нашлось бы примененье, Where cheeks need blood; in thee it is abused. Бледны где щеки; для тебя ж то - оскорбленье. LXXXIII. LXXXIII. I never saw that you did painting need Не видел никогда, чтоб вы румян нуждались, And therefore to your fair no painting set; С того твоей красе прикрас навесть не мог;. I found, or thought I found, you did exceed Сознал - иль думал, что создал, - Вы превышали The barren tender of a poet’s debt; Пустые предложенья вам вернуть поэтов долг. And therefore have I slept in your report, С того в писании о Вас спал беспробудно, That you yourself being extant well might show Что лучше все ж покажете Вы жизнью, что живет, How far a modern quill doth come too short, Насколько новое перо все ж прирастает скудно, Speaking of worth, what worth in you doth grow. Судя о ценности, цена чья в Вас растет. This silence for my sin you did impute, Молчанье ж то Вы мне как грех вменили мой, Which shall be most my glory, being dumb; Который только молча мне больше даст признанья, For I impair not beauty being mute, Ведь красоте не поврежу, останусь коль немой, When others would give life and bring a tomb. Другие ж смерть несут, дав жизнеописанье. There lives more life in one of your fair eyes Живет ведь жизни больше в одном из дивных глаз, Than both your poets can in praise devise. Чем два твоих поэта в хвалах своих создаст. LXXXIV. LXXXIV. Who is it that says most? which can say more И кто там много говорит? кто больше скажет, Than this rich praise, that you alone are you? Хвалы безмерной той, что Ты один есть Ты? In whose confine immured is the store В чем узник заточен - есть кладезь, что покажет Which should example where your equal grew. Пример того, тебе где равный мог расти. Lean penury within that pen doth dwell Живет скупая нищета внутри пера, That to his subject lends not some small glory; Что для его сюжета славы не добавит; But he that writes of you, if he can tell Но он, кто пишет о тебе, скажи лишь раз, That you are you, so dignifies his story, Что Ты есть Ты, сюжет он этим и прославит. Let him but copy what in you is writ, Скопировать дай текст, что был в тебе набросан Not making worse what nature made so clear, Природой ясно так, чтоб лишь не исказил, And such a counterpart shall fame his wit, Прославит эта копия его остроты, Making his style admired every where. Чем всюду изумит перо его, стило. You to your beauteous blessings add a curse, Добавишь к благу красоты проклятий злых, Being fond on praise, which makes your praises worse. Любя хвалу, что делает хулу из похвалы. LXXXV. LXXXV. My tongue-tied Muse in manners holds her still, Нема пусть Муза, но манер не сменит всуе, While comments of your praise, richly compiled, Пока твоих достоинств щедрый перепев Reserve their character with golden quill Кладет свой почерк золотым пером в резерв, And precious phrase by all the Muses filed. Манерный стиль свой всеми Музами шлифуя. I think good thoughts whilst other write good words, Добро я мыслю - пишут те слова добра, And like unletter’d clerk still cry ’Amen’ И как неграмотный писец вопят "аминь" To every hymn that able spirit affords На каждый гимн, что крепкий дух дарует им In polish’d form of well-refined pen. В тончайших формах утонченного пера. Hearing you praised, I say ’’Tis so, ’tis true,’ Хвалы те слыша, я реку: "То так, то верно", And to the most of praise add something more; Добавив кое-что к хвалам всем от себя, But that is in my thought, whose love to you, Но то, что в мыслях, в тех что любят так тебя, Though words come hindmost, holds his rank before. Слова придут поздней, но строй храня тот - первый. Then others for the breath of words respect, Тогда других за громкость слов ты можешь честь, Me for my dumb thoughts, speaking in effect. Меня ж за мысль, что тихо молвит все как есть. LXXXVI. LXXXVI. Was it the proud full sail of his great verse, Так ль гордый, полный парусник его стиха, Bound for the prize of all too precious you, К тебе в путь - к призу драгоценному готов был, That did my ripe thoughts in my brain inhearse, Что мыслей брег моих зарыл в моих мозгах, Making their tomb the womb wherein they grew? То чрево, где они росли, их сделав гробом? Was it his spirit, by spirits taught to write И дух его ль то, духами ж обученный писать Above a mortal pitch, that struck me dead? Почище дегтя смертных, насмерть мой прикончил? No, neither he, nor his compeers by night Нет, ни ему, и ни его друзьям по ночи - Giving him aid, my verse astonished. Его помощникам, мой стих не изумлять. He, nor that affable familiar ghost Ни он, ни ясный всем домашний призрак-автор, Which nightly gulls him with intelligence Дурачит ночью кто его вестей умом, As victors of my silence cannot boast; Победой надо мной немым не могут хвастать, - I was not sick of any fear from thence: Я никогда, увы, не ведал страха в том. But when your countenance fill’d up his line, Когда ж переполнял его ты стих хвалой, Then lack’d I matter; that enfeebled mine. Хотел быть значим я, что ослабляло мой. LXXXVII. LXXXVII. Farewell! thou art too dear for my possessing, Прощай! Так дорог моему ты обладанью, And like enough thou know’st thy estimate: К тому ж насколь в цене своей осведомлен, The charter of thy worth gives thee releasing; Настоль достоинств льготой и освобожден - My bonds in thee are all determinate. Всех долговых расписок сроки истекают. For how do I hold thee but by thy granting? Как удержать тебя, но с твоего согласья? And for that riches where is my deserving? Где наберу заслуг я для таких щедрот? The cause of this fair gift in me is wanting, Причин для дара все ж во мне не достает, And so my patent back again is swerving. В тылу патент имев, я снова непричастен. Thyself thou gavest, thy own worth then not knowing, Достоинство - твой ж дар - никто тогда не знал, Or me, to whom thou gavest it, else mistaking; Во мне ли заблуждались, кому его отдал ты, So thy great gift, upon misprision growing, Такой большой подарок, что после роста траты Comes home again, on better judgment making. Придя домой, получше мненье вновь создал. Thus have I had thee, as a dream doth flatter, Так был ты мой, как только сон один ласкает; In sleep a king, but waking no such matter. Спит в короле - не короля лишь пробуждает. LXXXVIII. LXXXVIII. When thou shalt be disposed to set me light, Когда решить ты вдруг испепелить меня, And place my merit in the eye of scorn, Предав заслуги все мои презренья взгляду, Upon thy side against myself I’ll fight, На стороне твоей сражаться буду я, And prove thee virtuous, though thou art forsworn. Петь добродетель там, где ты нарушишь клятву. With mine own weakness being best acquainted, Со слабостью своей, с чем лучше я ж знаком, Upon thy part I can set down a story На стороне твоей могу сложить я повесть Of faults conceal’d, wherein I am attainted, Ошибок, в чем я прав клеймом же их лишен, That thou in losing me shalt win much glory: Меня теряя, только выиграет гордость. And I by this will be a gainer too; Отсюда сам, как победитель, выхожу; For bending all my loving thoughts on thee, К тебе моей любви все мысли устремляя, The injuries that to myself I do, Все то, где сам себе ущерб я наношу, Doing thee vantage, double-vantage me. То выгода тебе, а, значит, мне - двойная. Such is my love, to thee I so belong, То есть любовь, тебе настоль принадлежу, That for thy right myself will bear all wrong. Что ради твоего добра все зло переношу. LXXXIX. LXXXIX. Say that thou didst forsake me for some fault, Скажи, что бросила меня за некие проступки, And I will comment upon that offence; И прегрешения свои я буду обьяснять, Speak of my lameness, and I straight will halt, Скажи, что хром, и прямо я начну хромать, Against thy reasons making no defence. И против доводов твоих не буду неприступным. Thou canst not, love, disgrace me half so ill, Не заклеймить меня греха лишь половиной, To set a form upon desired change, Ввести порядок чтоб в желанье изменить, As I’ll myself disgrace: knowing thy will, Твое желанье зная, буду сам клеймить, I will acquaintance strangle and look strange, Гнобить знакомое, но чужаком прослынув, Be absent from thy walks, and in my tongue Уйдя с твоей тропы, и в языке моем Thy sweet beloved name no more shall dwell, Не будет больше жить любимое мной имя, Lest I, too much profane, should do it wrong Случайно чтобы я, настолько нечестивен, And haply of our old acquaintance tell. Не показал, что я давно с тобой знаком. For thee against myself I’ll vow debate, Тебя лишь ради зло себя начну гнобить, For I must ne’er love him whom thou dost hate. Ведь ненавидишь ты кого, нельзя и мне любить. XC. XC. Then hate me when thou wilt; if ever, now; Возвенавидь, когда погубишь; да, теперь, Now, while the world is bent my deeds to cross, Пока мир склонен мне заслуги зачеркнуть, Join with the spite of fortune, make me bow, Откланяйся, со злом фортуны вместе будь, And do not drop in for an after-loss: Не возвращайся лишь для будущих потерь. Ah, do not, when my heart hath ’scoped this sorrow, Мое коль седце боль сумеет превозмочь, Come in the rearward of a conquer’d woe; Не надо заходить в тыл побежденной скорби. Give not a windy night a rainy morrow, И не меняй дождливым утром ветра ночь - To linger out a purposed overthrow. Намеренный мой крах оттягивать не стоит. If thou wilt leave me, do not leave me last, Оставишь коль меня - не оставляй последней, When other petty griefs have done their spite Когда все беды уж растратили их злость But in the onset come; so shall I taste И наступают вновь, тогда бы мне как прежде At first the very worst of fortune’s might, Мощь худшую судьбы вновь испытать пришлось, And other strains of woe, which now seem woe, Стихам же горя тем, где горе только мнится, Compared with loss of thee will not seem so. Иными быть, с потерей коль твоей сравниться. XCI. XCI. Some glory in their birth, some in their skill, Кто горд талантами, своим кто знатным родом, Some in their wealth, some in their bodies’ force, Богатством тот, другого славят телеса, Some in their garments, though new-fangled ill, Кто одеяньем до грешного новомодным, Some in their hawks and hounds, some in their horse; Кто плутом-соколом, кто статью жеребца. And every humour hath his adjunct pleasure, Отрадам в помощь все имеют юмор милый Wherein it finds a joy above the rest: В том радость обретать превыше всех других. But these particulars are not my measure; Но эти частности - то не мое мерило, All these I better in one general best. Я превзойду в одном, но лучшем общем их. Thy love is better than high birth to me, Твоя любовь мне лучше знатного рожденья, Richer than wealth, prouder than garments’ cost, Богатств богаче, и ценней цены одежд, Of more delight than hawks or horses be; Ей больше соколов, коней я в восхищеньи; And having thee, of all men’s pride I boast: Тебя имея, тем я горд мужчин все меж: Wretched in this alone, that thou mayst take Одним несчастлив - все забрать ты это можешь, All this away and me most wretched make. Тем сделав самым и несчастным тоже. XCII. XCII. But do thy worst to steal thyself away, Но сделай худшее - сама ты укради, For term of life thou art assured mine, Что до скончанья жизни вверила ты мне, And life no longer than thy love will stay, И жизнь задержится не долее любви, For it depends upon that love of thine. Посколь зависит от любви она к тебе. Then need I not to fear the worst of wrongs, Мне нет нужды бояться худшего из зол, When in the least of them my life hath end. Коль в меньшем свой конец моя отыщет жизнь. I see a better state to me belongs То состояние свое я лучшим б счел, Than that which on thy humour doth depend; На что никак не повлияет твой каприз. Thou canst not vex me with inconstant mind, Тогда не изведешь неверностью желаний, Since that my life on thy revolt doth lie. Моей коль жизни уж уход твой изменил. O, what a happy title do I find, Какое я нашел счастливое все ж званье: Happy to have thy love, happy to die! Счастливый умереть, счастливый, что любил. But what’s so blessed-fair that fears no blot? Кто свят и светел так, что пятна не пугают? Thou mayst be false, and yet I know it not. Ты можешь изменить, а я того не знаю. XCIII. XCIII. So shall I live, supposing thou art true, Так буду жить, что ты верна, предположив, Like a deceived husband; so love’s face Как муж обманутый; ведь может лик любви May still seem love to me, though alter’d new; Казаться любящим, лишь только изменив; Thy looks with me, thy heart in other place: Твой взор - со мной, а сердце уж - в чужой дали: For there can live no hatred in thine eye, И коль туда не светят ненавистью взоры, Therefore in that I cannot know thy change. Я о твоей измене вряд узнаю сам. In many’s looks the false heart’s history Во многих взорах хроника сердец притворных - Is writ in moods and frowns and wrinkles strange, Видна по злу морщин и сдвинутым бровям. But heaven in thy creation did decree Но небеса в твоем творенье повелели That in thy face sweet love should ever dwell; В твоем жить лике сладкой лишь любви, Whate’er thy thoughts or thy heart’s workings be, Какие мысли бы тобою не владели, Thy looks should nothing thence but sweetness tell. Чтоб взоры нежность лишь одну рекли. How like Eve’s apple doth thy beauty grow, Подобно Евы яблоку краса твоя растет, if thy sweet virtue answer not thy show! Твои коль добродетели нам кажут не твое! XCIV. XCIV. They that have power to hurt and will do none, Кто властен боль, обиду несть - не нанесет, That do not do the thing they most do show, Не сделает того, чем внешний вид грозит, Who, moving others, are themselves as stone, Кто, двигая других, а сам же, как гранит, Unmoved, cold, and to temptation slow, Недвижим, холоден и к искушеньям мертв, They rightly do inherit heaven’s graces Наследуют не зря изящество небес And husband nature’s riches from expense; И от растрат щадят богатства те природы, They are the lords and owners of their faces, Они владельцы лиц своих и также лорды, Others but stewards of their excellence. Когда другие - казначеи совершенств. The summer’s flower is to the summer sweet, Цветочек летний ведь для лета красоты, Though to itself it only live and die, Хоть для себя он лишь живет и умирает, But if that flower with base infection meet, Но встреться с низкою заразой лишь цветы - The basest weed outbraves his dignity: Сорняк нижайший здесь, увы, возобладает. For sweetest things turn sourest by their deeds; И сладкое проступком станет кислое, Lilies that fester smell far worse than weeds. Вонючей сорняка гнилая лилия. XCV. XCV. How sweet and lovely dost thou make the shame Как дивно, чудно предаешься ты позору, Which, like a canker in the fragrant rose, Что червячком влез в ароматнейшую розу, Doth spot the beauty of thy budding name! Красу бутона имени он пусть пятнает, O, in what sweets dost thou thy sins enclose! Но красота бутона все грехи скрывает! That tongue that tells the story of thy days, Язык тот, повесть дней твоих пересказав, Making lascivious comments on thy sport, Дав похотливый комментарий всех забав, Cannot dispraise but in a kind of praise; Не может порицать не в виде похвалы, Naming thy name blesses an ill report. Повтором имени лишь скрасив текст хулы. O, what a mansion have those vices got О, что же за дворец тот получил порок, Which for their habitation chose out thee, Что для жилища своего избрал тебя, Where beauty’s veil doth cover every blot, Пятно любое скроет где красы покров, And all things turn to fair that eyes can see! В красу все обратив, чтоб видел каждый взгляд. Take heed, dear heart, of this large privilege; Будь осторожно, мое счастье, с преимуществом; The hardest knife ill-used doth lose his edge. Твердейший нож, неверно резать коль, затупится. XCVI. XCVI. Some say thy fault is youth, some wantonness; Кто говорит, что грех твой - юность, кто - распутство, Some say thy grace is youth and gentle sport; Кто грацией твои счел юность, развлеченья; Both grace and faults are loved of more and less; Грехи и грация любимы боле ль мене; Thou makest faults graces that to thee resort. Грех делал грациями, что к тебе ж вернутся. As on the finger of a throned queen Как и на пальчике но царственном царицы The basest jewel will be well esteem’d, Поддельный камень будет ценным оценен, So are those errors that in thee are seen То так и твой обман, едва в тебе узрится, To truths translated and for true things deem’d. Вмиг правдой обратился, за правду и сочтен. How many lambs might the stem wolf betray, Волк-слово столько обманул бы шкур овечьих, If like a lamb he could his looks translate! Коль как пергамент мог бы внешний вид менять! How many gazers mightst thou lead away, Как много можешь созерцателей увлечь ты, If thou wouldst use the strength of all thy state! Со всей коль силою своей начнешь сиять! But do not so; I love thee in such sort Не делай так; люблю тебя и так, когда As, thou being mine, mine is thy good report. И ты - мой, и твоя лишь добрая молва. XCVII. XCVII. How like a winter hath my absence been С зимой суровой так моя разлука схожа From thee, the pleasure of the fleeting year! С тобою, счастье мимолетных года дней! What freezings have I felt, what dark days seen! Столь дни темны, и сам я словно заморожен! What old December’s bareness every where! Старик Декабрь повсюду в скудной наготе! And yet this time removed was summer’s time, До той поры промчались летние часы, The teeming autumn, big with rich increase, И осень пышная, богатая приплодом, Bearing the wanton burden of the prime, Неся в себе плод легкомысленный весны, Like widow’d wombs after their lords’ decease: Как вдовье чрево после смерти ее лорда: Yet this abundant issue seem’d to me Но все ж обильный тот итог казался мне But hope of orphans and unfather’d fruit; Надеждою сирот, потомств ли незаконных; For summer and his pleasures wait on thee, За счастье лета ведь и служат так тебе, And, thou away, the very birds are mute; А нет тебя, и птицы певчие безмолвны. Or, if they sing, ’tis with so dull a cheer А коль поют они, то гласом столь унылым, That leaves look pale, dreading the winter’s near. Что лист бледнеет в страхе пред зимой постылой. XCVIII. XCVIII. From you have I been absent in the spring, С тобою разлучен, увы, я был весной, When proud-pied April dress’d in all his trim Когда Апрель во все наряды нарядился, Hath put a spirit of youth in every thing, В любую вещь впорхнул так юности душой, That heavy Saturn laugh’d and leap’d with him. Что и старик Сатурн с ним прыгал и резвился. Yet nor the lays of birds nor the sweet smell И все ж ни песни птиц, ни аромат ли сладкий Of different flowers in odour and in hue Цветов различных - нет, ни запах их, ни крик Could make me any summer’s story tell, Мне не помогут рассказать той летней сказки, Or from their proud lap pluck them where they grew; Иль их рукой сорвать их, где они росли; Nor did I wonder at the lily’s white, Не изумился я, увы, ни белизною лилий Nor praise the deep vermilion in the rose; Не восхитился алой глубиною роз, They were but sweet, but figures of delight, Они, но сладостью, но формой восхитили, Drawn after you, you pattern of all those. Срисованной с тебя, как с образца всего. Yet seem’d it winter still, and, you away, И все мне кажется зимой, и нет тебя, As with your shadow I with these did play: И я играл всем тем, и знал - то тень твоя. XCIX. XCIX. The forward violet thus did I chide: Фиалку раннюю вот так я упрекнул: Sweet thief, whence didst thou steal thy sweet that smells, "Душистый вор, где аромат тобой украден, If not from my love’s breath? The purple pride Не у любви ль моей дыханья? Тот пурпур, Which on thy soft cheek for complexion dwells Что на твоих на мягких щечках так отраден, - In my love’s veins thou hast too grossly dyed. Из вен любви ж моей взят щедро чересчур". The lily I condemned for thy hand, И лилию я за твои стыдил лишь руки, And buds of marjoram had stol’n thy hair: За кражу влас твоих стыдил я майоран, The roses fearfully on thorns did stand, Пытались розы отстоять шипы в испуге: One blushing shame, another white despair; Страданьем та бела, а та стыдом красна, A third, nor red nor white, had stol’n of both Та ни красна и ни бела - взяла два цвета, And to his robbery had annex’d thy breath; Твое дыханье к краже присовокупив; But, for his theft, in pride of all his growth За воровство то в высшей точке их расцвета A vengeful canker eat him up to death. Червяк до смерти поедает, отомстив. More flowers I noted, yet I none could see Сколь видел я цветов, ни одного не знал, But sweet or colour it had stol’n from thee. Что аромат и цвет не у тебя украл. C. C. Where art thou, Muse, that thou forget’st so long Где ж, Муза, ты, коль долго так пренебрегаешь To speak of that which gives thee all thy might? Ты говорить о том, дает что власть тебе? Spend’st thou thy fury on some worthless song, На песнь пустую ль свою ярость расточаешь, Darkening thy power to lend base subjects light? Что мощь твою затмит, ничтожеству дав свет? Return, forgetful Muse, and straight redeem Вернись, забывчивая Муза, искупая In gentle numbers time so idly spent; В стихах достойных время, прожитое зря, Sing to the ear that doth thy lays esteem Пой слуху, что с почтеньем лишь тебе внимает, And gives thy pen both skill and argument. И опытом, и темой перо твое даря. Rise, resty Muse, my love’s sweet face survey, Взор, Муза, подыми на лик моей любви, If Time have any wrinkle graven there; Любою хоть морщиной избороздило Время, If any, be a satire to decay, Одна хоть есть - пади, сатирой прослыви, And make Time’s spoils despised every where. И сделай Времени трофей везде презренным. Give my love fame faster than Time wastes life; Прославь любовь быстрей, чем Время тратит жизнь, So thou prevent’st his scythe and crooked knife. И ты опередишь косу его, ножи. CI. CI. O truant Muse, what shall be thy amends О, Муза праздная, тебя что ж искупит For thy neglect of truth in beauty dyed? За небреженье правдой в красоты прикрасах? Both truth and beauty on my love depends; В плену краса и правда у моей любви; So dost thou too, and therein dignified. Коль сделаешь ты также, тем тебе ж воздастся. Make answer, Muse: wilt thou not haply say Ответствуй, Муза: может, ты не скажешь это: Truth needs no colour, with his colour fix’d; "Не надо красок правде, завлекать чтоб цветом; Beauty no pencil, beauty’s truth to lay; А кисть - красе, чтоб правду красоты нанесть; But best is best, if never intermix’d?’ Лишь лучшее есть лучшее - не смесь?" Because he needs no praise, wilt thou be dumb? Иль, коль хвалы ему не надо, промолчишь? Excuse not silence so; for’t lies in thee Не оправдать молчанье тем; тебе ж под силу To make him much outlive a gilded tomb, Дать пережить ему злаченую могилу; And to be praised of ages yet to be. Его векам еще грядущим восхвалишь. Then do thy office, Muse; I teach thee how Долг, Муза, выполни; как - покажу тебе, To make him seem long hence as he shows now. Казался дальше чтоб, как выглядит теперь. CII. CII. My love is strengthen’d, though more weak in seeming; Любовь моя усилилась, слабей став с виду, I love not less, though less the show appear: Люблю я больше - меньше виду подаю: That love is merchandized whose rich esteeming Язык владельца коли оглашает всюду The owner’s tongue doth publish every where. Цену богатств ее - любовь ту продают. Our love was new and then but in the spring Любовь была нам вновь, ведь и когда весною When I was wont to greet it with my lays, Ее обычно я приветствовал в стихах, As Philomel in summer’s front doth sing Как соловей поет пред летнею порою, And stops her pipe in growth of riper days: Свирель смолкает чья вдруг в зрелости годах: Not that the summer is less pleasant now Не то что менее приятным стало лето Than when her mournful hymns did hush the night, Чем, когда песни плач ночь убаюкать мог, But that wild music burthens every bough Но шумным щебетом полны коль все из веток, And sweets grown common lose their dear delight. Переслащеньем отбивают весь восторг! Therefore like her I sometime hold my tongue, И я язык сдержу порой, как соловей, Because I would not dull you with my song. Чтоб вас не утомить вдруг песнею своей. CIII. CIII. Alack, what poverty my Muse brings forth, Какую бедность моя Муза все ж влачит, That having such a scope to show her pride, Имев такой простор, чтоб показать свой блеск, The argument all bare is of more worth Весь голый аргумент сей больше облачит, Than when it hath my added praise beside! Чем с дополнительной хвалой моей вдовес! O, blame me not, if I no more can write! Лишь не вини, что больше написать не смог! Look in your glass, and there appears a face Взгляни в свое зерцало - лик там обьявится, That over-goes my blunt invention quite, Кто превосходит, что мной тупо создано’, Dulling my lines and doing me disgrace. Тупя мне строчки, предоставив мне стыдиться. Were it not sinful then, striving to mend, И не грешно ль, когда стараясь улучшать, To mar the subject that before was well? Испортим тот, что прежде лучше был, предмет? For to no other pass my verses tend Но для моих стихов иной заботы нет, Than of your graces and your gifts to tell; Чем о твоих талантах, грации сказать; And more, much more, than in my verse can sit И больше, много больше, чем мой стих скрывает, Your own glass shows you when you look in it. В твоем же зеркале твой взор же созерцает. CIV. CIV. To me, fair friend, you never can be old, Мой светлый друг, ты для меня извечно молод, For as you were when first your eye I eyed, Каким ты был, когда увиделись впервой, Such seems your beauty still. Three winters cold Такой краса твоя осталась. Трех зим холод Have from the forests shook three summers’ pride, С лесов стряхнул трех лет блеск золотой, Three beauteous springs to yellow autumn turn’d Три дивные весны под осень пожелтели, In process of the seasons have I seen, В сезонов ходе видел я, как был сожжен Three April perfumes in three hot Junes burn’d, В июней трех огне трех аромат Апрелей, Since first I saw you fresh, which yet are green. Тебя ж как встретил юным я - ты все зелен. Ah! yet doth beauty, like a dial-hand, О, все-таки краса, как стрелка часовая, Steal from his figure and no pace perceived; Часы ворует, но свой ход не показав, So your sweet hue, which methinks still doth stand, Так облик твой, что я недвижимым считаю, Hath motion and mine eye may be deceived: Идет, и в заблуждении мои глаза: For fear of which, hear this, thou age unbred; Из страха этого стареешь холостым, Ere you were born was beauty’s summer dead. Для твоих родов умерло все ж лето красоты. CV. CV. Let not my love be call’d idolatry, Любовь пусть не зовется идолопоклонством, Nor my beloved as an idol show, Любимый ж мой не зрится божеством, Since all alike my songs and praises be С тех пор как песнь, хвалы мои с их сходством - To one, of one, still such, and ever so. К нему, о нем, таком все ж, именно таком. Kind is my love to-day, to-morrow kind, Добра любовь моя сейчас, добра и завтра, Still constant in a wondrous excellence; Все постоянна своим дивным превосходством, Therefore my verse to constancy confined, Мой стих - для ограниченного постоянства, One thing expressing, leaves out difference. Одно изображает, отклонив несходство. ’Fair, kind and true’ is all my argument, "Светл,добр и верен" - аргумент мой только в том, ’Fair, kind, and true’ varying to other words; "Светл, добр и верен", со словами лишь меняясь; And in this change is my invention spent, Тем измененьем вымысел мой истощен, Three themes in one, which wondrous scope affords. В одном - три темы, невозможным раскрываясь. ’Fair, kind, and true,’ have often lived alone, И одиноки были так "Светл, верен, добр", Which three till now never kept seat in one. Но три в одном не воплотились до сих пор. CVI. CVI. When in the chronicle of wasted time Лишь в хронике впустую дней прожитых I see descriptions of the fairest wights, Я вижу описания прекраснейших людей, And beauty making beautiful old rhyme И красоту, что делает чудесной рифму In praise of ladies dead and lovely knights, В хвале дам мертвых, дивных рыцарей, Then, in the blazon of sweet beauty’s best, И в прославленьи милой красоты тех лучших: Of hand, of foot, of lip, of eye, of brow, Их ног, рук, губ, чела, а также дивных глаз - I see their antique pen would have express’d Я вижу - выразила древняя та ручка Even such a beauty as you master now. Ту красоту, какой владеешь ты сейчас. So all their praises are but prophecies Их всех хвалы - всего лишь предсказанья впредь Of this our time, all you prefiguring; Времен уж наших, прототип же всюду ты лишь, And, for they look’d but with divining eyes, И коли взоры их всего лишь предвестили, They had not skill enough your worth to sing: Им не хватило мастерства тебя воспеть: For we, which now behold these present days, Для нас, есть у кого возможность день наш зрить, Had eyes to wonder, but lack tongues to praise. Глаза есть - восхищаться, нет языка - хвалить. CVII. CVII. Not mine own fears, nor the prophetic soul Ни собственный мой страх, ни вещая душа Of the wide world dreaming on things to come, Вселенной, что прибыть мечтает на вещах, Can yet the lease of my true love control, Не могут срок моей любви предать контролю, Supposed as forfeit to a confined doom. Что мол есть кара обреченным на неволю. The mortal moon hath her eclipse endured И смертная луна пережила затменье, And the sad augurs mock their own presage; Авгур же грустный высмеял оракул свой, Incertainties now crown themselves assured И неуверенность в венце самоуверенной, And peace proclaims olives of endless age. И мир провозгласил оливам безвременье. Now with the drops of this most balmy time Теперь с микстурой времени такой целебной My love looks fresh, and death to me subscribes, Любовь свежа, в том может смерть мне подписать, Since, spite of him, I’ll live in this poor rhyme, Назло ей буду жить я в этой рифме бедной, While he insults o’er dull and speechless tribes: Пока она гнобит тупых, немых писак. And thou in this shalt find thy monument, И ты свой монумент обресть сумеешь тут, When tyrants’ crests and tombs of brass are spent. Гербы ж владык и склепы медные падут. CVIII. CVIII. What’s in the brain that ink may character Что есть в мозгу, чтоб вновь чернилам описать, Which hath not figured to thee my true spirit? Тебя, душа моя, что+B1922 не изобразили? What’s new to speak, what new to register, Что вновь бы написать, что нового сказать, That may express my love or thy dear merit? Любовь чтоб выразить, достоинства твои ли? Nothing, sweet boy; but yet, like prayers divine, Ничто, мой мальчик, но, увы, молитвой все же I must, each day say o’er the very same, Я должен вторить каждый день одно и тоже, Counting no old thing old, thou mine, I thine, Лишь старым старое не чтя, - "Я твой, а ты мой", Even as when first I hallow’d thy fair name. Как и впервой когда почтил твое я имя. So that eternal love in love’s fresh case Чтоб вечная любовь и в новом бы ларце, Weighs not the dust and injury of age, Ни прахом бы слыла, ни возраста увечьем, Nor gives to necessary wrinkles place, Морщинам неизбежным не дав мест на лице, But makes antiquity for aye his page, Всю древность сделала б его пажом навечно, Finding the first conceit of love there bred Найдя любви тщеславье там впервой рожденным, Where time and outward form would show it dead. Где время, внешний вид покажут это мертвым. CIX. CIX. O, never say that I was false of heart, О, никогда не молвь, что я был сердцем лжив, Though absence seem’d my flame to qualify. Хотя в разлуке пыл мой, кажется, слабей. As easy might I from myself depart Как от себя сбежать иль от своей души, As from my soul, which in thy breast doth lie: Которая в груди покоится в твоей: That is my home of love: if I have ranged, То дом любви моей: и коль я уходил, Like him that travels I return again, Как он, кто путешествует, - я возвращался Just to the time, not with the time exchanged, И вовремя, со временем я не менялся, So that myself bring water for my stain. Так, чтоб и воду своим пятнам сам носил. Never believe, though in my nature reign’d Не верь лишь, хоть в моем характере царят All frailties that besiege all kinds of blood, Пороки все, что вкруг добра крови толпятся, That it could so preposterously be stain’d, Что это может так обратно запятнаться, To leave for nothing all thy sum of good; Отдать чтоб даром сумму твоего добра. For nothing this wide universe I call, Под даром я вселенную имел ввиду, Save thou, my rose; in it thou art my all. Будь ты, цветок мой, все в тебе найду. CX. CX. Alas, ’tis true I have gone here and there Увы, то, правда, я метался там и сям And made myself a motley to the view, И сделал сам себя шутом для обозренья, Gored mine own thoughts, sold cheap what is most dear, Колпачил мысль, дороже что - за грош продам, Made old offences of affections new; И старый грех вдруг делал новым увлеченьем; Most true it is that I have look’d on truth И больше правды в том, на правду что смотрел Askance and strangely: but, by all above, Я искоса и сухо: но все то неважно, These blenches gave my heart another youth, Бледно пред юностью, что в сердце я имел, And worse essays proved thee my best of love. Чем хуже проба - лучшее любви докажет. Now all is done, have what shall have no end: Конец, все!, не имеет что конца - имей, Mine appetite I never more will grind И страсть свою я больше размельчать не буду, On newer proof, to try an older friend, Чтоб новой пробой старого пытать мне друга, A god in love, to whom I am confined. И бог - в любви, и сам же заключен я в ней. Then give me welcome, next my heaven the best, Одно из лучших ты небес, меня прижми Even to thy pure and most most loving breast. Ты к чистоте своей и к любящей груди. CXI. CXI. O, for my sake do you with Fortune chide, Для блага моего ж Фортуну ты бранишь, The guilty goddess of my harmful deeds, Преступную Богиню дел моих бесславных, That did not better for my life provide Что сделала не лучше, дав для жизни лишь Than public means which public manners breeds. Публично среднее среди публичных нравов. Thence comes it that my name receives a brand, На имя же клеймо легло почти отсюда, And almost thence my nature is subdued Отсюда же почти и норов мой смирен, To what it works in, like the dyer’s hand: Что как рука красильщика работать буду: Pity me then and wish I were renew’d; Так сжалься, пожелай, чтоб был я исцелен. Whilst, like a willing patient, I will drink Как пациент послушный буду пить пока Potions of eisel ’gainst my strong infection Я от заразы едкие микстуры самые, No bitterness that I will bitter think, Ни горечь их мне не покажется горька, Nor double penance, to correct correction. Ни покаянье, наказать чтоб наказание. Pity me then, dear friend, and I assure ye Жалей меня, мой друг, заверю я тебя, Even that your pity is enough to cure me. Что даже жалостью ты вылечишь меня. CXII. CXII. Your love and pity doth the impression fill Любовью, жалостью ты скрасишь впечатленье Which vulgar scandal stamp’d upon my brow; От пошлой клеветы, пятнает что чело; For what care I who calls me well or ill, Что мне до тех, кто шлет мне брань иль восхваленья, So you o’er-green my bad, my good allow? Коль молодишь плохое, дозволив тем добро? You are my all the world, and I must strive Ты - весь мой мир, стремиться должен я к тому, To know my shames and praises from your tongue: Из уст твоих мой знать позор, хвалы награду: None else to me, nor I to none alive, Ни от кого еще, и также - никому, That my steel’d sense or changes right or wrong. Настрой чтоб ни меняло, с правдой ли неправду. In so profound abysm I throw all care В сю бездну глубины швырнул я треволненья Of others’ voices, that my adder’s sense Других всех голосов, и мой змеиный дух To critic and to flatterer stopped are. Для критиков и для льстецов, увы, стал глух. Mark how with my neglect I do dispense: Заметь, как я дарю с моим пренебреженьем: You are so strongly in my purpose bred Настоль в моих ты замыслах плодишься, That all the world besides methinks are dead. Мир остальной весь вижу мертвым лишь я. CXIII. CXIII. Since I left you, mine eye is in my mind; Тебя оставил я, мой взгляд - в моем лишь мненье, And that which governs me to go about И тот, что вдруг прикажет мне идти назад, Doth part his function and is partly blind, Часть функций делает в частичном ослепленье, Seems seeing, but effectually is out; Глядится зрячим, но действительно - не взгляд. For it no form delivers to the heart Для сердца ведь не выпустит же форма никакая Of bird of flower, or shape, which it doth latch: Птенца красы; нет формы, что в себе запрет: Of his quick objects hath the mind no part, Живых обьектов частью мненье не слывет, Nor his own vision holds what it doth catch: Ни держит зрение его то, что поймает. For if it see the rudest or gentlest sight, Коль видит вдруг грубейший иль нежнейший вид, The most sweet favour or deformed’st creature, Уродца страшного иль свет очарованья, The mountain or the sea, the day or night, День ль ночь, ворону ль голубя, иное ль зрит, - The crow or dove, it shapes them to your feature: Всему оно придаст твои лишь очертанья. Incapable of more, replete with you, На больше неспособное, но полное тобой, My most true mind thus makes mine eye untrue. Взор мое мненье поражает слепотой. CXIV. CXIV. Or whether doth my mind, being crown’d with you, Одно из двух: иль мнение в твоей короне Drink up the monarch’s plague, this flattery? Отраву пьет до дна монархов - эту лесть? Or whether shall I say, mine eye saith true, Одно ль из двух: скажу, что честно взор обронит, And that your love taught it this alchemy, Что в колдовстве любви твоей сумел прочесть, To make of monsters and things indigest Из монстров делать чтоб, бесформенных ль вещей Such cherubins as your sweet self resemble, Тех херувимов, с кем твоя так сходна нежность, Creating every bad a perfect best, Из худшего всего ваяя совершенство, As fast as objects to his beams assemble? Быстрей, слетятся чем на свет его лучей? O,’tis the first; ’tis flattery in my seeing, То первое, та лесть - в моем видении, And my great mind most kingly drinks it up: И так по царски мое мненье пьет до дна, Mine eye well knows what with his gust is ’greeing, Мой взор ведь знает - что идет к его влечению, And to his palate doth prepare the cup: По вкусу по его ему ж нальют вина: If it be poison’d, ’tis the lesser sin Коль будет он отравлен, то это меньший грех, That mine eye loves it and doth first begin. Что взгляд мой любит это, начав вновь раньше всех. CXV. CXV. Those lines that I before have writ do lie, Те строки, что написаны мной прежде, лгут, Even those that said I could not love you dearer: И те, что молвят, что не мог любить нежнее, Yet then my judgment knew no reason why Хоть мнение тогда не знало, почему My most full flame should afterwards burn clearer. Огонь мой полный должен возгореть сильнее. But reckoning time, whose million’d accidents Считая время, что случайность умножает, Creep in ’twixt vows and change decrees of kings, Вползет что в клятвы, сменит волю королей, Tan sacred beauty, blunt the sharp’st intents, Смуглит красу, остроты смысла притупляет, Divert strong minds to the course of altering things; Склоняет сильный ум на бренных ход вещей; Alas, why, fearing of time’s tyranny, С чего ж, страшась так тирании времени, Might I not then say ’Now I love you best,’ Не смог сказать: "Люблю тебя всего сильней", When I was certain o’er incertainty, Я неуверенности был когда уверенней, Crowning the present, doubting of the rest? Венчая этот день, в ином же быв в сомнении? Love is a babe; then might I not say so, Любовь - дитя; тогда я так не мог сказать, To give full growth to that which still doth grow? Расцвет чтоб полный ей - растущей - дать. CXVI. CXVI. Let me not to the marriage of true minds Душ родственных союзу пусть не я Admit impediments. Love is not love Помехой стану. Это не любовь, Which alters when it alteration finds, Что сменится, измены находя, Or bends with the remover to remove: Иль спрячется под одинокий кров. O no! it is an ever-fixed mark Нет, то - навеки утвержденный знак, That looks on tempests and is never shaken; Неколебим, на бури невзирая, It is the star to every wandering bark, Как та звезда, что видит каждый барк, Whose worth’s unknown, although his height be taken. Цены не знаем чьей, и достигая. Love’s not Time’s fool, though rosy lips and cheeks Не Времени - Любви шут, хоть щека Within his bending sickle’s compass come: За сценой и Луны мелькнет в румянах, Love alters not with his brief hours and weeks, Изменят ли Любовь часы, века, But bears it out even to the edge of doom. Коль к краю гибели и-то идет упрямо. If this be error and upon me proved, Коль мне докажут, что ошибка то, I never writ, nor no man ever loved. Я не писал, и не любил никто. CXVII. CXVII. Accuse me thus: that I have scanted all Ты обвини меня, что скуп во всем я был, Wherein I should your great deserts repay, Чем я воздать твоим заслугам был обязан, Forgot upon your dearest love to call, Воззвать к любви твоей прелестной позабыл, Whereto all bonds do tie me day by day; С чем день за днем сильнее узами я связан; That I have frequent been with unknown minds Блуждал что часто в неизвестных размышленьях, And given to time your own dear-purchased right Права, что дороги тебе, - дарил часам, That I have hoisted sail to all the winds Что поднял парус я навстречу всем ветрам, Which should transport me farthest from your sight. Из твоего чтоб унесли вдаль поля зренья. Book both my wilfulness and errors down Заведь+B2157 дела грехов, упрямости ль моей, And on just proof surmise accumulate; Но собирай доказанные подозренья; Bring me within the level of your frown, Мне предьяви в прицеле сдвинутых бровей, But shoot not at me in your waken’d hate; Но не стреляй во время гнева пробужденья; Since my appeal says I did strive to prove "Лишь испытать хотел - мольба когда б гласила, - The constancy and virtue of your love. Любви твоей и постоянство я, и силу". CXVIII. CXVIII. Like as, to make our appetites more keen, Подобно, как острей чтоб сделать вожделенье, With eager compounds we our palate urge, Мы острой смесью слов подстегиваем вкус, As, to prevent our maladies unseen, Иль чтоб предотвратить незримый свой недуг, We sicken to shun sickness when we purge, Не заболеть, болеем самоочищеньем, Even so, being tuff of your ne’er-cloying sweetness, Пресытясь сластью так твоей непресыщающей, To bitter sauces did I frame my feeding К остротам горьким я питанье приучал, And, sick of welfare, found a kind of meetness Болея благом, я нашел путь подобающий To be diseased ere that there was true needing. Чтоб прежде заболеть, чем в том нужду познал. Thus policy in love, to anticipate И так страховка та в любви, чтоб упредить The ills that were not, grew to faults assured То зло, что нет, ошибки верные плодила, And brought to medicine a healthful state Творя, здоровье чтоб здоровое лечить, Which, rank of goodness, would by ill be cured: И, что добром прогоркло, злом же излечила. But thence I learn, and find the lesson true, Отсюда верный я извлек урок, что зелье, Drugs poison him that so fell sick of you. Того погубит, болен кто тобой смертельно. CXIX. CXIX. What potions have I drunk of Siren tears, Какую ж дозу слез Сирены я испил Distill’d from limbecks foul as hell within, Из куба перегонного, как чрева ада, Applying fears to hopes and hopes to fears, Страшась надежд иль к страхам обратив отраду, Still losing when I saw myself to win! Все ж куб теряя, когда с виду победил! What wretched errors hath my heart committed, Свершило сердце сколь мое ошибок гадких, Whilst it hath thought itself so blessed never! Бездумьем столь счастливое как никогда! How have mine eyes out of their spheres been fitted Их сферы зрения достойны как глаза In the distraction of this madding fever! В том помутнении безумной лихорадки! O benefit of ill! now I find true О, бенефис греха!, зрю истину сейчас, That better is by evil still made better; Что лучшее еще греха куб сделал лучше; And ruin’d love, when it is built anew, Любовь погибшая, разжечь еще куб раз, Grows fairer than at first, more strong, far greater. Светлей, сильнее станет прежней и живучей. So I return rebuked to my content Так что вернусь я провинившись вволю, And gain by ill thrice more than I have spent. И выиграв грехом от траты втрое боле. CXX. CXX. That you were once unkind befriends me now, Быв злы однажды, тем мне помогли сейчас, And for that sorrow which I then did feel Ведь из-за горя, что тогда я пережил, Needs must I under my transgression bow, Я под грехом своим обязан был бы пасть, Unless my nerves were brass or hammer’d steel. Коль не имел б из меди иль из стали жил. For if you were by my unkindness shaken Моей ж потрясены вы злостью были если, As I by yours, you’ve pass’d a hell of time, Как вашей я, ад времени вас миновал, And I, a tyrant, have no leisure taken А я, тиран, ведь не имел досуга - взвесить, To weigh how once I suffered in your crime. Как в вашем преступленьи раз я пострадал. O, that our night of woe might have remember’d О, муки ночь смогла бы в памяти оставить My deepest sense, how hard true sorrow hits, Мое то чувство - горя сколь тяжел удар, And soon to you, as you to me, then tender’d И как вас мне, тогда вам вскоре и представить The humble slave which wounded bosoms fits! Смиренного раба сердцам пронзенным в дар! But that your trespass now becomes a fee; Но стал теперь ваш грех вознагражденьем; Mine ransoms yours, and yours must ransom me. Мой искупает ваш, и ваш мне в искупленье. CXXI. CXXI. Tis better to be vile than vile esteem’d, Уж лучше грешным быть, чем грешником прослыть, When not to be receives reproach of being, Когда за жизнь упреки терпишь, и не жив, And the just pleasure lost which is so deem’d Услад заслуженных лишаясь, сочинить Not by our feeling but by others’ seeing: Смогло не чувство что - виденье глаз чужих. For why should others false adulterate eyes С чего ж, виновные в измене, лжи глаза Give salutation to my sportive blood? Приветы будут слать моей распутной крови, Or on my frailties why are frailer spies, За слабостью ж моей тот, кто слабей, шпионит, Which in their wills count bad what I think good? И кто мое добро счесть злом сам возжелал? No, I am that I am, and they that level Нет, я есть тот, кто есть, тем ж уровнем они At my abuses reckon up their own: Нападок на меня оценивают свой, I may be straight, though they themselves be bevel; Я быть могу прямым, хотя у них косой, By their rank thoughts my deeds must not be shown; Их пошлым взором зрить нельзя дела мои; Unless this general evil they maintain, И коль тот общий грех они не защищают - All men are bad, and in their badness reign. Грешны все люди - те ж в грехе их воцаряют. CXXII. CXXII. Thy gift, thy tables, are within my brain Твой дар, твои скрижали - все в уме моем, Full character’d with lasting memory, Где высечены памятью неизгладимой, Which shall above that idle rank remain И будут выше, чем оставит чин чванливый, Beyond all date, even to eternity; Во веки вечные, и вне всех дат, времен; Or at the least, so long as brain and heart Иль долго так хотя б, пока сердца, умы Have faculty by nature to subsist; Имеют право в естестве существовать, Till each to razed oblivion yield his part Пока забвенью каждый не воздаст их часть Of thee, thy record never can be miss’d. Тебя, те памятки не будут не слышны. That poor retention could not so much hold, Но много скудная сдержать не сможет память, Nor need I tallies thy dear love to score; Не надо палочек - любви зарубки делать; Therefore to give them from me was I bold, Оставить чтоб их от меня, был столь я смелым, To trust those tables that receive thee more: Доверить чтоб тебя все ж больше тем скрижалям: To keep an adjunct to remember thee Хранить помощников, запомнят что тебя, Were to import forgetfulness in me. То будет означать, чтоб позабыть меня. CXXIII. CXXIII. No, Time, thou shalt not boast that I do change: Не хвастай, Время, что мол изменяюсь я: Thy pyramids built up with newer might Те, что ты славишь с новой силой, пирамиды - To me are nothing novel, nothing strange; Ни новь совсем, ни необычность для меня; They are but dressings of a former sight. Лишь облицовка ведь они былого вида. Our dates are brief, and therefore we admire Да наши дни кратки, вот мы и в восхищенье What thou dost foist upon us that is old, Тем, что всучаешь нам из всей той старины, And rather make them born to our desire Подав скорей желаний наших порожденьем, Than think that we before have heard them told. Не знав, что прежде, чем рекли, слыхали мы. Thy registers and thee I both defy, Тобой и записью твоей пренебрегу, Not wondering at the present nor the past, Сегодняшним, былым дивиться я не стану, For thy records and what we see doth lie, Ведь записи твои и что мы видим, - лгут, Made more or less by thy continual haste. И сделаны на глаз и в спешке постоянной. This I do vow and this shall ever be; Я в том клянусь, и быть тому в веках; I will be true, despite thy scythe and thee. Назло Тебе, твоей косе я буду прав. CXXIV. CXXIV. If my dear love were but the child of state, Была б любовь моя ребенком настроенья - It might for Fortune’s bastard be unfather’d’ Фортуны быть ублюдком ей с рожденьем спорным, As subject to Time’s love or to Time’s hate, Обьектом Времени любви, его ль презренья, - Weeds among weeds, or flowers with flowers gather’d. Цветок меж сорванных цветов, сорняк средь сорных. No, it was builded far from accident; Нет, создана она уж не случайно вовсе; It suffers not in smiling pomp, nor falls Ни стерпит помп улыбчивых, и не падет Under the blow of thralled discontent, Под бой порабощающего недовольства Whereto the inviting time our fashion calls: Куда манящий случай общество зовет: It fears not policy, that heretic, Благоразумье - еретик - не страшен ей, Which works on leases of short-number’d hours, Работать нанят кто был временем подлунным, But all alone stands hugely politic, Но держится одна весьма благоразумно, That it nor grows with heat nor drowns with showers. От жара не растет, не тонет от дождей. To this I witness call the fools of time, Шутов я времени зову тому в свидетели, Which die for goodness, who have lived for crime. Жив для греха, кто мрет для добродетели. CXXV. CXXV. Were ’t aught to me I bore the canopy, Ничто ль то для меня, коль б небосвод тащил With my extern the outward honouring, Я с обьективно показным лишь уваженьем, Or laid great bases for eternity, Иль пьедестал для вечности бы заложил, Which prove more short than waste or ruining? Что бренен боле пред утратой, разрушеньем? Have I not seen dwellers on form and favour Не видел ли в чести живущих я и в стати, Lose all, and more, by paying too much rent, Теряющими все, за все ж сполна платив, For compound sweet forgoing simple savour, Для сложных ароматов вкус простой утратив, Pitiful thrivers, in their gazing spent? Цветущих жалко, в созерцаньи все спустив? No, let me be obsequious in thy heart, Позволь в твоем мне сердце быть подобострастным And take thou my oblation, poor but free, Возьми мой дар тебе - свободен, хоть убог, Which is not mix’d with seconds, knows no art, И не сродни мгновеньям, не склонен и к коварствам, But mutual render, only me for thee. Лишь мне и для тебя сердечный тот оброк. Hence, thou suborn’d informer! a true soul Так душу верную в доносчики склоняешь, When most impeach’d stands least in thy control. Когда винимых больше ты меньше проверяешь. CXXVI. CXXVI. O thou, my lovely boy, who in thy power О, дивный мальчик мой, кто держит под пятою Dost hold Time’s fickle glass, his sickle, hour; Измен зерцало Времени и час с косою; Who hast by waning grown, and therein show’st Кто убылью растет, показывая этим Thy lovers withering as thy sweet self grow’st; Любимых увяданье при твоем расцвете; If Nature, sovereign mistress over wrack, Природа госпожа, под властью чьей распад, As thou goest onwards, still will pluck thee back, Когда идешь вперед, коль тянет вновь назад, She keeps thee to this purpose, that her skill Тебя затем хранит, чтоб мастерством ее May time disgrace and wretched minutes kill. Позорить время, убивать минут жулье. Yet fear her, O thou minion of her pleasure! Но бойсь ее, любимец всех ее услад, She may detain, but not still keep, her treasure: Сумев сдержать,навряд она удержит клад: Her audit, though delay’d, answer’d must be, Ее проверка, хоть с отсрочкой, но удастся, And her quietus is to render thee. И смертию ее, увы, тебе воздастся. CXXVII. CXXVII. In the old age black was not counted fair, В былые годы черный не считался светлым, Or if it were, it bore not beauty’s name; А было коль, то красотою звалось вряд, But now is black beauty’s successive heir, Сейчас же черный - по прямой красе наследный, And beauty slander’d with a bastard shame: Стыдом детей внебрачных и красу чернят. For since each hand hath put on nature’s power, В руке любой лежит природная силища, Fairing the foul with art’s false borrow’d face, Лишь черновик наемных лиц переписав, Sweet beauty hath no name, no holy bower, Красе ж нет имени, святого нет жилища, But is profaned, if not lives in disgrace. Коль не живет в позоре, то позором став. Therefore my mistress’ brows are raven black, Как ворон, бровь моей любимой и черна, Her eyes so suited, and they mourners seem И очи, плакальщиками по тем что мнятся, At such who, not born fair, no beauty lack, Кому, рожден коль темн, краса и не нужна, Slandering creation with a false esteem: Чернить творение почтеньем-святотатством. Yet so they mourn, becoming of their woe, Но так носимый траур горю их к лицу, That every tongue says beauty should look so. Любой язык смотрись так, молвишь коль красу. CXXVIII. CXXVIII. How oft, when thou, my music, music play’st, Как часто, когда, музыка моя, играешь Upon that blessed wood whose motion sounds На том блаженном древе, чей ведешь ты звук With thy sweet fingers, when thou gently sway’st Перстами нежными, когда ты мягко правишь The wiry concord that mine ear confounds, Созвучьем тонким струн, что мой смущают слух, Do I envy those jacks that nimble leap Я клавишам-парням завидую, в прыжках To kiss the tender inward of thy hand, Целует смело кто твоих ладошек нежность, Whilst my poor lips, which should that harvest reap, Пока уста мои, свой урожай не сжав, At the wood’s boldness by thee blushing stand! У древа смелости краснея вас поддержат! To be so tickled, they would change their state Чтоб хоть коснулись их, настроем б поменялись And situation with those dancing chips, И положеньем с танца досками они б, O’er whom thy fingers walk with gentle gait, Которых пальцы нежной поступью касались, Making dead wood more blest than living lips. Не жизнь губ - древо мертвое благословив. Since saucy jacks so happy are in this, Раз парни дерзкие тем счастливо ликуют, Give them thy fingers, me thy lips to kiss. Дай пальцы им, а губы мне для поцелуя. CXXIX. CXXIX. The expense of spirit in a waste of shame Растрата духа в расточении стыда Is lust in action; and till action, lust Есть похоть в действии; она, чтоб действом стать, Is perjured, murderous, bloody, full of blame, Кровава, лжива и полна вины, вреда, Savage, extreme, rude, cruel, not to trust, Дика, груба, жестока, чтоб ей доверять, Enjoy’d no sooner but despised straight, Не любит, а скорей открыто презирает, Past reason hunted, and no sooner had Ища причины в прошлом, не успев найти, Past reason hated, as a swallow’d bait Их ненавидит, как приманку, что глотает, On purpose laid to make the taker mad; Подброшенную - клюнувших с ума свести; Mad in pursuit and in possession so; Безумная в погоне, так же в обладанье, Had, having, and in quest to have, extreme; Имев, имея, чтоб иметь ища, весьма; A bliss in proof, and proved, a very woe; Да, счастье - доказать, докажешь - наказанье; Before, a joy proposed; behind, a dream. До - радость ждешь, а позади - мечта одна. All this the world well knows; yet none knows well Мир знает хорошо, что каждый плохо знает, To shun the heaven that leads men to this hell. Чтоб избежать небес, что в ад тот увлекают. CXXX. CXXX. My mistress’ eyes are nothing like the sun; Глаза моей Любви ни нечто солнца вроде; Coral is far more red than her lips’ red; Чем алость губ ее, коралл куда алей; If snow be white, why then her breasts are dun; Снег бел коль, почему смуглы ее так груди; If hairs be wires, black wires grow on her head. Влас будь струной, сколь черных струн на голове. I have seen roses damask’d, red and white, Сколь видел роз алеющих я, белых, красных, But no such roses see I in her cheeks; Но не такие вижу на ее щеках; And in some perfumes is there more delight И ароматы есть, что более прекрасны, Than in the breath that from my mistress reeks. Чем и дыханье у возлюбленной в устах. I love to hear her speak, yet well I know Люблю я слушать речь ее, прекрасно зная, That music hath a far more pleasing sound; Что все ж у музыки куда приятней звуки; I grant I never saw a goddess go; Пусть никогда не зрил, богиня как ступает, My mistress, when she walks, treads on the ground: Моя любовь, идя, на землю все ж наступит: And yet, by heaven, I think my love as rare Но столь ж моя любовь редка, считаю все же, As any she belied with false compare. Как то, несхожа с чем она в сравненьи ложном. CXXXI. CXXXI. Thou art as tyrannous, so as thou art, Какая есть, ты есть, как те, настоль же властна, As those whose beauties proudly make them cruel; Кто от красот гордыни стал жестокосердным; For well thou know’st to my dear doting heart Ты знала - для моей безумной сердца страсти Thou art the fairest and most precious jewel. Ты бриллиантом стала самым драгоценным. Yet, in good faith, some say that thee behold Но, честно, говорят, тебя кто созерцает, Thy face hath not the power to make love groan: Не властен лик твой принудить любовь стонать: To say they err I dare not be so bold, Сказать что лгут они, мне духу не хватает, Although I swear it to myself alone. Хотя себе могу я в этом клятву дать. And, to be sure that is not false I swear, Чтоб доказать, в моей что клятве нет обмана, A thousand groans, but thinking on thy face, Тех стонов тысяча, но твой представив лик One on another’s neck, do witness bear На шейке лишь другой, свидетелями станут - Thy black is fairest in my judgment’s place. Светлейший черный твой, каков и мой вердикт. In nothing art thou black save in thy deeds, И коль чернят тебя, то лишь твои дела, And thence this slander, as I think, proceeds. Отсюда, думаю, и клевета пошла. CXXXII. CXXXII. Thine eyes I love, and they, as pitying me, Люблю глаза твои, они ж, меня жалев, Knowing thy heart torments me with disdain, Знав, сердце мучит как твое меня презреньем, Have put on black and loving mourners be, Любя оплакивают, черное надев, Looking with pretty ruth upon my pain. Смотря с печалью милой на мое мученье. And truly not the morning sun of heaven Не так все ж утреннее солнышко небес Better becomes the grey cheeks of the east, Идет к лицу востока слишком серым щечкам, Nor that full star that ushers in the even Не так ярка звезда, что провожает в ночь нас, Doth half that glory to the sober west, Дать западу неяркому хоть частью блеск, As those two mourning eyes become thy face: Идет как взор печальный к твоему лицу: O, let it then as well beseem thy heart Пусть подойдет к твоей то также сердца страсти, To mourn for me, since mourning doth thee grace, Тот траур, скорбь, тебе что грацию несут, And suit thy pity like in every part. К лицу что жалости твоей и каждой части. Then will I swear beauty herself is black И поклянусь я, что черна сама краса, And all they foul that thy complexion lack. А все они чернят цвет твоего лица. CXXXIII. CXXXIII. Beshrew that heart that makes my heart to groan Кляни то сердце, что мое стонать заставит, For that deep wound it gives my friend and me! За глубину нам с другом нанесенных ран! Is’t not enough to torture me alone, Иль мало что меня лишь одного терзает, But slave to slavery my sweet’st friend must be? Так должен быть и светлый друг для рабства раб? Me from myself thy cruel eye hath taken, Жестокий взор твой из меня меня же вынул, And my next self thou harder hast engross’d: Моим вторым Я было завладеть трудней; Of him, myself, and thee, I am forsaken; Но им, собою и тобою я покинут; A torment thrice threefold thus to be cross’d. Что зачеркнуться, был истерзан я втройне. Prison my heart in thy steel bosom’s ward, Спрячь мое сердце ты в стальной тюрьме груди, But then my friend’s heart let my poor heart bail; Но сердце друга в бедном пусть моем хранится, Whoe’er keeps me, let my heart be his guard; В чьем ни был б я, его мое пусть оградит, Thou canst not then use rigor in my gaol: Его не сможешь ты знобить в моей темнице. And yet thou wilt; for I, being pent in thee, И все ж ты губишь; заключенный я в тебе, Perforce am thine, and all that is in me. Неволей-волей твой со всем, что есть во мне. CXXXIV. CXXXIV. So, now I have confess’d that he is thine, Итак, теперь признался в том я, что он твой, And I myself am mortgaged to thy will, Сам обещаньем связан я с твоим желаньем, Myself I’ll forfeit, so that other mine Сам буду прав лишен так, чтоб другой тот мой Thou wilt restore, to be my comfort still: Тобой был возвращен, чтоб быть мне утешеньем. But thou wilt not, nor he will not be free, Ты не освободишь, не будет он свободен, For thou art covetous and he is kind; Для этого ты жаден, ну а он же добр; He learn’d but surety-like to write for me Поняв то, мне черкнул для подстраховки вроде Under that bond that him as fast doth bind. Под надоевшей быстро тяжестью оков. The statute of thy beauty thou wilt take, Ты статут красоты твоей используешь, Thou usurer, that put’st forth all to use, Ты ростовщик, кто даст вперед, чтоб применить, And sue a friend came debtor for my sake; И взышешь, хоть должник в мою был пользу лишь; So him I lose through my unkind abuse. Лишусь его, зло мной коль злоупотребить. Him have I lost; thou hast both him and me: И потерял; он, я - мы оба у тебя: He pays the whole, and yet am I not free. Он платит все, и все же не свободен я. CXXXV. CXXXV. Whoever hath her wish, thou hast thy ’Will,’ Кто б Волей не владел ее, но ты имеешь "Вилла", And ’Will’ to boot, and ’Will’ in overplus; Впридачу "Вилла", и в избытке "Вилла" тоже, More than enough am I that vex thee still, Меня достаточно, чтоб досадил я все же To thy sweet will making addition thus. Тебе, став дополненьем к твоей воле милой. Wilt thou, whose will is large and spacious, Иль ты, чья воля столь обширна, величава, Not once vouchsafe to hide my will in thine? Не снизойдешь, в себе чтоб скрыть мое желанье? Shall will in others seem right gracious, В других узрится ль воля милостивым правом, And in my will no fair acceptance shine? Мое желанье лишь не осветив признаньем? The sea all water, yet receives rain still Пусть в море вся вода, но дождь все ж получило, And in abundance addeth to his store; Дополнив в изобилии свое обилье; So thou, being rich in ’Will,’ add to thy ’Will’ Так, Виллом ты богатая, дополнишь Вилла One will of mine, to make thy large ’Will’ more. Моею волей, полня, что в избытке в Вилле. Let no unkind, no fair beseechers kill; Чтоб злых просящих, добрых только б не убили; Think all but one, and me in that one ’Will.’ Все представляй в одном, меня - в одном том Вилле. CXXXVI. CXXXVI. If thy soul cheque thee that I come so near, Коли бранит душа, что прохожу так близко я, Swear to thy blind soul that I was thy ’Will,’ Клянись слепой душе, что Виллом был мол я, And will, thy soul knows, is admitted there; Душа ведь знает, что там воля все же признана; Thus far for love my love-suit, sweet, fulfil. Любви роль свиты для любви так исполнял. Will’ will fulfil the treasure of thy love, Вилл волен роль играть богатств твоей любви, Ay, fill it full with wills, and my will one. Век полнить волями - кто полн, с одной моею. In things of great receipt with ease we prove В делах доходных доказать легко б смогли - Among a number one is reckon’d none: Средь множества одних одни счет не имеют: Then in the number let me pass untold, Тогда среди числа пусть буду незамечен, Though in thy stores’ account I one must be; Хоть в твой количеств счет войти лишь должен я; For nothing hold me, so it please thee hold Ничто меня не чтет, тебя желает счесть кем, That nothing me, a something sweet to thee: Что для меня ничто, но нечто для тебя: Make but my name thy love, and love that still, Любовь мной нареки и так, чтоб то любил, And then thou lovest me, for my name is ’Will.’ Тогда меня полюбишь за имя это "Вилл". CXXXVII. CXXXVII. Thou blind fool, Love, what dost thou to mine eyes, Слепой ты шут, Любовь, что делаешь с глазами, That they behold, and see not what they see? Коль глядя, видят, но не то, что зрят они? They know what beauty is, see where it lies, Ведь знают - есть краса, и видят лжет она где, Yet what the best is take the worst to be. Все ж лучшее берут, чтоб самым стать плохим. If eyes corrupt by over-partial looks Испорчен если глаз поверхностным так взором, Be anchor’d in the bay where all men ride, Чтоб стать на якорь там, другие где стоят, Why of eyes’ falsehood hast thou forged hooks, Из лжи глаз почему сковал ты якоря, Whereto the judgment of my heart is tied? Суд сердца моего с которыми так скован? Why should my heart think that a several plot Зачем мнить сердцу, что любой лужок сюжета, Which my heart knows the wide world’s common place? Мое что знает, - поле общее для света? Or mine eyes seeing this, say this is not, Иль взор, то видя, скажет - не затем все то, To put fair truth upon so foul a face? Прикрыть чтоб честностью бесчестное лицо? In things right true my heart and eyes have erred, Коль в правоте глаз с сердцем правые ошиблись, And to this false plague are they now transferr’d. С того сейчас и предали той казни лжи их. CXXXVIII. CXXXVIII. When my love swears that she is made of truth Клянись моя любовь, что создана из правды, I do believe her, though I know she lies, И верю, зная я, что любит милый лжец*, That she might think me some untutor’d youth, Ведь думает, что я - наивный тот юнец, Unlearned in the world’s false subtleties. Что неуч во всемирных хитростях лукавых. Thus vainly thinking that she thinks me young, Самодовольно мня, что молодым считает, Although she knows my days are past the best, Хоть знает - лучшее мою минуло жизнь, Simply I credit her false speaking tongue: Но верю, что язык ее сказал мне, лжи: On both sides thus is simple truth suppress’d. Что с двух сторон так правду и скрывает. But wherefore says she not she is unjust? Что ж не сказать, что нечестна, несправедлива? And wherefore say not I that I am old? А мне что не сказать, что я уже старик? O, love’s best habit is in seeming trust, Любви привычка лучшая в доверье мнимом, And age in love loves not to have years told: Года в любви не любят о годах говорить: Therefore I lie with her and she with me, С того лгу лежа с ней, она со мною тож, And in our faults by lies we flatter’d be. Нас в недостатках восхваляют ложа, ложь. CXXXIX. O, call not me to justify the wrong О, не зови меня, оправдывать чтоб зло, That thy unkindness lays upon my heart; Легло на сердце что недобротой ж твоей; Wound me not with thine eye but with thy tongue; Рази меня твоим не взором - языком; Use power with power and slay me not by art. И властвуй властно, не коварством лишь убей. Tell me thou lovest elsewhere, but in my sight, Скажи, что любишь где еще, но лишь при мне, Dear heart, forbear to glance thine eye aside: Любовь, стерпи - взор в сторону не отводи ты, What need’st thou wound with cunning when thy might Зачем коварством ранить, коли ты мощней, Is more than my o’er-press’d defense can bide? Моя чем выдержит стесненная защита? Let me excuse thee: ah! my love well knows Позволь простить тебя: любовь прекрасно ж знает, Her pretty looks have been mine enemies, Что взоры милые ее - враги ж мои, And therefore from my face she turns my foes, От моего ж лица врагов и отвращает, That they elsewhere might dart their injuries: Не здесь метали оскорбленья чтоб свои: Yet do not so; but since I am near slain, Не так все ж делай, коли я почти убит, Kill me outright with looks and rid my pain. Бей прямо взором и от мук освободи. CXL. CXL. Be wise as thou art cruel; do not press Мудра, как зла, будь ты; мою чтоб не терзать My tongue-tied patience with too much disdain; Косноязыкую настойчивость презреньем; Lest sorrow lend me words and words express Жду ж не от горя слов, чтоб словом показать, The manner of my pity-wanting pain. Так ждущих жалости, моих мук поведенье. If I might teach thee wit, better it were, Коль я бы смог дать знать тебе, то б лучше было, Though not to love, yet, love, to tell me so; Не чтоб любить, любовь, чтоб то же мне сказать; As testy sick men, when their deaths be near, Как вспыльчивый больной, кого смерть посетила, No news but health from their physicians know; Не новость бы хотел - диагноз свой узнать; For if I should despair, I should grow mad, Ведь будь в отчаянье - совсем сойти с ума мне, And in my madness might speak ill of thee: В безумье ж о тебе сказать я плохо б мог: Now this ill-wresting world is grown so bad, Зло искажая мир сейчас настоль стал плох - Mad slanderers by mad ears believed be, Безумный верит лжец безумными ж ушами, That I may not be so, nor thou belied, Коль я так не могу, и ты неотступима, Bear thine eyes straight, though thy proud heart go wide. Взор прямо устреми, хоть сердце смотрит мимо. CXLI. CXLI. In faith, I do not love thee with mine eyes, Коль честно, не люблю тебя совсем глазами я, For they in thee a thousand errors note; За тысячу грехов, в тебе что замечают; But ’tis my heart that loves what they despise, Но любит сердце то, они что презирают, Who in despite of view is pleased to dote; И радо им назло любить то до безумия; Nor are mine ears with thy tongue’s tune delighted, Мой слух не счастлив языка мелодией, Nor tender feeling, to base touches prone, К касаньям низким легкость чувств не склонна, Nor taste, nor smell, desire to be invited Вкус, обонянье ль не хотят стать приглашенным To any sensual feast with thee alone: На праздник чувственный с тобой наедине: But my five wits nor my five senses can Пять чувств моих и пять же разумов не смогут Dissuade one foolish heart from serving thee, Дурное сердце все ж из слуг твоих сманить, Who leaves unsway’d the likeness of a man, Оно ж извечно мужа ли, прислуги образ, Thy proud hearts slave and vassal wretch to be: Слугой чтоб сердца твоего, вассалом быть: Only my plague thus far I count my gain, Но кару все ж мою наградой я считаю, - That she that makes me sin awards me pain. Ее, кто ввергнув в грех, расплатой награждает. CXLII. CXLII. Love is my sin and thy dear virtue hate, Любовь - мой грех, презрела чистота ее Hate of my sin, grounded on sinful loving: Твоя за грех, любви ж греховной порожденье: O, but with mine compare thou thine own state, Сравни с моим ты состояние свое, And thou shalt find it merits not reproving; Поймешь, что то не заслужило осужденья; Or, if it do, not from those lips of thine, А коли будет так, то не из уст твоих, That have profaned their scarlet ornaments Уже что осквернило их орнамент алый, And seal’d false bonds of love as oft as mine, Скрепив любви их ложным долгом, как мои, Robb’d others’ beds’ revenues of their rents. Лишив доходы лож других их рент немалых. Be it lawful I love thee, as thou lovest those Законно пусть люблю тебя, как любишь их, Whom thine eyes woo as mine importune thee: За кем взор вьется твой, как досаждал тебе мой: Root pity in thy heart, that when it grows Ты в сердце жалость сей, когда начнет расти, Thy pity may deserve to pitied be. Заслужит жалость быть твоя жалеемой. If thou dost seek to have what thou dost hide, Когда иметь стремишься то, что ты скрываешь, By self-example mayst thou be denied! Своим примером ты себя ж опровергаешь. CXLIII. CXLIII. Lo! as a careful housewife runs to catch Смотри, заботливая мать как мчит стремглав, One of her feather’d creatures broke away, Догнать несущуюся прочь тварь в оперенье, Sets down her babe and makes an swift dispatch Одернет малыша, скора и до расправ In pursuit of the thing she would have stay, В погоне б коль за тварью имела промедленье, Whilst her neglected child holds her in chase, Задержана б была заброшенным мальцом, Cries to catch her whose busy care is bent Кричи он устремленной хлопот беспокойством To follow that which flies before her face, Вослед летящему перед ее лицом, Not prizing her poor infant’s discontent; Инфанта бедного презревшей недовольство; So runn’st thou after that which flies from thee, Так вслед бежить ты тем, что от тебя летят, Whilst I thy babe chase thee afar behind; Я ж, твой малыш гонюсь вслед позади далеко: But if thou catch thy hope, turn back to me, Желанное ж поймав, вернись ко мне назад, And play the mother’s part, kiss me, be kind: Сыграй роль мамы, поцелуй, не будь жестока: So will I pray that thou mayst have thy ’Will,’ Я жажд молитв, тебе что дать желанье "Вилла", If thou turn back, and my loud crying still. Вернешься коль, моя чтоб громкость вся утихла. CXLIV. CXLIV. Two loves I have of comfort and despair, В плену у двух страстей: утех и безответной, - Which like two spirits do suggest me still: Что, словно две души, мне все внушают тихо: The better angel is a man right fair, Мол лучший ангел то мужчина верный, светлый, The worser spirit a woman colour’d ill. Дух худший ж - женщина, окрашенная лихом. To win me soon to hell, my female evil Меня склонить скорей чтоб в ад, мой женский грех Tempteth my better angel from my side, Мой светоч соблазняет, от меня отвлечь чтоб, And would corrupt my saint to be a devil, Растлила б мне святых до дьявольских утех, Wooing his purity with her foul pride. К его льстясь чистоте своей гордыни течкой*. And whether that my angel be turn’d fiend Из двух кто: ангел ли вдруг станет как злодей - Suspect I may, but not directly tell; Могу представить, прямо ж не скажу такого; But being both from me, both to each friend, Но оба коль мои, в двоих зрю двух друзей I guess one angel in another’s hell: И одного же ангела в аду другого: Yet this shall I ne’er know, but live in doubt, Не знать то никогда, но жить в сомненьях буду, Till my bad angel fire my good one out. Пока злой доброго не выгонит оттуда. CXLV. CXLV. Those lips that Love’s own hand did make Уста, самой Любви что создала рука, Breathed forth the sound that said ’I hate’ Истогли, молвят что "Я ненавижу", звуки To me that languish’d for her sake; И мне, кого по ней измучила тоска; But when she saw my woeful state, Но все ж когда она мои узрела муки, Straight in her heart did mercy come, Пришло прощенье прям ей в сердце скоро, Chiding that tongue that ever sweet Тот упрекнув язык, что, хоть всегда и мил, Was used in giving gentle doom, Использован для вынесенья приговора, And taught it thus anew to greet: Уча его, чтоб вновь приветствием почтил: I hate’ she alter’d with an end, Она "Я ненавижу" изменила с целью That follow’d it as gentle day Чтоб следовать тому, как кроткий день Doth follow night, who like a fiend За ночью следует, подобно кто злодею From heaven to hell is flown away; С небес высоких прочь низвергнут в ада тень; ’I hate’ from hate away she threw, "Я ненавижу", но без ненависти раз And saved my life, saying ’not you.’ Сказав, спасла мне жизнь, произнеся "не Вас". CXLVI. CXLVI. Poor soul, the centre of my sinful earth, О, бедная душа, моей центр грешной плоти, [ ] these rebel powers that thee array; Чьей непокорной мощью ты облачена; Why dost thou pine within and suffer dearth, Зачем внутри томишься и лишенья сносишь, Painting thy outward walls so costly gay? С роскошным гейством так рисуя на стенах? Why so large cost, having so short a lease, Высокой что ж ценой, имев столь краткий лизинг, Dost thou upon thy fading mansion spend? Оплачиваешь ты столь ветхий свой дворец? Shall worms, inheritors of this excess, Не черви ль этот унаследуют излишек, Eat up thy charge? is this thy body’s end? Сожрут фигуры долг? То плоти ль цель, конец? Then soul, live thou upon thy servant’s loss, Тогда живи мой дух за счет слуги пропажи, And let that pine to aggravate thy store; Пускай томится он, чтоб отягчать твой склад; Buy terms divine in selling hours of dross; Срок божий покупай на сует распродаже; Within be fed, without be rich no more: Внутри пасись, не будь лишь чересчур богат: So shalt thou feed on Death, that feeds on men, Живи за Смерти счет, как та за счет людей, And Death once dead, there’s no more dying then. И Смерть умрет, тогда не будет и смертей. CXLVII. CXLVII. My love is as a fever, longing still Моя любовь, как лихорадка, все ж желая For that which longer nurseth the disease, Того, кто дольше нянчит вас во время мук, Feeding on that which doth preserve the ill, То принимает, продлевает что недуг, The uncertain sickly appetite to please. Сомнительно больной той страсти угождая. My reason, the physician to my love, А здравомыслие мое, мой врач любви, Angry that his prescriptions are not kept, Ушел, сердясь, что я не следую рецепту, Hath left me, and I desperate now approve И я отчаянно набить пытаюсь цену, Desire is death, which physic did except. Зовя смертельной страсть, что доктор исключил. Past cure I am, now reason is past care, Леченьем прошлым, коль мотив - былой уход, And frantic-mad with evermore unrest; Я сделан страстью навсегда обезумевшим; My thoughts and my discourse as madmen’s are, И речь моя и мысль, чей автор - сумасброд, At random from the truth vainly express’d; Текут из правды наобум и безуспешно; For I have sworn thee fair and thought thee bright, Тебе ж столь ясной клялся, думал - ты светла, Who art as black as hell, as dark as night. Ты ж будто ад черна, и словно ночь смугла. CXLVIII. CXLVIII. O me, what eyes hath Love put in my head, Мой бог, что ж за глаза Любовь в главу вложила, Which have no correspondence with true sight! Не соответствуют что истинному зренью! Or, if they have, where is my judgment fled, А если есть, куда ж девалось то сужденье, That censures falsely what they see aright? Что судит ложно то, что видит глаз правдиво? If that be fair whereon my false eyes dote, Будь то краса, чем лжи глаза ослеплены, What means the world to say it is not so? Что думал мир, что то - не так сказав в ответ? If it be not, then love doth well denote А нет, любовью ж хорошо подтверждены Love’s eye is not so true as all men’s ’No.’ Любви глаза, что не верней мужского "Нет". How can it? O, how can Love’s eye be true, Как можно? Может ли быть взор Любви бесспорен, That is so vex’d with watching and with tears? Коль сам измучен созерцаньем и слезами? No marvel then, though I mistake my view; Не диво, если ошибусь в моем я взоре; The sun itself sees not till heaven clears. Слепо и солнце, если небо с облаками. O cunning Love! with tears thou keep’st me blind, Коварная Любовь, слепишь меня слезами - Lest eyes well-seeing thy foul faults should find. Не зрить твой низкий грех, раз плохо видят сами. CXLIX. CXLIX. Canst thou, O cruel! say I love thee not, Скажи, жестокая, что не люблю тебя я, When I against myself with thee partake? Коль соучастник твой я супротив себя? Do I not think on thee, when I forgot Не о тебе ли думаю, когда я забываю Am of myself, all tyrant, for thy sake? Что есть я сам, тиран, и ради лишь тебя? Who hateth thee that I do call my friend? Тебя кто ненавидит, я зову ли другом? On whom frown’st thou that I do fawn upon? Иль тем льщу, на кого ты смотришь недовольно? Nay, if thou lour’st on me, do I not spend Не изолью ль, брось взор ты на меня угрюмо, Revenge upon myself with present moan? Месть на себя лишь я и с непременным стоном? What merit do I in myself respect, Какую ж я в себе заслугу почитаю, That is so proud thy service to despise, Что так горда - твоих услуг бежать с презреньем? When all my best doth worship thy defect, Мое добро ведь твой порок обожествляет, Commanded by the motion of thine eyes? И управляется твоих ж глаз мановеньем? But, love, hate on, for now I know thy mind; На ненависть, любовь теперь взгляд знаю твой; Those that can see thou lovest, and I am blind. Кто может видеть - любишь ты, а я - слепой. CL. CL. O, from what power hast thou this powerful might Отколь столь власти у тебя, коль с властной силы With insufficiency my heart to sway? И недостатком моим сердцем ты все ж правишь, To make me give the lie to my true sight, Заставишь, верный взгляд во лжи чтоб уличил я, And swear that brightness doth not grace the day? И клялся в том, что день и светом не украсишь? Whence hast thou this becoming of things ill, Где ты взяла то, что прилично лишь для зла, That in the very refuse of thy deeds В поступках коль твоих ну самых же негодных There is such strength and warrantize of skill Такая сила, столь свидетельств мастерства, That, in my mind, thy worst all best exceeds? Коль выше худшие твои всех превосходных? Who taught thee how to make me love thee more Кто дал знать, больше как заставить полюбить The more I hear and see just cause of hate? Тебя, для ненависти больше зря причины? O, though I love what others do abhor, Хоть я люблю, что ненавидимо другими, With others thou shouldst not abhor my state: Ты роль мою с другими лишь не ненавидь: If thy unworthiness raised love in me, Твоя коль низость вознесла любовь во мне, More worthy I to be beloved of thee. Достоин больше я любимым быть тебе. CLI. CLI. Love is too young to know what conscience is; Любовь юнна все ж, что такое совесть, знать; Yet who knows not conscience is born of love? Но кто ж не знал, что совесть рождена любовью? Then, gentle cheater, urge not my amiss, Меня к ошибкам, плут, не стоит подстрекать, Lest guilty of my faults thy sweet self prove: Чтоб не испытан был в моих грехах виновник: For, thou betraying me, I do betray За то, что предаешь меня, я предаю My nobler part to my gross body’s treason; Часть благородную измене низкой тела; My soul doth tell my body that he may Душа речет: ты можешь - телу моему - Triumph in love; flesh stays no father reason; Вершить в любви; отцовский разум плоть презрела; But, rising at thy name, doth point out thee Тебе ж укажет, именем восстав твоим, As his triumphant prize. Proud of this pride, Триумф как оценен. Той гордостью ж гордясь, He is contented thy poor drudge to be, Довольно быть твоим конягой ломовым, To stand in thy affairs, fall by thy side. В твоей чтоб связи встать, с тобою рядом пасть. No want of conscience hold it that I call Нет, не бессовестность то терпит, что зову Her ’love’ for whose dear love I rise and fall. Ее "Любовь", пред чем я встану и паду. CLII. CLII. In loving thee thou know’st I am forsworn, Любя тебя, ты знаешь, клятву я нарушил, But thou art twice forsworn, to me love swearing, Но дважды солгала ты, мне в любви клянясь, In act thy bed-vow broke and new faith torn, И в клятве ложа, верность новую порушив, In vowing new hate after new love bearing. Клянясь в презренье вновь, любовь лишь родилась. But why of two oaths’ breach do I accuse thee, Что ж в нарушеньи двух лишь клятв тебя винить, When I break twenty? I am perjured most; Нарушив двадцать? Преступил я клятв немеряно; For all my vows are oaths but to misuse thee Столь ж клятв есть сколь моих, тебя чтоб обличить, And all my honest faith in thee is lost, Чтоб вера верная в тебя была потеряна, For I have sworn deep oaths of thy deep kindness, Ведь клялся клятвою в твоей я доброте, Oaths of thy love, thy truth, thy constancy, В твоей любви, в твоей и правде, постоянстве, And, to enlighten thee, gave eyes to blindness, Чтоб просветить тебя, взор отдал слепоте Or made them swear against the thing they see; Иль против виденного ими ими ж клялся; For I have sworn thee fair; more perjured I, Клянусь тебе; я ж более клятвопреступен, To swear against the truth so foul a lie! Чтоб клясться против правды, так я ложь кляну ведь. CLIII. CLIII. Cupid laid by his brand, and fell asleep: Амур, свой факел бросил, погрузился в сон: A maid of Dian’s this advantage found, Диана дева преимущество нашла то And his love-kindling fire did quickly steep И сунула страсть разжигающий огонь In a cold valley-fountain of that ground; В низины этой вот долинный ключ прохладный; Which borrow’d from this holy fire of Love Что от огня любви святого одолжает A dateless lively heat, still to endure, Тепло вовек живое, до сих пор чтоб выжить, And grew a seething bath, which yet men prove Кипящей ванной стал, где люди испытают Against strange maladies a sovereign cure. От хладных недугов эффект леченья высший. But at my mistress’ eye Love’s brand new-fired, О взор любви моей зажег Любви вновь факел, The boy for trial needs would touch my breast; Для пробы мальчик им груди моей коснулся; I, sick withal, the help of bath desired, Я помощь ванны возжелал, больной вдобавок, And thither hied, a sad distemper’d guest, И поспешил туда смятенный гость и грустный, But found no cure: the bath for my help lies Не излечился: ванна ведь лежит для помощи - Where Cupid got new fire--my mistress’ eyes. Где Бог вновь огнь зажег - в глазах моей любовницы. CLIV. CLIV. The little Love-god lying once asleep Малютка бог Любви, лежал однажды спящим, Laid by his side his heart-inflaming brand, Сердца сжигающий откинув факел свой, Whilst many nymphs that vow’d chaste life to keep Когда нимф множество, по клятве честь хранящих, Came tripping by; but in her maiden hand На грех сошлись; своею девичьей рукой The fairest votary took up that fire Взяла прекраснейшая жрица это пламя, Which many legions of true hearts had warm’d; Сердец чем не один был сонм воспламенен; And so the general of hot desire Вот так глава всего горячего желанья Was sleeping by a virgin hand disarm’d. Все спал себе рукой девичьей укрощен. This brand she quenched in a cool well by, Она гасила факел тот в ключе холодном, Which from Love’s fire took heat perpetual, Что от Любви огня взял жар неугасимый, Growing a bath and healthful remedy Бассейн полня растущим средством тем здоровым For men diseased; but I, my mistress’ thrall, Для всех больных, но я, увы, моей раб милой, Came there for cure, and this by that I prove, Ходил лечиться - этим я и докажу, - Love’s fire heats water, water cools not love. Любовь, чем воду грел, водой не остужу. © Copyright Заболотников Анатолий Анатольевич Рейтинг: +3 Отправить другуСсылка и анонс этого материала будут отправлены вашему другу по электронной почте. |
|
© 2008-2025, myJulia.ru, проект группы «МедиаФорт»
Перепечатка материалов разрешена только с непосредственной ссылкой на http://www.myJulia.ru/
Руководитель проекта: Джанетта Каменецкая aka Skarlet — info@myjulia.ru Директор по спецпроектам: Марина Тумовская По общим и административным вопросам обращайтесь ivlim@ivlim.ru Вопросы создания и продвижения сайтов — design@ivlim.ru Реклама на сайте - info@mediafort.ru |
|
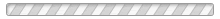
Комментарии:
How heavy do I journey on the way, Какой тяжелый путь я совершаю
When what I seek, my weary travel’s end, И что ищу, так лишь конец пути,
Doth teach that ease and that repose to say Что отдых говорить мой научает:
’Thus far the miles are measured from thy friend!’ "От друга мили все смогли пройти!"
The beast that bears me, tired with my woe, Несущий зверь устал -едва шагает -
Plods dully on, to bear that weight in me, От горя, что несет со мной во мне.
As if by some instinct the wretch did know Злодей чутьем каким-то будто знает -
His rider loved not speed, being made from thee: Не любит всадник спешки не к тебе:
The bloody spur cannot provoke him on Кровавой шпорой не взбодрить бедняжку,
That sometimes anger thrusts into his hide; Хоть злит порою, шкуру проколов,
Which heavily he answers with a groan, На что он стоном отвечает тяжким,
More sharp to me than spurring to his side; Что бьет больней, чем стимулы боков.
For that same groan doth put this in my mind; Для этого ж напомнит стон: гляди -
My grief lies onward and my joy behind. Вся радость сзади, горе ж впереди!
Звучит, как пощёчина! Класс!!
Оставить свой комментарий