



Рубрики статей: |
Балкон Купидона
The little Love-god lying once asleep... Shakespeare. Son. CLIV
Пролог Над тихой бухтой тяжелым, всклоченным месивом туч навис синюшно-багряный, болезненного вида закат. Солнца отсюда не было видно, отчего вполне могло почудиться, что тучи, словно тлеющие головешки большого костра, сами светятся изнутри постепенно умирающим огнем. Сейчас тучи были очень похожи и на стадо недавно еще пышных златорунных овечек, бредущих уныло по высокой, сырой траве, отчего курчавые брюшки, бока их, набухая холодной влагой, темнеют, а золотистые недавно локоны обвисают бесформенными прядями, сбиваясь в одну грязную, скользкую на вид, слизистую массу... Со своего балкона он мог видеть солнце только на восходе - все закаты, какими бы прелестными они ни казались другим, всегда виделись и представлялись ему отсюда вот такими же безжизненными, какими-то неполноценными, беспричинными. Он не видел само заходящее солнце, оно стыдливо пряталось от него за серой стеной соседнего дома, словно боясь этих тягостных мгновений расставания, пусть и недолгого. Если бы хоть раз в жизни он видел настоящий закат, во всей его красе, во всю ширь бескрайнего неба, этого необъятного поля битвы света и тьмы, дня и ночи, то, может быть, его память могла бы оживить и фрагменты этой дивной картины. Увы, он видел только отблески угасающего костра, только мертвое отражение живого небесного огня, отчего каждый вечер ему казалось, что природа умирает, что она мертва еще до наступления ночи, которая лишь укрывает своим черным саваном уже остывший, безжизненный труп. Даже ночь сама, сверкающая россыпями разноцветных бриллиантов, казалась ему более живой, чем небо на закате. Тем более, в течение года небо ночами непрестанно менялось, менялись созвездия, рождались новые, забытые ли просто, звезды, что никак не соответствовало его представлениям о смерти. Конечно, это была другая жизнь, какое-то крошечное, сконцентрированное, амебное ли существование среди моря мрака, в пустоту которого разлетелись мириады искорок от солнечного костра жизни. Ясно, что все они погаснут утром, но одна из них, самая яркая, самая последняя, обязательно запалит небо на восходе, разожжет вновь утреннее солнце. Он это твердо знал, до сих пор не было ни одного исключения, но в часы заката в это верилось с трудом. Каждый вечер он словно бы и сам умирал навсегда. Это стало уже его обычным состоянием, все подобные чувства он испытывал даже в те вечера, когда закатов просто не было, когда небо просто умирало без единого всполоха, отсвета угасающего солнца. Эти вечера он воспринимал спокойнее, его не раздражала красочная иллюзия, пародия жизни... Не так давно еще ему страшно хотелось увидеть-таки настоящий, полноценный закат, рассеять некоторые свои заблуждения, тягостные впечатления, занимающие довольно большое место в его жизни. Однако, никто всерьез не воспринимал его просьб, его абсурдных для окружающих доводов. Его клочок почти в треть неба, который он демонстрировал отцу в качестве обоснования своих несвязных просьб, даже для того мало чем отличался от всего остального, да и вообще казался такой несущественной мелочью, что он или просто отмахивался, или находил всевозможные причины отказать ему. Нет, днем-то он довольно часто бывал там, мог видеть весь небосвод, который действительно был везде одинаков, за исключением лишь различного рисунка облаков, да линии горизонта, которая в его городе была столь разнообразной по периметру, усеянной и коробками домов, и волнами сопок, разделенными обширными провалами долин. Но все это, что находилось под линией горизонта, было для него чем-то чуждым, каким-то изначально мертвым, лишь только фоном, грунтовкой огромного холста, на котором было нарисовано живое небо. Да, все это был для него тот самый натюрморт в буквальном значении этого слова. Среди множества его деталей он мог различить, узнать ли только несколько, казавшихся ему действительно живыми, наполненными ли невидимой со стороны жизнью. В первую очередь, это было, конечно, неказистое, обшарпанное здание больницы, куда его лишь и вывозили изредка. Иногда он узнавал и некоторые из автобусов, на которых его раз или два в году возили по узкому, извилистому ущелью длинной улицы в далекую, но очень большую больницу, не видимую отсюда. Все остальное для него было чем-то наподобие подвижных картинок кино, в котором он однажды, в раннем детстве побывал с отцом, но на единственно реальном теперь экране неба. Это касается и множества картинок людей, во многом похожих на его близких, но в ком он не мог узнать ничего, тем более, что они постоянно менялись, быстро исчезали из поля зрения, ничего не оставляя после себя, в отличие от тех нескольких, хотя бы знакомых ему врачей, медсестер, после короткого общения с которыми у него болели места уколов, если их, правда, ставили в руку, под лопатку ли, что, естественно, трудно отнести к приятным воспоминаниям. Другое дело, когда их ставили в ноги, туда, где он даже мечтал хотя бы раз почувствовать боль... Ясно, что врачей-то, медсестер он никак не мог счесть неживыми, нереальными, тем более, что некоторые из них иногда приходили и к нему домой. Но они тоже были из какой-то другой, болезненной, по-особому пахнущей, жизни, чем-то похожей на холодную зиму, такую же белоснежную, чистую, но отчужденную, равнодушную ко всему живому, сосредоточенному почти исключительно в нем. Понятно, что среди всего этого он не мог не узнать, не различить знакомых ему птиц, которых постоянно видел вокруг себя, на фоне ли своего неба. Особенно, это касалось воробьев, так похожих друг на друга, отличающихся лишь только своим поведением. Некоторые из них вели себя с ним просто запанибратски, воруя у него со стула крошки. Да-да, обеденный столик у него был на стуле, который только и мог поместиться рядом с его узкой, но удобной лежанкой. Один воробей так вообще мог клевать у него крошки с руки, настолько близко они были знакомы, а иногда, просыпаясь, он даже заставал того прыгающим в нетерпении по одеялу. Воробей-то ведь знал, что для него непременно что-нибудь найдется, едва его друг откроет глаза. К несчастью, он куда-то вдруг исчез и вот уже с неделю не появлялся у него на балконе... Простите, мы и подумать не могли, что вас это как-то удивит, ведь для него это было так обычно и обыденно! Разве надо было бы вам уточнять, что вы, мол, живете в этом городе, на этой земле, в своей квартире? Это же глупо! Так же естественным для него было то, что он живет на балконе, всегда там жил... Квартирка для их семьи была чересчур маленькой, поэтому, когда он родился, то под предлогом полезности свежего воздуха, его коляску сразу же определили на балкон. Действительно, он там спал даже чересчур крепко, пробуждаясь лишь по зову желудочка, пустота которого была вначале весьма звонкой. Когда он научился самостоятельно управляться со своей бутылочкой, то его перестали забирать с балкона и на время обеда, тем более, что все они работали целыми днями, даже мать уже через неделю отняла его от груди и вернулась в магазин. Когда же оказалось, что он не может ходить, то причин покидать балкон у него совсем не осталось, да он и сопротивлялся вначале весьма бурно при любых попытках занести его в душную, тесную комнату, особенно, в дни рождения, когда там было чересчур много народа, а пахло - не приведи, господи! К тому же, на балконе было и гораздо уютнее. Отец его, бывший некогда весьма искусным плотником, мастерски обшил балкон лакированными досточками, застеклил его, оборудовал разными шкафчиками, полочками, не занимающими при этом много места, но весьма вместительными. Поэтому, когда он основательно обосновался здесь, у него было все под рукой, было все для полноценной жизни, за исключением разве что некоторых деталей. Жизнь же его родственников со временем требовала все меньше и меньше места, почему они вскоре оставили балкон полностью за ним, забрав все свои вещи оттуда. Уходил они рано, если и приходили домой, то поздно вечером, заглядывали к нему лишь затем, чтобы убрать грязную посуду и еще кое-что, а также накормить его, оставить ли ему на день хлеба, воды и еще чего-нибудь. Этим их общение с ним только и ограничивалось, за исключением тех дней, когда к нему приходил врач, а чаще медсестра, или когда его нужно было везти в больницу, что со временем случалось все реже и реже. Честно говоря, своих родственников он тоже с некоторого времени стал воспринимать, скорее, по их вине, как некоторые необходимые для жизни приспособления, наподобие своей лежанки, которая заменяла ему и кровать, и кресло, а вместе со шкафчиками - и все остальное жизненное пространство. Только лишь в сравнении нам может показаться, что этого чересчур мало для нормальной жизни, истинные пределы которой мы, видимо, весьма переоцениваем... Для его жизни здесь было почти все. Да-да, почти все, за исключением той небольшой, но крайне важной детали, с упоминания о которой и было начато повествование, из-за которой мир его не был ни завершенным, ни совершенным. Понять это мог бы только тот, кто, как и он, с первого дня своей жизни, каждый день без исключения встречал восходы солнца, но не видел ни одного его настоящего заката. Глава 1 - Сестра, - первым делом и спросил он у Светланы, почему-то растерянно, изумленно, чуть ли не испуганно глядя на нее широко раскрытыми, лазурного цвета, как небо в этот миг, глазами, когда та пришла к нему с обходом, но не стала ставить ему непременный укол, из-за которого остальные лишь и навещали его, - как солнце, ну, это... умирает? - А почему ты..., вы решили, что оно умирает? - удивленно распахнув лучистые ресницы своих золотисто-янтарных глаз, спросила она, даже замерев с градусником в руках, словно засомневалась - надо ли ему измерять температуру. Со стороны могло показаться, что она вдруг вообще забыла, зачем пришла сюда, и пыталась это вспомнить или просто понять, а кто же перед ней. - Но ведь это как раз самая, ну, если не единственная, загадка, потому что, потому что,... - вдруг засуетился он, словно и не ожидал услышать ответа, приготовился уже опять погрузиться в себя, услышав обычную в таких случаях, успокоительную фразу, отговорку, а то и просто красноречивое молчание, - ну, сами поймите, разве можно каждое утро, почти каждое утро рождаться, не умерев перед этим? Я же видел столько раз, как оно, как красиво оно рождается, да-да, видел, на это же невозможно не смотреть, это красивее почти всего... Я так мало слов знаю, чтобы сказать это, но словами все равно не скажешь, потому что, когда видишь это, они пропадают куда-то, все просто молчит и смотрит на это... А потом, ведь словами это не сказать, ведь никто этого слушать не хочет, значит, не понятно, когда словами? Так ведь, да? - Нет, - смущенно почему-то ответила Светлана, даже чуть порозовев и отложив градусник, - мне, наоборот, только сейчас вдруг - не знаю даже, почему - стало понятно... это. Ну, то есть, что это так красиво... Я, если честно, не думала, что это рождается солнце, я просто считала, что это, ну, просто восход, просто заря, которые, конечно, очень красивые, самое красивое, может, на свете, но я не думала, что это так... - Правда?! - слегка недоверчиво, но с восхищением воскликнул он, даже приподнявшись вслед своим словам с лежанки, то есть, теперь - с кресла. - Вам понятно, что я говорю? Нет, честно?! Мне ведь казалось, что я неправильно говорю те слова, которые написаны в книге, я ведь их в жизни-то не слышал почти ни разу... Нет, слышал раньше, когда они не закрывали балкон, когда говорил телевизор... Сейчас там такое не говорят, почти не говорят, и... Да нет, это не важно... Но дело в том, что я не видел, о чем они это говорят, почему мне сложно... И мне почему-то непросто говорить это вам, хотя так хочется, наоборот, вам это и говорить... - Нет, просто я сейчас с вами, вот и все, - торопливо перебила она его, вновь смутившись и решительно взяв градусник со стула, но так, словно бы держалась за него, боялась отпуститься. - И, к тому же, я ведь случайно пришла к вам сегодня. Вика, ваш сестра, кажется, заболела или еще что, но попросила... Если бы пришла она, то вы бы ей тоже рассказали... - Нет, - чуть насупившись отрезал он, но тихо, словно боялся спугнуть разговор, - она вообще меня не слушала, она только говорила, говорила, после чего я вправду болеть начинал... А я ведь совсем не болею! Но она и это не слышала, кивала головой, но снова называла меня - больной, что тут у вас, больной... - Нет, нет! Вика очень хорошая! - настойчиво переубеждала его Светлана, слегка судорожно встряхивая градусник, словно хотела от него избавиться. - Она очень любит больных, то есть, пациентов, она только о них и говорит! И она будет хорошим врачом... Да-да, а я, наоборот, ну, то есть, из меня не получится врача, я не очень... люблю это... Но какая разница! Это я не вам, это я о другом... Не о том, что вы говорите, а о себе только... Просто обо мне вы неправильно думаете... Понимаете? Разве можно меня сравнить?... - Конечно, - уверенно ответил он, внимательно, пристально даже глядя на нее, - я почему-то сразу вас и сравнил... Ну, так само как-то получилось, только я начал говорить. И я знаю - почему. Да, я так же разговариваю, ну, как с вами, только с солнцем... Нет, вы не смейтесь! Совсем почти так, ведь оно не отвечает... словами. Оно отвечает, но не так... А я с ним так же говорю, как сейчас. Вы как раз сейчас там и стоите, где оно бывает утром... - Нет-нет, вы напрасно! - настаивала на своем Светлана, пытаясь перебить его, а, может, себя, - я ведь и не собиралась даже, никогда не хотела стать врачом... Просто у меня не было денег... Я хотела стать совсем другим... Ничего не получилось, и я пошла за Викой, там всех брали... Кто сейчас захочет быть сестрой... за такую зарплату? Но я не поэтому, конечно... - Я тоже хотел стать, - вдруг перебил ее он, но смутился, замер на полуслове и едва выдавил из себя признание, - ну, то есть, мечтал стать... космонавтом... - Да, но ведь?... - воскликнула было она удивленно, но резко замолчала, покраснев. - Нет, не надо! Вы правы, я же понимаю, - торопливо начал он ее успокаивать, - но я именно поэтому и хотел... Да, ведь в невесомости я бы смог... Там ведь не нужны ноги? Там и они невесомы? А так, я ведь очень сильный, посмотрите!... И я же не больной, ну, кроме этого... Я очень сильный, правда... - Да, я ведь не подумала про это! - оправдывалась она, скорее, опять себя убеждая в чем-то, - только сейчас почти ничего невозможно сделать... Раньше было бы возможно, наверно, и это, а сейчас... - А вы кем хотели стать? - даже с какой-то жалостью смотрел он на нее. - Я? - вопрос будто врасплох ее застал, и она не сразу смогла ответить на него. - Я даже не уверена, что хотела... Но все равно, это теперь невозможно, и я почти сразу же и передумала... Нет, простите, я хотела себя убедить в этом, потому что..., потому что как-то все сразу стало бессмысленным, каким-то машинальным... Да и глупо, наверно, было на что-то надеяться... Я хотела стать... Только вы не подумайте, я это серьезно! Да, тоже... космонавтом... - Правда?! - обрадовано воскликнул он. - А вы - почему? - Если честно, я хотела улететь отсюда, - печально произнесла она, присев вдруг на узкий краешек порога. - Я думала, что, когда я вырасту, летать уже будут в другие солнечные системы, в другие миры... Я не хотела здесь оставаться, наверное... Это я сейчас поняла, а тогда просто хотела улететь хоть куда, хотя бы просто лететь и лететь, пусть даже целую вечность... - Ну, про ноги я тоже лишь потом выдумал, а, так, я тоже хотел улететь куда-нибудь, ну, на Альфу Центавра, например, - очень серьезно, нахмурив брови, отчего лицо его стало немного смешным, сказал он. - Я ведь, по правде-то, и сейчас только там где-то и живу, но лишь вот так... Иногда, ну, то есть, ночами, я этого же вообще ничего и не вижу, словно бы и лечу среди звезд... Они же и в стеклах тоже отражаются, словно бы вокруг меня... У меня есть, правда, только одна книжка про это, но там все так точно описано... - Одна? - спокойно спросила она, словно они говорили о чем-то обыденном. - Я принесу, у меня их столько! Только я уже не могу их читать, это невыносимо. Я их тебе все принесу. - Это здорово! - мечтательно воскликнул он, но тут же смутился и с сочувствием посмотрел на нее. - Нет, ты сразу все не приноси, вдруг ты сама захочешь вновь прочесть... Ты должна вновь прочесть... Ты,... ой, извините, ведь мне-то даже и мечтать об этом было смешно, я же понимаю, но это мне так помогает... Ведь я даже выйти отсюда не могу, не то что... Но мне это здорово помогает... Я могу это все сам выдумать и днем. - Я не такая сильная, - скептически поджав губы, произнесла она, не отрывая от него взгляда. - Я бы так не смогла... - Нет, это только со стороны кажется, - спокойно возразил он, - на самом деле, это, может, даже легче... У меня нет выбора, поэтому мне, наверно, даже легче. Я ничего не теряю... - Я бы тоже так хотела, - глухим голосом, продолжая смотреть на него или сквозь него, сказала Светлана, - ведь это же почти... ну, как полет, словно ты один в маленьком межпланетном корабле, а пред тобой - небо и вечность одиночества... - Да, я так и думаю, - тихо добавил он. - Вокруг только пустота, и абсолютно ничего реального, никаких мелочей, никого... - глубоким голосом продолжала она, глядя уже определенно сквозь него, - никакой глупой суеты, вранья, ничего... И ты даже слов таких не помнишь уже. Ничего не помнишь... Может, это похоже на смерть немного, но это гораздо лучше, чем сейчас. Нет-нет, только похоже, потому что это и есть настоящая жизнь, в которой ничего не теряешь, ничего не хочешь потерять... Даже и короткая, но она почти как вечность. Само главное, что тебе уже ничего там не надо, хотя вроде и нет ничего, но это больше, чем все... Я даже завидую тебе, понимаешь? - Чему? Ведь это так просто? - искренне удивился он. - Разве ты так не можешь? - В том-то и дело, - слегка раздраженно сказала она и встала. - Я, может, и могу, но это почти невозможно, хотя... Нет, это я так... Я пойду... - Жаль, что сейчас нет солнца или хотя бы звезд, - опечаленно произнес он, со скрытой мольбой поглядывая на нее, - ты бы сейчас все поняла сразу, как это просто. Ты можешь попробовать... - Да, конечно, - холодно отвечала она, в некоторой растерянности топчась на месте, слово бы что-то забыла, - только мне надо, опять надо идти, надо столько еще успеть... Если бы не Вика,... но все равно нельзя. Всегда так, всегда что-то надо, надо... Я пойду? - Приходи, - тихо попросил он ее неуверенным голосом, с трудом глядя ей в глаза. Он все понимал. - Да, я совсем забыла измерить тебе температуру, - неестественно как-то, скованно сказала она, подойдя вдруг к нему, и, быстро склонясь, словно бы потрогала его лоб губами. - Можно я так? Нет, совсем не горячий! Нормальная температура... Пока! Когда он открыл глаза, ее уже не было. До самой ночи он неподвижно пролежал в своем кресле, не сводя глаз с того места, где недавно стояла она, где в эти летние дни по утрам вставало, рождалось солнце. Он даже не заметил выглянувшую на балкон бабку, что-то пытавшуюся спросить у него, буквально пронзая его горящим любопытством взглядом бесцветных глаз. Он так редко ее видел до этого, что ее, наверное, и не существовало в его мире. Да она и была ему совсем чужая, не родная, к тому же терпеть его не могла, как и мачеха, раздражаясь, даже возмущаясь поначалу его односложным, туповатым ответам... Но их и не было для него. Он не заметил и отца, который с виноватым видом, благоухая винными парами, заглянул к нему, что-то несвязно спросив, и понуро удалился, оставив на стуле тарелку с каким-то ужином. Он вновь остался один, и понимал это, потому, наверно, что сердце вдруг стихло в груди, словно попало в невесомость и неслышно парило в белесой пустоте, незаметно сменившейся беспросветной ночью без единой звездочки... В эту ночь не было и луны, и свет в их районе опять отключили, отчего он был в абсолютной темноте, когда без разницы - смотришь ты с открытыми или с закрытыми глазами. Однако, что-то светлое на этом черном фоне он видел и не сводил с него глаз, пока оно не растаяло на фоне светлеющего, неохотно пробуждающегося неба... Глава 2 В воскресенье вечером, когда отец пораньше все же приходил с работы, он вдруг решительно как-то зашел к нему на балкон с тарелкой в одной руке, на которой высилась горка нарезанной ветчины, несколько соленых огурцов, ломтиков черного хлеба, и ловко держа во второй руке бутылку водки и два стакана. Стараясь не смотреть ему в глаза, отец поставил все это на стульчик, прикрыл поплотнее дверь и осторожно присел на краешек его лежанки. Нервно подергивая губами, он откупорил бутылку, аккуратно налил по полстакана и только тогда посмотрел слегка влажными глазами на сына. - Сынок, ты, может, выпьешь со мной... ну, чуть-чуть? - сдавленным голосом, судорожно глотая слюну, спросил он, легонько касаясь, словно пытаясь погладить рукой его бесчувственные ноги. - Мг-м, - невнятно, но как всегда, буркнул тот в ответ, почти не изменив выражения лица. - Нет, ты не пойми неправильно! - начал отец сразу же оправдываться - он вечно оправдывался, - я ведь и сам знаю, что это плохо, ну, то есть, нельзя и все такое... Коли честно, в твои годы я еще не пробовал... Ну, если только чуть-чуть, для баловства... Кампания у нас тогда хорошая была, все больше мяч гоняли, ну, иногда ходили куда, в лес там, еще куда... Я бы сейчас не пил, если бы... Все таки, когда выпьешь, как-то легче, как-то все это не важным становится, всякое там... Как-то понятнее, и тебя понимают тоже... Я, конечно, не знаю, что там случилось, но все же попробуй, вдруг полегчает... Я ведь и не заметил даже, как ты вырос-то... А когда, сын? Ты, вот, не видишь, а я же теперь с утра до заката только и пашу. Раньше-то, на фабрике, отработал смену и домой, а теперь, вроде сам хозяин времени, а все никак не остановишься, все последнего покупателя выжидаешь, еще чтоб рубль заработать, другой... Ну, а что делать-то? За одну эту конуру сколько отдать надо... Ты, может, и обижаешься, но, ей богу, там бы тебе невыносимо было, такая теснотища, теща одна чего стоит! Ты, вот, не любишь ее, и ладно, а мне-то терпеть приходится. А ночами?!...Выпей! Прервав на этом поток слов, он взял стаканы со стула и подал один из них сыну, с мольбой почти глядя ему в глаза. И лишь когда тот взял неуклюже стакан из его рук, отец глубоко вздохнул, весь сморщился и, отрывисто глотая, выпил свой, тут же схватив кусок хлеба - занюхать. В глазах его блестели слезы, хотя по лицу плавно растекалось какое-то блаженство, спокойствие. Он же недоверчиво понюхал вначале содержимое стакана, потряс его, глядя, как прозрачная жидкость плещется по стенкам, потом спокойно, как-то совсем равнодушно, словно запивал таблетку, выпил водку одним глотком и не поморщился. Так же спокойно он поставил стакан на стул и вновь уставился на отца холодным взглядом. - Надо же, - с некоторым восхищением воскликнул отец, держа в руках огурец, от которого тот отказался, - я так никогда не мог, в меня она всегда плохо шла, особо в первый раз... Ты не обижайся, сын, только, я ведь понимаю, как тебе тяжело... Они ж такие заразы, эти бабы, я их просто ненавижу!... Мать, ну, то есть, мачеха твоя, хоть тоже, но все-таки с понятием, знает, что непросто с ней, вот, и дает каждый день на это дело... Понимаешь, она теперь мне дает?! Ну, как с этим смириться, а? Это мне-то, мастеру!... А кто я теперь? Грузчик, подносчик у нее... Хотя она-то тоже весь день на ногах... Понимаешь, если бы старуха тут не торчала, я бы, конечно, мог кого и привести для тебя, но... Ни в чем не волен... Ей богу, так все надоело, но куда деться! Я ведь баб тоже любил, в молодости-то покуролесил, еще как! Понимаю... Давай еще по одной? Но сын холодно отодвинул рукой протянутый ему стакан, едва покачав головой. Лицо его стало напряженным, взгляд слегка заторможенным, презрительным ли. Он почувствовал, как по жилам растекается легкий, бодрящий жар, но ему сильно не понравился запах, которым, казалось, пропиталось все его нутро, от которого его неприятно саднило, хотелось лишь выдохнуть его из себя вместе с легкими. - Ну, и правильно! - покорно согласился отец, как-то сразу сникнув, и, стыдливо отвернувшись, судорожно влил в себя содержимое второго, почти полного стакана. - Я, вот, не могу тут остановиться, жажда какая-то начинает донимать, залить ее хочется. А ты, наверное, в своего деда, тот всегда знал меру... В того деда, не в моего, то есть... Сынок, ты мне скажи только, что для тебя сделать? Прости, конечно, что я только-только спохватился, но... Он уже не мог договорить, так его душили слезы. Отец был очень слабым человеком, как все считали. Но только поэтому, видимо, он и не отказался от него, как мать, которая неожиданно исчезла из дома, когда ему исполнилось три года, в самый день рождения... Встала из-за стола, вышла в коридор и больше не возвращалась. Он запомнил это, потому, наверно, что она вроде бы хотела принести ему подарок, который где-то забыла. Больше о ней он ничего не помнил, потому что в основном и тогда жил на балконе. Редко, по вечерам или в воскресенья они забирали его в комнату, отец играл с ним, она тоже была рядом, но он быстро уставал, начинал задыхаться, потеть, капризничать, и его вновь возвращали к себе, на свежий воздух. Летом же он, наоборот, сразу привыкал к жаре, которая вблизи берега моря не была такой изнуряющей, как могло показаться. Никто не думал, конечно, что он стал необычайно выносливым, но лишь к тому, к чему привык. Поскольку же он постоянно жил на балконе, на улице, то есть, то привык он к самому природному ритму смены погоды, который повторялся каждый год изо дня в день, что не замечали только мы, большую часть жизни проводя в помещениях, задавая свой климатический ритм всякими там обогревателями, темными шторами и прочим... - Не надо, - буркнул он невнятно в ответ на обращение отца, добавив чуть мягче, словно сжалившись, - ничего. Ничего. - Боже, простит ли меня он?! - горько, обиженно сморщившись, воскликнул отец. - Мы ведь тебя даже в школу не определили... тогда. Но как, сын? Я ведь тогда один был... Сам понимаешь, надо было работать, да еще из-за матери все переживал... Все ведь тогда кувырком полетело, и если бы не Маша, что бы сейчас и с тобой было, я не знаю... А так, все-таки дома... Ну, да ладно, если ты не хочешь, то я допью, да пойду. Устал я страшно, сынок, просто невыносимо устал, никак не могу отдохнуть. Когда? Сейчас, вот, бухнусь, а едва заснешь, уже вставать надо и опять бежать куда-то... А зачем - не понятно... Работаешь только затем, чтобы устать, да к утру немного силы восстановить. Как тут не пить, а? Я ведь, если не выпью, то сразу думать начинаю, сразу все таким кажется, что... А теперь, вот, вроде и наплевать... Ну, твое здоровье! Он допил остатки водки, взял с собой бутылку, стаканы и, жалостливо улыбнувшись сыну, буквально вывалился с балкона в дверь, за которой послышались звон стекла, его кряхтенье и недовольное ворчание мачехи. Но дверь тут же закрыли, и он уже ничего не слышал... Отец так ни разу и не назвал его по имени... Это он вдруг заметил, впервые заметил, потому что его почти никогда никто по имени и не называл, к чему он давно привык. У него словно бы и не было имени. А сейчас он обратил на это внимание, потому что отец впервые за все годы вдруг разоткровенничался. Нет, это его не обижало, нисколько не обижало, раз он впервые лишь и заметил это. Он ведь и сам их совсем никак не называл, почти совсем не разговаривал с ними, отделываясь невразумительным мычанием, отдельными ли словами. А о чем?! Нет, немножко это сегодня задело его, наверное, из-за водки, которая все же ударила слегка в голову, расслабила его, размягчила слегка мысли и чувства. Ему и правда стало немного легче. Веки его вдруг отяжелели, и, покорно закрыв глаза, он неожиданно для себя и впервые за последние дни уснул глубоким сном, словно бы провалился в черную бездну... Проснулся он от какого-то раскатистого шума, словно бы это рычали некие чудища, неведомые ли ему страшные звери. Но первым делом он с испугом подумал о другом - он ведь впервые проспал восход солнца! Да, то уже вовсю палило среди лазурного, без единого облачка, неба... Приподнявшись с трудом на лежанке, он подтянулся к краю балкона и осмотрелся по сторонам. По морю было рассыпано множество золотистых, слегка колышущихся от ветерка, лепестков подсолнуха, обилие которых даже слепило глаза. От их поляны в его сторону протянулась постепенно сужающаяся золотая тропка, устланная лепестками, словно бы приглашала его прогуляться... - Эй, красавчик! - вдруг услышал он снизу, где увидел неожиданно девушку в маечке и короткой юбке. Взгляд его к ней также влекло, как и к Светлане, что его даже удивило. Он с интересом рассматривал ее лицо, глаза, длинные черные волосы, стройные загорелые ноги, особенно яркие, алые губы, из которых до него доносились странные слова и веселый смех, - может, пойдем на море? Чего на балконе торчать? Я бы не прочь! Ты что, немой? Ну, смотри, пожалеешь, второй раз не приглашу... Надо же, какой кудрявый!... Она еще несколько раз оглянулась в его сторону, спускаясь по тропке в сторону берега... Однако взгляд его влекло совсем иное. Чуть слева, почти напротив балкона, он неожиданно увидел несколько бульдозеров, с урчанием курочащих бугристую терраску на склоне, плавно погружающемся в сторону моря. Из-за дома же в их сторону медленно полз огромный экскаватор, слегка покачивая зубастой головой, будто грозил кому-то. Он не знал их названий, впервые видел их, почему они и казались ему похожими на сказочных зверей. По всей террасе расхаживало множество людей с разными инструментами, словно бы они собирались сражаться ими с этими чудищами. На краю ее уже стояли несколько зеленых вагончиков... По количеству техники, людей, он сразу понял, что здесь собираются возводить что-то грандиозное, может быть, даже новую пирамиду или ту башню до небес, о которой он читал во второй, черной книге, которую ему однажды сунула в руки какая-то старушка, когда его везли на чужой коляске в больницу. Старуха только и буркнула, что это, мол, его книга, и засеменила себе дальше, пару раз лишь обернувшись. Но он пока прочел на несколько раз только начало книги, где как раз и упоминалось про ту башню, за которую бог и наказал ее строителей. Конечно, ему сразу же стало интересно, что произойдет с этими строителями, и он отвлекся от своих недавних раздумий, полностью погрузившись в созерцание неожиданно бурной, активной, созидающей что-то жизни, о существовании которой даже не подозревал. Понял он сразу, и что такое та самая работа, о которой так невнятно упоминал отец. Лишиться такого, явно, было бы очень тяжело! Издали было видно, что этим людям очень весело, они постоянно размахивали руками, перекрикивались меж собой, бойко носились из конца в конец по стройплощадке, лавируя между бульдозерами, горами огромных колонн, кирпича, перепрыгивали через вырытые ими же траншеи... Он с большим трудом подбирал слова, чтобы осознать все, чем они там занимались... Даже эти неуклюжие громадины-динозавры, вгрызающиеся в землю сверкающими на солнце клыками, вырывающие из нее с корнем зеркальными лопастями невероятно огромных рогов раскидистые, мигом поникающие, теряющие свою стать, дубки, каменные глыбы и горы разноцветной почвы, его не так восхищали, как более проворные, юркие и задорные люди, которые здесь, конечно, были главными... За пролетевший в один миг день терраса изменилась неузнаваемо, что взволновало не только его, но и толпящихся под балконом соседей, которые вдруг начали сбиваться в кучки, о чем-то спорить. Отец тоже поздно вечером несколько раз выбегал на балкон, с тревогой поглядывал в сторону стройплощадки, а потом вышел на улицу и присоединился к одной из кучек. Потом их кучки, сбившись в одну, направились в сторону стройки и встали там посреди площадки, мешая движению техники и строителей. Все они теперь бодро размахивали руками, о чем-то кричали друг другу, стали удивительно живыми. Некоторые вообще начали бороться, сражаться ли друг с другом, пока вдруг не подъехали несколько синих машин, откуда выскочили еще люди в темно-синих одеждах, которые начали расталкивать и растаскивать сражающихся в разные стороны. К тому времени толпа людей значительно выросла, но уже начало темнеть. Он лишь мельком посматривал на небо, покрывающееся багровым закатом, заливающим набегающие с запада тучи, которые потом стали темно-фиолетовыми, потом почти слились с темнеющим небом, слабо различимым из-за яркого пятна вспыхнувшего вдруг над стройкой света почти десятка прожекторов. Там уже шло целое сражение. Со всех сторон туда подходил люди, из-за дома подъезжали новые машины с людьми в синих одеждах. Неожиданно смолкшие до этого динозавры вновь заурчали, грозно пыхая клубами синего дыма, и медленно двинулись на толпу людей. Те вначале пытались им помешать, кидая в них камни, кирпичи, но постепенно начали отступать и разбегаться, уворачиваясь от динозавров и от людей в синем... Но, к сожалению, свет над стройкой, как и во всех домах, вдруг погас и вся земля погрузилась во мрак. Тут же на машинах зажглись фонари, но в их свете он видел только мельчающие тени, все более редеющие... Очень быстро после этого вся стройка опустела... Он слышал, как в квартире их хлопнула дверь, и раздался возбужденный голос отца, срывающийся на высоких нотах. Пару раз он выскакивал к нему на балкон, гневно и сбивчиво восклицая: - Ты понимаешь, а? Они же своим доминой закроют нам, тебе закроют весь вид! Дом, балкон, то есть, теперь весь день будет без солнца, ты понял! С видом на море, что называется, но только не для нас! Нас даже этого теперь лишают, потому что и за это, оказывается, надо платить! Да я взорву их гребаную стройку, пусть попробуют! Только из-за тебя одного взорву, понял, сын!... Но ему почему-то было все равно. Он лишь с некоторым удивлением посматривал на отца, неожиданно так оживившегося, черты лица которого стали такими контрастными в колышущемся свете коптилки, льющемся из окна и балконной двери. Половина отца при этом была абсолютно черной, невидимой, как обратная сторона луны, а вторая половина была вся испещрена резкими, глубокими морщинами, днем не так видными. Сейчас же они будто тонкие, черные пиявки извивались, дергались, метались по желтоватому лицу отца, и их нельзя было не заметить. Широко раскрывающийся рот того был похож при этом на черную дырку, отчего ему даже стало смешно, но он умел этого не показывать... Глава 3 Вскоре отец успокоился, свет в комнате погас, и все вокруг него погрузилось вновь в непроглядную тьму, в бездне которой лишь на востоке поблескивали звезды. Может, это было и хорошо, потому что ничто не отвлекало от размышлений. А ему как раз сейчас вдруг подумалось, почувствовалось ли, что в его жизни происходят какие-то очень серьезные, хоть и не понятные ему изменения. Нет, не вокруг, а в нем самом... Внутри него вдруг появилась, становясь все более и более осязаемой, ощутимой, некая бесформенная глубина, куда он даже мог попытаться заглянуть. И хотя она была и близко не сопоставимой с бездной неба, ночи, в ней ему чувствовалось, почти осязалось гораздо большее содержание, неудержимо влекущее его к себе, хотя даже каких-то смутных очертаний этого он не мог представить. Там ведь не было ни звезд, ничего, даже сама тьма его была какой-то призрачной, не абсолютной. Нет, иногда там вспыхивали какие-то искорки, но тут же гасли. Однако, она ему казалась очень живой, почти телесной, пульсирующей, издающей едва ощутимое тепло. И она была какой-то сладкой, отчего где-то в неизвестности, внутри у него даже слегка щемило сердце, откуда до него долетали гулкие, мерные звуки. В какие-то мгновения он даже словно мог разглядеть ее отдельные черты, на что-то очень похожие, но он понимал, что это невозможно в полной темноте, в пустоте... Он уже давно закрыл глаза и смотрел только туда, внутрь себя, пытаясь даже с кем-то там разговаривать, то есть, пытался услышать что-либо в ее гулкой тишине. В отдельные мгновения эта пульсирующая пустота вдруг резко сжималась, и он даже на зубах ощущал ее почти резиновую упругость, когда она почти сливалась с ним, вбирала в себя его формы, которые он тогда явно начинал осязать... И когда он вроде переставал быть только собой, он, наоборот, начинал отчетливо ощущать себя, до этого полностью растворившегося во тьме. Да-да, когда он сливался с бездной ночи, то весь он был сосредоточен только в крохотной точке своего взгляда. А теперь он порой казался себе огромным, упругим сгустком черноты, за гранями которого нет ничего. Его даже пугало это, как будто это был уже не он, а кто-то другой завладевал всем его существом, оставляя ему лишь осознание этого. Но потом он убеждался, что это был все-таки он сам, только еще не известный самому себе. И грань этой неизвестности была где-то близко, ему казалось, что он даже может дотянуться до нее рукой. В какие-то краткие мгновения ему даже чудилось, что оттуда, из-за нее к нему поступают слабые импульсы, сигналы из других галактик, смысл которых он не мог понять. Они долетали до него будто маленькие, молчаливые метеоры, различимые лишь по следу сгорания. Конечно, он и раньше себя ощущал, осязал, тем более, что очень часто сосредотачивался на своем теле, изучал его. Однако тогда он был похож на некий живой сосуд... без дна. Он чувствовал упругость мышц рук, очень сильных и развитых мышц постоянно напряженного пресса, далее которых ничего не было, то есть, была только видимая снаружи зона безмолвия. Он с интересом поглядывал в ту сторону в те редкие дни, когда отец вдруг спохватывался и устраивал ему банный день прямо здесь, на балконе. Ванной в их так называемой малосемейке не было, да ему и самому было как-то привычнее мыться здесь, на балконе. В последние годы, когда эти дни наступали все реже и реже, он посматривал туда даже с некоторой враждебностью: та, почти не его часть тела была для него страшной обузой, мертвым придатком, который приковал его навеки к лежанке, из-за которого он и был так стеснен в движениях. Да и цветом его недвижные ноги были мертвенно-бледными, с каким-то синеватым отливом. С какой бы радостью он избавился от той половины, особенно, в те, самые неприятные, отвратные минуты своей жизни, когда он ненавидел ее, словно бы мстящую ему за свое уродство. Она ведь была как бы его полумертвым близнецом, которого он должен был терпеть, ухаживать за ним, умеющим оправлять лишь естественные надобности. Но об этой стороне жизни он научился не думать, иначе, естественно, давно сошел бы с ума. Его даже забавляли некоторые части той своей половины, на что отец, наоборот, старался не смотреть, отворачивался, краснея, когда мыл их, менял ли катетер. В принципе, хоть он и ненавидел ее, но все-таки в конце концов смирился с ее присутствием и даже сам старался ухаживать за нею, конечно же, из эгоистических соображений, из брезгливости. Понятно, что он не мог не обратить внимания на те слабые сигналы, которые вдруг донеслись до него с той стороны, пусть ему это даже показалось... В это утро он лишь на миг приоткрыл глаза и, убедившись, что небо, как всегда, порозовело, вновь закрыл их, пролежав так почти до вечера. То, что стройка вновь ожила, он мог просто слышать, да и отец постоянно об этом напоминал, живо обсуждая происходящее там поздними вечерами, даже перестав, как ему показалось, пить из-за этого. Его же, наоборот, это почти совсем не трогало... И так повторялось изо дня в день. Он, конечно, открывал глаза, чтобы поесть, сделать зарядку и все необходимое, но при этом старательно прятал их от неба, от солнца и торопился вновь лечь и погрузиться в самосозерцание. Если разобраться, то, скорее, его и привлекало не то, что он пытался узреть в себе, а оно само, возродившееся в нем с новой силой чувство этакого любопытства, жажды ли познания, страсти к неведомому, чем он для себя и оставался, сколько бы ни пытался всматриваться вовнутрь. Оно влекло его, он уже не мог без этого, это дарило его мучительной, но сладкой, распаляющей жажду истомой, которой томился и его мозг, и немного сердце. Нет, ему даже казалось иногда, что именно сердце больше томится этой жаждой. И наиболее сильно он так чувствовал, осознавал ли, когда вдруг начинал вспоминать, что эта жажда в нем вспыхнула после разговора с ней... Каким-то образом она смогла пробудить в нем это, может, тем, что дала ему впервые высказаться, выслушала его, вскрыв плотину переполнивших его, застоявшихся уже мыслей, не находивших до этого выхода. Да, именно так он и пытался объяснить это, привыкнув давать объяснения всему происходящему в своем маленьком мирке, где почти любая мелкая для остальных деталь имела для него огромное значение. Ведь жил он практически только тем, что думал, а поводов для этого у него было не так уж и много, чтобы не ценить каждый из них. Поэтому над некоторой мелочью он мог думать и весь день, и даже значительную часть ночи, пока мысли не начинали путаться. Конечно, мыслить в нашем понимании ему было весьма не просто, поскольку многих слов он не знал, а значение многих вынужден был придумывать сам, что, правда, и давало ему большинство поводов для размышлений, особенно, раньше, когда он впервые прочел ту книгу - вторую после букваря, освоенному благодаря отцу. Сколько отец потом ни пытался продолжить эти начинания, даже вознамерился раз жениться на учительнице, ничего у него не получилось. Та учительница быстро ушла от них и, скорее, из-за самого отца, который не мог избавиться от неких пагубных пристрастий. Но после того он сам на несколько раз и вслух проштудировал букварь, буквально прочувствовав каждое его слово, представлявшееся ему этакой дружной семейкой букв, совершенно не случайно собравшихся вместе. Особое значение он, естественно, придавал буквам, каждая из которых, упорно храня свои секреты, была настоящим творцом, умела созидать множество новых слов. И только на этой основе он и прочел ту вторую книгу, ставшую для него огромнейшим фантастическим миром, и не только потому, что это и была фантастика, а потому что каждое новое слово было для него чем-то абсолютно неведомым, и наполнять его содержанием ему приходилось за счет своей собственной фантазии... А сейчас перед ним вдруг распахнулся мирок совершенно нового содержания, для которого он должен был подобрать подходящие слова, почему это и было для него такой новью, так захватило его. Особенно это влекло его тем, что он как бы создавал не внешний, все-таки слегка призрачный мир, а свой собственный и не менее богатый и таинственный, для которого всех его прежних познаний оказалось не достаточно. Ему не хватало познаний даже для того, чтобы описать, понять те чувства, которые переполняли его по поводу самого этого процесса самосозерцания, доставлявшего ему столько новых ощущений. Он ведь не знал даже, что такое счастье, но иногда из его закрытых глаз лились горячие слезы умиления, хотя сердце его в эти мгновения готово было взорваться, как однажды Вселенная. Да, особенно, когда он вспоминал про нее, пробудившую в нем это... Глава 4 Да-да, это было бы почти так, если бы не то чувство или ощущение тревоги, которое он испытывал по отношению к своей второй половине, слабые сигналы, поступавшие из неизведанности которой, могли свидетельствовать и о чем-то страшном, что могло там происходить, что чаще и ассоциируется с неизвестностью. Разве и наши представления об иных мирах радужны и безмятежны? Не новыми ли, доселе неведомыми, ужасами, бедами они грозят нам из книг, с телеэкранов? Может быть, именно тревога и страх являются непременными спутниками и кредиторами нашего познания, вообще ли мышления, а не просто радостное предчувствие нового? И когда отец неожиданно решился устроить ему банный день среди недели, он охотно, даже с едва скрываемой радостью согласился, в нетерпении ожидая, когда тот его разденет. Он даже не обратил какого-либо внимания и на то, что и мачеха его вдруг тоже вызвалась помогать отцу, постоянно сетуя на то, как он вырос и как теперь отцу это трудно делать одному. Она же помогала приподнимать нижнюю часть его тела, когда отец проталкивал под нее прохладную клеенку, снимал с него брюки. Он не замечал ничего, потому что с напряженным вниманием разглядывал оголяющиеся бедра, бугорок между ними, покрывшийся за последнее время венчиком вьющихся черных волос, который немного смешно перекатывался между ног, когда они его ворочали с бока на бок. Он как-то сразу заподозрил, что эта часть его тела только притворяется такой же безжизненной, как и совершенно недвижные ноги. Ноги почти не изменились за это время, остались такими же худыми, матового цвета с легким синеватым отливом. А эта часть его тела выросла, и вела себя уже не так вяло, а даже и задиристо, упруго убегая от рук отца, неуклюже пытавшегося вынуть оттуда катетер. - Ох, боже, ничего-то ты не можешь, мастер! - насмешливо вдруг сказала мачеха, отодвигая отца плечом. - Что бы вы без нас делали! Иди, принеси воды, а я уж сама... Отец как-то неуверенно покряхтел, потоптался на месте и ушел, а мачеха наклонилась над ним и, не торопясь, начала вынимать катетер, бережно обхватив ту часть его тела рукой. Его даже удивило, с каким заботливым выражением она смотрит на него, как старательно за ним ухаживает. Он не ожидал от нее такого рвения и заботы, почему вдруг даже устыдился своей прежней неприязни к ней. Она все делала совсем иначе, не так, как отец, которому это было словно в тягость, словно он стыдился этого. Осторожно вынув катетер, она не отпустилась сразу, а аккуратно пристроила это между ног, даже придавила чуть ладонью и слегка разворошила венчик слежавшихся волос, совсем без напряжения, как это получалось у отца, хотя тот и скрывал это... - А ты у нас совсем вырос, мальчик, - даже с какой-то лаской сказала она, пристально оглядывая его тело, на которое и сам он впервые смотрел с таким интересом. - Наверно, тебе мешает эта... резинка? Надо чаще ее убирать, отдыхать чтобы... Видно, ей все-таки непросто давалось это внимание, потому что голос ее был слегка напряжен, особенно, когда она вновь взялась за то рукой... - Да, отец, ты совсем разленился, а его надо ведь чаще мыть... Мог бы мне и сказать! Ты только посмотри, какие пролежни! Лето все же... - торопливо начала она высказывать отцу, когда тот пришел с парящим тазиком с водой. Она тут же почти вырвала у него из рук вехотку, кусок мыла и отстранила его к двери, бросив сердито, - а почему шампунь не принес? Чего уж жалеть-то? Не разоримся... Не такие уж нищие, чтоб и это экономить. Неси! Отец на этот раз даже с некоторой радостью, облегченно вздохнув даже, устремился с балкона, бросив на них через плечо пытливый взгляд, но мачеха уже заслонила его, низко склонившись над ним с мылом в руках и тщательно намыливая его ноги, сильными движениями поворачивая его тело с бока на бок. Потом так же тщательно она намылила и всего его, только после этого взявшись за вехотку. Когда она намыливала ему живот, плечи, руки, он почувствовал, какие ласковые, мягкие у нее руки, какое от них исходит тепло. Эти ощущения слегка ошеломили его, и он даже слегка прикрыл глаза... - Да-да, закрой, я тебя сейчас шампунем намылю, - словно чуть запыхавшись говорила мачеха, беря у отца флакон. - Такой тяжелый стал, я даже чуть устала... Ага, ты намоешь, я знаю! Неси еще воды... Голову его покрыло облако пены, и он сильно зажмурился, но только от того, что ему вдруг так хорошо стало. Пальцы ее ласково скользили по нему, потом вдруг пропадали где-то внизу, и он с нетерпением ожидал, когда же они вновь прикоснутся к животу, к лицу. - Так, отец, иди, приготовь чистое белье! Ну, то, что я тебе купила, ему теперь оно пойдет, а я еще куплю... А-то что он все в одном? - доносился до него сквозь облако пены ее голос, тоже ласкавший его своими бархатистыми нотками, как и ее руки, под которыми тело его даже слегка покалывало, словно из пальцев в него постреливали легкие разряды тока. Потом они, скользнув по животу, вновь исчезали, он вновь ждал их прикосновений и даже начал бояться, что все это скоро закончится. Она слово увидела это и спросила его непривычно нежно, - Ты не устал? Ну, тогда я тебя обмою и еще на раз намылю, а-то сколько ж так можно... Вот так, вот уже почти чистенький стал, да хорошенький такой... Да, ты хорошенький, мой мальчик, я и не знала... Отец, неси еще воды и полотенце готовь... И... достань простыни... Нет, я сама! Когда пена сползла с глаз, он широко открыл глаза и почти вцепился взглядом в ее лицо, освещенное блаженной улыбкой. Она ответила ему лишь коротким, но почти обжегшим его взглядом, вновь принявшись его намыливать... - Нет, давай я тебе сначала волосы шампунем намылю, а-то сколько же тебе голову не мыли! - воскликнула она, вдруг ласково потрепав его за щеки, отчего он чуть не расплакался - так ему было хорошо. - Что, мыло попало? Нет, ну, тогда потерпи, я скоро... Вымою, можно будет и по девицам тогда... Руки ее вновь заскользили по нему, лаская каждую клеточку его тела, тщательно разглаживая упругие, напрягшиеся мышцы живота, вновь растворились где-то под ним... Ему даже казалось, что он был покрыт не пеной, а тем незримым облачком их ласки, словно они своими прикосновениями наэлектризовали его... - Уф, ну и устала я! - вдруг глубоко вздохнув, произнесла она и начала щедро смывать его теплой водой из ковша. Он слышал как вода шумной капелью стекает вниз с балкона, шелестя по траве, словно струйки ливня. Ему не хотелось, не было ли сил открыть глаза, прервать это блаженство, но ему хотелось посмотреть на нее, отблагодарить ее хотя бы взглядом. Он даже удивился, какой усталой она выглядела, какими слегка посоловелыми казались ее глаза, с ленцой следующие за ладошкой, смывающей с него остатки пены. Но он так и не мог посмотреть ей в глаза - она прятала их, словно бы высматривала под пальцами что-то. Тогда он взглянул мельком на свое тело и поразился... Оно, особенно его ноги, было совсем иного, молочно-розового, местами даже красноватого, цвета и все парило... Но, главное, ноги показались ему словно живыми, ему страшно захотелось их почувствовать, пошевелить пальцами, лоснящимися чистотой, будто бы светящимися ореолом ее ласки. Он не узнал их, но они вновь были безмолвны... - Все, давай я тебя вытру и одену, - вяло говорила она, тщательно, неторопливо вытирая его большим, махровым полотенцем, отчего по распаренной коже забегали мурашки, потом надевая на него новое, чистое белье, ласково льнущее к разгоряченному, слегка влажному телу. - Ох, боже, я же забыла это!... Тщательно промыв его катетер в тазу, она осторожно вновь приспустила ему штаны и, приподняв из взъерошенного, пышного венчика волос это, начала осторожно вставлять туда тоненькую, красную резинку. - Тебе не больно? - спросила она при этом, с некоторой жалостью добавив, - ты совсем не чувствуешь? Бедненький! Но это ничего, это, может, и лучше, а-то было бы больно... Он теперь такой чистенький... Может, он будет чувствовать, если?... Она не договорила и, окинув его заботливым, пытливым ли, как ему показалось, взглядом, быстро убралась на балконе и ушла в комнату... - Ну, что, сын, это тебе не моя банька, а? - с каким-то не очень естественным задором спросил его отец, словно бы оправдываясь за что-то. - Тебе понравилось?... - Да, очень! Мне очень понравилось! Я не знаю, как ее отблагодарить! - неожиданно многословно и эмоционально ответил тот, даже чуть испугав отца. - Сынок, да какая благодарность?! То, что вы теперь... вот так, так близко стали, да это же самое главное для нас, ведь это!... - затараторил отец, в конце сбившись, словно поперхнувшись неожиданно нахлынувшими слезами, отчего кадык судорожно забегал по его сморщенной шее. - Это ведь куда лучше, чем... Я очень рад! Понимаешь? Да как же... - Все, хватит рассусоливать! - оборвала его вдруг мачеха, появившись в дверях уже в новом, ярко-красном, цветастом платье с подносом в руках, над которым с тарелок поднимался ароматный парок. - Пусть поест и спит, мальчик ведь тоже устал... Еще бы!... Потрепав по щеке, она вдруг быстро наклонилась и поцеловала его в щеку влажными губами. Он едва успел заметить, как по ее слегка морщинистой щеке скользнула маленькая слеза, а она, встрепенувшись вдруг, быстро вышла, так и не посмотрев ему в глаза... Почти мгновенно проглотив невероятно вкусный ужин, он обессилено отвалился на пахнущую свежестью подушку и мигом уснул, не видя, конечно, как мачеха, убирая за ним посуду, кусала свои губы, мокрые от слез, пристально глядя на его безмятежно улыбающееся лицо нежным и чуть виноватым взглядом... Впервые за последнее время от спал так крепко, и только под утро ему вдруг приснилась она. Он почти не помнил сон, и перед самым пробуждением лишь видел, что они были с ней как бы рядом на берегу моря, хотя он никак не мог разглядеть этот берег, видел только расплывчатый край воды, и сам он лежал в воде, а она... мыла его... Он как бы лежал в закрытыми глазами, весь в пене, и только чувствовал на себе ее ласковые пальцы, хотя вроде бы и видел все это чуть со стороны... Ему даже стало почему-то неудобно перед мачехой, так как он и во сне вспомнил, что это она его мыла, хотя он и видел во сне не ее... Поэтому, когда он открыл глаза и увидел перед собой мачеху, стоящую рядом с лежанкой с подносом в руках, то он поймал себя на мысли, что и смотрит на нее виноватым взглядом... Она словно поняла это и как-то заволновалась, неуверенно ставя поднос на стул. - Я тебе котлет нажарила, надоели ведь эти окорочка чертовы, от них все..., - сбивчиво заговорила она, бросая на него отрывистые, молящие взгляды. - Ты, мальчик мой, это... Ну, я хотела сказать, что ты не говорил бы отцу лишний раз, как я..., ну, как тебе хорошо было. Понимаешь, он все думает, что я ему мало внимания уделяю, как бы ревнует, он ведь тоже... Поэтому не говори... ничего. Я ж не виновата, что у нас так все с ним..., что он без работы, на меня будто работает. Это на него действует, вот ему и кажется... - Нет, вы не беспокойтесь, я не буду, - поспешил успокоить он ее, - хотя отец вроде даже рад... - Не говори мне вы, - попросила она неуверенно, коснувшись его руки, - ведь мы же все-таки, ну, почти ведь родные, близкие, хотя только сейчас, вот... Не говори, попробуй... - Да, конечно, я попробую, - с волнением пообещал он, - я сам так хочу! - Вы - это как будто чужому совсем говоришь, - продолжила она, слегка краснея от смущения, - а мне так хочется, ну... Понимаешь, у нас с ним ведь не должно, не может быть детей, поэтому я, наверно, и была такая, хотя ведь на самом-то деле нет!... А вчера мне так было хорошо, словно я... Ох, я совсем заболталась, а мне же на работу надо! Я побегу? Засуетившись, она вновь слегка покраснела, резко наклонилась к нему, сжала его щеки слегка шершавыми ладонями и поцеловала в губы... Глава 5 Он ничего не понимал в происходящих вокруг него изменениях, да и не хотел, словно боялся спугнуть это неожиданно блаженное состояние, ощущение чистоты, которое испытывал с утра. Воздух на балконе был невероятно свеж, рубашка, хоть и помялась во сне, но была суха, не липла к коже, а даже слегка топорщилась на груди, на плечах. От гладкой, даже чуть поскрипывающей под пальцами, кожи исходил легкий, весенний какой-то аромат мыла. Почти неощутимые, легкие волосы вились крупными колечками, образовав большую, пушистую шапку на голове. Ему чудилось, будто он чувствует, как легко сейчас дышится его ногам, одетым в чистые штаны и теплые, вязанные носки. Захотелось даже потормошить их, и он начал слегка приподниматься и опускаться на локтях, двигая немного нижнюю часть тела по гладкой простыне. Потом он снял с себя рубашку, осторожно положил ее на одеяло и, достав из-под лежанки тяжелые железяки, бодро начал делать зарядку, отчего мышцы на его теле вдруг ожили, вздулись, упруго заиграли, перекатываясь под кожей. Но едва лишь выступили первые капли пота, он перестал, ему не хотелось пачкать ни рубашку, ни кожу, и, вытянув вверх руки, он подставил тело прохладным струям утреннего бриза, заглядывающего по пути и на его балкон. В это время в небе разлились вдруг и яркие, прозрачные краски утренней зари, вслед за которыми из-за утеса показалось солнце... Нет, оно показалось на этот раз... из-за стены дома, так неожиданно быстро выросшей за эти дни, что она уже скрывала собой и утес, и большую часть поверхности моря, отчего он и не заметил солнечной дорожки... Но сейчас это его не сильно расстроило, совсем почти не расстроило... Он с интересом рассматривал зубчатый профиль растущей стены, от которой почти до их дома протянулась синеватая тень с зубчатыми же краями, быстро ускользающая в сторону нового дома от стремительно восходящего солнца. Сегодня ему было просто и бездумно хорошо, и не хотелось портить настроение никакими сомнениями, подозрениями. Сегодня у него был праздник, и ничто его не могло омрачить. Он даже улыбнулся старухе, вдруг высунувшейся из-за косяка и подозрительно на него посмотревшей из-под густых, растрепанных бровей. - А чего это ты разлыбился-то? Машка что ли развеселила? - с ехидцей спросила та, поджимая сухие губы в усмешке. - Да! Хорошо... просто, просто так хорошо! - весело ответил он ей. - Может, чаю хочешь? - неожиданно спросила она, даже сама смутившись от такой своей щедрости. - Да... - растерянно согласился и он, не ожидав такого предложения. - Ладно, сейчас налью, - процедила старуха и мигом скрылась за дверью, появившись вновь минут через пять с большой чашкой, над которой вился ароматный парок свежезаваренного чая. Поставив чашку на стул, старуха проворчала что-то себе под нос и, вновь почти спрятавшись за косяком двери, внимательно наблюдала, как он не спеша отхлебывает непривычно горячий напиток, причмокивая от удовольствия. - Ишь, ндравится чистым-то! Давно бы так! Не сидел бы тут бирюком, так давно бы как в масле катался! - бормотала она невнятно, с какой-то все неприязнью, но не замечаемой им. - Она, стерва, падка до этого... А кому ласка не ндравится? А-то раскатают, все им за так подавай! Ага, счас! Под лежач бок - только сена клок. А ты-то хитер, оголец, ишь, раскурчавился весь, прям, и не узнать, мужик будто! Да, так ему и надо, тюне чертову, бревну пустому... Но он не слушал ее не очень понятное ему бормотание, наслаждаясь необычным вкусом душистого, сладковатого чая, хоть и не первой заварки. Он был ужасно благодарен старухе за него, отчего был готов простить ей что угодно, если бы даже знал - что... Едва лишь он, допив чай, поставил на стул чашку, как старуха шустро схватила ее и исчезла за дверью, старательно делая вид, что не слышит его благодарности. Но он и за это был ей признателен. Ему и так было невероятно хорошо, ничего уже не хотелось, что-то еще было бы даже излишним, только рассеяло бы впечатление счастья. Он даже прикрыл створку окна, закрыл глаза, чтобы ничто не спугнуло это, и просто лежал, заложив руки за голову... И когда в дверях вдруг вновь появилась мачеха, он чуть было не подосадовал, но тут же вновь обрадовался ей и широко улыбнулся. Она же казалась озабоченной, глаза ее напряженно бегали под прищуренными ресницами, словно она что-то искала, мельком лишь встречаясь с его широко раскрытым ей навстречу взглядом. - Мне там сказали, что... тебе надо массаж делать... Ногам массаж надо делать, и тогда, может, и улучшение будет, - говорила она торопливо, подходя к нему. - Я тогда... сделаю? Вдруг и правда улучшение будет! Ты только это, ляг прямее, убери это... подушку, то есть. Вот так... Расслабься, прикрой глаза, а я сделаю... Надо тебе расслабиться... Он покорно вытянулся на лежанке, прикрыл блаженно глаза и только чуть улыбался, почувствовал лишь, как с его живота соскользнули мягкие штаны и больше ничего. Нет, он чувствовал, как она склонялась над ним, разминая его ноги, как иногда ее волосы касались его живота, как подрагивала лежанка от ее усилий, но больше ничего... - Ты ничего так и не почувствовал? - спросила она вдруг его с какой-то озабоченностью, с надеждой ли. - Нет, - с неохотой признался он, так ему не хотелось ее огорчать. - Но это же не сразу, - как-то устало, успокаивая ли его, произнесла она, прикрывая его ноги одеялом. - Это надо чаще делать, и вдруг поможет! Ведь бывает же, наверное, что излечивается! Надо лишь верить... Ты веришь мне? - Да, - прошептал он признательно, стараясь незаметно стереть слезы с глаз. - А почему ты плачешь? - взволнованно, испуганно как-то спросила она, внимательно глядя ему прямо в глаза светящимся изнутри взглядом и вороша рукой его волосы. - Потому что мне... очень хорошо, - тихо ответил он, глядя на нее сквозь влажную, радужную пелену. - Мне тоже... хорошо из-за этого, - прошептала и она, склонившись лицом к нему на грудь, прижимаясь к нему щекой. - У меня ведь не было... сына, ребенка, а теперь я... Мне так хорошо теперь, только ты... - Что? - спросил он тихо. - Не говори отцу, что я за тобой ухаживаю... вот так, - попросила она взволнованно, - он ведь тоже старался, но разве он мог бы за тобой... по настоящему ухаживать? Вот, он и ревнует как бы... Не говори ему! - Я ничего ему не говорил... никогда, - тихо признался он, осторожно вдруг погладив рукой по ее волосам, отчего она еще сильнее прижалась щекой к его груди, обхватила его руками и будто замерла. У него же и у самого всю ладонь словно током пронизывало от этого прикосновения... - Мне бежать надо! - будто испуганно воскликнула она, резко вставая. - Я ведь по делу шла, но не могла не зайти... Я хочу, чтобы ты выздоровел... Не говори только... Он не обманывал ее - он давно уже ничего не говорил отцу, потому что тот вообще не понимал его и словно бы пропускал слова мимо ушей, говоря только о своем. Он же, хоть и слушал отца, но тоже не особо вникал в суть его разговора или не мог уловить ее. Отец всегда говорил какими-то обиняками, недомолвками, будто сам был не уверен в том, что хотел высказать, словно передумывал на полуслове. Всколыхнувшись вроде бы после того их протеста против стройки, он на третий день уже вновь погас, потерял вновь уверенность, интерес к этому и еще больше сник, может, из-за того как раз, что не нашел отзвука в нем, ради кого вроде бы и хотел пойти даже на отчаянный шаг. Он ведь не знал, отчего сын не отреагировал на это, к тому же, привыкнув уже не реагировать. Ему даже показалось, что отец испугался бы, что он вообще отреагирует правильно, вообще отреагирует. Он понимал, что отец мог, привык ли, жить только незаметно, только намереваясь что-то сделать... Он и не хотел никому об этом говорить, потому что опять же боялся спугнуть это, предчувствуя, что кто-то посторонний может все разрушить неосторожным словом, поступком. А он и сам еще даже не успел свыкнуться с мыслью, поверить ли, что у него вновь появилась мама, пусть и не родная как бы, хотя он не понимал совсем, в чем же тут было различие. Ему ведь просто не хватало чьей-то ласки, заботы, чьего-то внимания. А она ему дала это, пусть даже так поздно, но, может быть, как раз тогда, когда он и мог только это оценить. Может быть, раньше он и не принял бы этого, навсегда отпугнув ее, отомстив ей, той? Может, она чувствовала это, почему почти и не заходила к нему на балкон в иные минуты, кроме тех, которые и он не вспоминал? Иных объяснений у него не было, да он и не искал их - ему просто хотелось оправдать, удержать ли свое счастье, так нежданно выпавшее ему... Поздно вечером она вновь сделала ему массаж ног, за чем внимательно и, впрямь, как-то ревностно наблюдал неотрывно отец, постоянно, высокомерно даже, бросая какие-то замечания. - Ну, тут надо бы посильнее руки! У тебя ж пальцы слабее, я-то привык руками работать! Может, мне было бы лучше делать? - бурчал он не очень уверенно. - Мышцы надо ж размять, надо со всех сторон размять... - Нет, мне, наоборот, сказали, что нельзя сильно делать, что можно навредить, - возражала она спокойно, поглядывая с улыбкой на него, словно искала у него поддержки. - Мышцы ж у него не чувствуют, не могут сопротивляться, почему и можно навредить только... - Так, я тоже могу легонько, но у меня ж руки не устанут, как у тебя, - продолжал настойчиво отец, отслеживая взглядом каждое ее движение. - Ну, ты тоже сможешь делать, когда я не смогу, всякое может случиться, - пыталась она успокоить отца, - только меня-то раньше учили этому немного, ну, на курсах, то есть. Это же не просто так - взял и мни себе ноги? Надо ж знать хотя бы анатомию... - На каких таких курсах? - допытывался въедливо отец. - Медсестер, - спокойно отвечала мачеха, тщательно, но осторожно поглаживая ему пальцы бесчувственных ног. - Я ведь училась на медсестру... недолго, правда. Но, если бы не это все, то доучилась бы. А сейчас, кстати, массажистки неплохо зарабатывают... - Конечно! Еще чего не хватало! - сердито возразил отец. - Знаем мы, чем они зарабатывают! Это только пишут так, а на самом деле... - Хватит! - резко оборвала она отца, сверкнув взглядом и вновь улыбнулась ему, отчего глаза ее засветились добрым, теплым светом. - Слушай, медбрат, ты бы лучше ужин посмотрел, а то... - Ну да! - буркнул отец и вдруг высунулся через окно на улицу, внимательно разглядывая новостройку. - Черти, ишь, как развернулись, раньше бы так, на нас бы так работали! Такие развалюхи ляпали, а тут, прям, дворец мастерят! Для кого только! - Кто заплатить может, - с некоторым укором пояснила мачеха, - а не только ворчать. - Ладно, пойду посмотрю, - обиженно стушевался отец и нехотя вышел с балкона. - Завтра я тебе лучше сделаю, а то... я, правда, днем так устаю, столько этого мерзлого мяса перелопатишь за день, что пальцы аж сводит... Не холодные? - совсем другим, доверительным тоном заговорила она с ним, принявшись разглаживать его ноги во всю длину, даже слегка касаясь пальцами живота. - Нет, горячие, - ответил он ей, преданно смотря в ее темные, подведенные тушью глаза, из которых на него изливалось тепло ее ласки и заботы. Ему тоже хотелось сделать ей что-нибудь хорошее. - Если у тебя замерзнут руки, то я тоже... могу согреть их, сделать массаж... - Ладно, если замерзнут, то сделаешь, - согласилась она, погладив его волосы и вставая. - Сейчас я тебя накормлю. Ты так ничего и не чувствовал? - Нет, - начал он было, но тут же поправился, так ему хотелось сделать ей что-нибудь приятное, - но немножко что-то чувствовал, совсем немножко... Когда здесь, вот, делаешь... - Хорошо, я верю, что все получится, - весело сказала она и, похлопав его по животу, вышла. Ужин ему принес отец и, присев на край лежанки, хмуро поглядывал на него, пока тот с удовольствием, ничего почти не замечая, ел, выуживая из тарелки горячие кусочки мяса, сладко обжигающего губы. - Да нет, сын, я даже рад очень, что она наконец-то... признала как бы тебя. Только вот... ну, как бы еще не верю что ли, - оправдывался перед ним отец, тоже истомившись молчанием. - Не верю я им, понимаешь. Как тогда мать ушла, так я и не верю... Хотя ты, это, говорить им об этом нельзя, понял? Они не поймут нас, все на свой лад переиначат. Поэтому ты не верь особо и молчи. А так я, конечно, все равно рад... И ему вдруг стало нестерпимо жалко отца... Только сейчас он рассмотрел, как тот сильно постарел, осунулся, каким морщинистым, посеревшим стало его лицо, когда-то вечно улыбающееся. А сейчас он поглядывал на него слово затравленный зверек, словно боялся обжечься взглядом о чье-то презрение. Рубашка на отце была помята, почти совсем седые волосы - не расчесаны, щетина на щеках и, особенно, на шее была плохо выбрита, хотя из-за этого лицо его все равно не становилось чужим, неприятным, вызывая только добрую жалость... - Пап, поешь со мной? - вдруг попросил он отца, протягивая ему кусок мясо на вилке. - Ты же раньше ел со мной... - Ты что, помнишь что ли? - удивленно спросил отец, осторожно беря губами мясо с вилки и уставившись на него округленными глазами. - Я все помню, конечно, - пожал он плечами и вновь протянул отцу мясо. - С того дня, как ушла мама, я все помню... - А я, вот, и не хотел бы все это помнить, - сказал тихо отец и вдруг резко отвернулся. - Мне ведь даже стыдно теперь, сынок, все это вспоминать... Тебе, может, сравнить-то не с чем, так ты и помнишь иначе, а ведь мне-то есть с чем, понимаешь? У меня-то все равно же не так было, хоть и своего... хватало. В детстве, то есть... Потом-то все повалилось, конечно. Потом-то и мне уже стало... Но все равно... Прости меня! Сказав это, он взял дрожащей рукой пустую уже тарелку и молча вышел с балкона, больше не появляясь. - Спокойной ночи, мальчик мой, - услышал лишь он, почувствовав на губах ее поцелуй. - Ты папу тоже... пожалей! - взволнованно зашептал он на ухо мачехе, крепко обняв ее за шею и прижавшись к ней щекой. - Он ведь тоже хороший... - Хорошо, хорошо, - шепотом ответила она, целуя его горячими губами в шею и вороша его волосы пальцами. - Я ведь его тоже,... как тебя, так же, как тебя, люблю, прощаю ему... Да, я тебя люблю и его ведь тоже, мальчик мой хороший... Ты веришь, что я тебя люблю? - Да, верю, - шептал он ей на ухо признательно, - и я вас люблю. Я так рад, что я теперь люблю... Тебя люблю, да... Я даже не знал, что это такое, а теперь знаю... Можно, я буду звать тебя мамой? - Да, - неуверенно как-то прошептала она, но тут же добавила, - можно, конечно, можно. Зови меня, милый, мамой, зови меня просто Машей, мне это все так приятно... - Да, мама, - тихо прошептал он, добавив, - хорошо, Маша... Это так похоже! - Ну, спи, мой хороший, - прошептала она и вдруг вновь крепко поцеловала его в губы. Потом, расцеловав его мокрые глаза, она поправила на нем одеяло и торопливо вышла с балкона. Он же все еще чувствовал на своих губах ее поцелуй, так они сладко постанывали, слегка вздрагивая от вдруг пронзающих их импульсов щекочущего тока... Ему, правда, казалось, что он понял наконец, что же означало это загадочное слово "любовь", которое он часто встречал в той книге, но где оно все-таки было каким-то холодным, как-то мимоходом проскальзывало в тексте, без всякой связи с остальным содержанием. А сейчас от него даже чуть кружилась голова, где эхом звучали его мягкие нотки. Он еще долго произносил про себя это слово, наслаждаясь его звуками, отзвуками их в сердце, докуда доносилось их эхо... Глава 6 Но и сегодня ему вновь снилась не мачеха, то есть, не мама, а она. Она как-то осторожно, едва касаясь целовала его в губы и только издалека, из вечности, гладила его волосы, печально улыбаясь ему. И так печальной иногда казалась улыбка, что ему даже жалко ее стало, а сердце так защемило, что он проснулся от этого... - О, да, нас не узнать! - услышал он вдруг знакомый голос, с удивлением увидев перед собой Вику в белом халате и поняв, что он проспал и восход солнца и то, когда родители ушли, оставив ему завтрак на стульчике. Вика же продолжала ворковать, с удивлением разглядывая его, - понятно, теперь-то мне все понятно... Вот, мы, оказывается, какие, и не поверишь, что больной даже! Так-так, как же у нас дела, а, больной наш? Давай-ка посмотрим, посмотрим... Какая у нас рубашечка-то, а волосики-то, волосики! Кто это нам их завил, а, больным-то!? Ну, прямо ангелочек! Говоря это, она бросила ему на ноги свою сумочку, достала из нее термометр и села на лежанку, слегка подвинув его к стенке. Прохладными пальцами она расстегнула пуговицы и сунула ему за пазуху свою тонкую ручку, осторожно пристраивая термометр под мышкой. - И как же ты чувствовал себя все это время, пока меня не было? - спросила она милым голосом, положив ему ладошку на лоб и внимательно глядя в глаза. - Ничего не болело? Ни на что не жалуемся? - Нет, - признался он, привычно подчиняясь ей. - Вы уже выздоровели? - Ах, это?! - воскликнула она. - Ты, наверно, другое хотел спросить? Да? - Да, - смутился он. - Ну, так, она ушла, - немного с раздражением сказала Вика, - совсем ушла. Теперь ты только мой... пациент, вот так. И чего она про меня нам тут наговорила? - Она сказала, что ты будешь хорошим врачом, - серьезно ответил он. - Серьезно? Что ж, она права, - с довольной усмешкой согласилась Вика. - Так, тогда мы и начнем. Она ж меня надоумила...Меня как раз и научили спецмассажу, и мы его и попробуем... Это лучше всяких таблеток, уколов и прочего... - Мне... ну, мама делала уже... массаж, - признался он, немного смутившись. - Даже так?! А что же мы тогда так напряглись? - спросила Вика как бы обиженно, но потом вдруг словно бы передумала, словно бы решилась на что-то, так засветились ее глаза. - Понятно, понятно... Тогда это тебе не вновь... У нас, конечно, не самопал, а настоящий, целебный массаж... Так, температурка у нас нормальная... Ну, как у нас тут ножки поживают?... Она спрятала термометр в сумку, повесила ее на спинку стула и, немного отодвинувшись, быстрым движением, приподняв его тело одной рукой, приспустила штаны... Взгляд ее и то, как она вдруг прикусила губу - все это даже слегка испугало его, насторожило, и он сжался. - Что ты?! Испугался? - скованно засмеялась она, бросив на него рассеянный слегка взгляд. - Успокойся! Все как раз наоборот, даже лучше, чем я ожидала. Кто же это нас так помыл? Мачеха? Чувствуется... Хорошо... И мне бы водички... Сейчас бабку твою попрошу... Прикрыв его одеялом, она вышла с балкона и вскоре вернулась с ковшом, закрыв за собой дверь. - Бабушка наша отдыхают, и хорошо... - разговаривала она словно сама с собой, немного скованными движениями ставя опять ковш на стул, снимая вновь одеяло и вынимая катетер. - Так, тебе лучше прямо лечь... Давай, я уберу подушку... Вот так... Положи так руки, не смотри... Я кое-что новое попробую сделать, и это поможет... Я там попробую... Только ты не волнуйся, не надувай губки... Они такие мягкие... Улыбнись, вот так! Молодец... Чувствуешь что-нибудь? Нет? Ну, ничего, пока это нормально... Ему же казалось, что он почти чувствует, как ее пальцы касаются его тела. Ему этого очень хотелось, и он даже от легкого напряжения закрыл глаза и пытался уловить хоть малейший сигнал из той своей половины, над которой сейчас склонилась Вика... Но та половина его была абсолютно безмолвна, равнодушно позволяя делать с собой все, что угодно. Он же понимал, как Вика старается, пытаясь своими женскими, слабыми ручками, помогая им всем своим хрупким телом, разбудить ту его половину, возродить ее к жизни, чему он мог помочь одним только страстным желанием... - Ничего, - уверенно, но учащенно дыша, сказала вдруг Вика, склонившись уже над его лицом так, что ее похожие на угольки глаза были совсем близко, и он ощущал на себе ее горячее дыхание, - это только начало. У нас должно все получиться, если сильно хотеть, если верить... Ты веришь... мне? - Да, очень верю, - сказал он, признательно глядя в ее глаза, которые, казалось, улыбались ему. - И правильно, малыш. Тогда я постараюсь приходить почаще, и мы с тобой... всего добьемся, - уверенно говорила она, внимательно глядя ему в глаза, словно гипнотизировала его. - А теперь я вновь поставлю эту штучку в него и... Нет, лежи так... Вот, какой он послушный, малыш мой... Молодец... Скоро мы все будем чувствовать... Она одела его, укрыла вновь одеялом и вновь вдруг склонилась над ним. - Так, лобик у нас прохладненький... И, вот еще что... Она просила передать тебе поцелуй, - сказала она и вдруг крепко впилась в него своими влажными губами, слегка даже покусывая его губы, сладко занывшие от немного знакомых уже ощущений... Грудью он чувствовал прикосновение ее груди, мягкой и вздымающейся от глубоких вдохов. Поцелуй ее был таким сладким, но все это показалось ему странным, не понятным. Голос ее он слышал словно издалека, словно это уже и не она говорила. - Да, она меня именно так и попросила тебя поцеловать... Тебе приятно? - Да, - шепотом признался он, напряженно глядя, как ее горящие глаза вновь приближаются к нему, как распахиваются ее алые, слегка влажные губы. - Мне тоже, - шепнула она и вновь впилась в него, отчего его губы пронзила вначале сильная боль, сразу же растекшаяся по телу сладкой истомой. Она же в этот раз легла на него всем телом, жар которого побежал в него горячей волной, захлестывая его дыхание. Он ничего не понимал, но ему стало невероятно хорошо, голова его кружилась, тело вдруг стало почти невесомым, он чувствовал лишь, как оно переполняется ее мечущимся по нему огнем... - Ой, какой ты милый, я ее так понимаю, - со вздохом говорила она, оправляя на себе белый халатик и с нежностью глядя на него. - Только ничего не говори им, маме особенно! Пусть она тоже делает массаж, это не страшно, это даже полезно. А-то она еще заревнует, мамы они же такие, сами все хотят делать... А я к тебе буду часто приходить... Может, потом и она придет, но я не знаю... Пока! Теперь она стала приходить к нему почти каждый день, рано утром, вслед за солнцем, едва родители уходили на работу. - Днем столько вызовов, что я с ног падаю и вряд ли смогу тебе сделать настоящий массаж, - оправдывала она свои ранние визиты, торопливо раздевая его. Потом она умолкала, с головой уходя в работу, а он терпеливо ждал, когда она вновь навалится на него своим разгоряченным телом, прижмется мягкой, вздымающейся грудью и начнет, весело похихикивая, целовать его, обязательно приговаривая, - учти, все эти поцелуи я передаю тебе от нее, и ты можешь тоже ей передать... - А как ты ей передаешь? Ты встречаешься с ней? - наивно спрашивал он, преданно глядя в ее распахнутые глаза. - Вот так! - немного сердито отвечала она, вдруг с силой впиваясь в его губы, отчего те пронзала сладкая боль, надолго остающаяся после ее ухода. Ей, вроде, даже нравилось на него сердиться, как будто это придавало ей дополнительные силы, решимость ли. Иногда из-за этого к ней даже приходило второе дыхание, и она еще раз делала ему массаж перед уходом. Он ничего не чувствовал при этом, изо всех сил веря, что это должно помочь ему... После ее ухода он подолгу лежал неподвижно и, наслаждаясь болью в губах, пытался представить себе чем-то подобным и долгожданный результат, мысленно убеждая себя в его неизбежности, хотя и не осознавал отчетливо, в чем же он будет заключаться. Ноги его были безответны... Днем обязательно забегала, иногда совсем ненадолго, мачеха и тоже делала ему массаж, потом целовала его долгими, мягкими поцелуями, после которых оставался лишь терпкий привкус ее губ, а также запах духов и какого-то крема... - Милый мой мальчик, - устало, иногда совсем обессилено припадая к его груди, шептала она, - когда же ты наконец встанешь? Мне бы так этого хотелось... дождаться! Ты не представляешь, как я устаю, как мне тяжело все это нести на себе! Но ты и сейчас уже вселяешь в меня какую-то уверенность даже, даешь мне силы... Да-да, хоть я устаю от этого, от массажа, то есть, но меня это все равно ужасно бодрит, потом я будто вновь пробуждаюсь от сладкого сна отдохнувшей, но все равно... - А почему ты не отдохнешь? Разве нельзя прерваться... хоть на неделю? - спрашивал он ее, заботливо гладя по завитым теперь каждый день волосам, в корнях которых иногда замечал упрямо растущую седину. - Я только и мечтаю об этом! - восклицала она, но тут же угасала, оправдываясь и перед самой собой, - но это невозможно... Отец сам ничего не сможет, и нам тут же найдут замену. Если бы я стала хозяйкой, хотя... Наш хозяин, хоть и богаче нас намного, но тоже мелкий, тоже пашет с утра до ночи, иногда лишь отрываясь... Ну, когда сорвется вдруг, запьет, то есть. Но разве это отдых? Отдых - это когда, например, с тобой куда-нибудь бы уехать, где никого бы не было - только я и... мой сынок. Еще недавно я только и мечтала остаться хоть на недельку в полном одиночестве, чтобы никому ничем не быть обязанной и просто отваляться, просто лежать и ничего не делать, совсем ничего. Теперь я хотела бы с тобой... Я не хотела бы без тебя. Но сейчас уйти в отпуск можно, только потеряв работу. А какая на отца надежда? Но так хочется!... - Возьми и сорвись тоже, но не так, конечно, хотя какая разница! - наивно советовал он ей. - Если я сорвусь, то это уже навсегда! - со смехом восклицала она, вновь целуя его. - Но теперь у меня есть то, из-за чего я должна держаться! Знаешь, у меня словно бы смысл жизни появился. Я будто бы поняла, зачем я все это терплю, ради чего выматываюсь так днями. Сейчас мне вдруг захотелось, чтобы это уже никогда не кончалось... Я так люблю тебя, мой мальчик!... А вот он, наоборот, спустя несколько недель, когда восходы солнца уже стали заметно позднее, все больше и больше сомневался в реальности результата, так и не осознав смысла всего этого. Да, каждый день с самого утра он со все большим нетерпением ожидал вначале Вику, потом - мачеху, после чего ждал, когда они закончат массаж и начнут целовать его, так как их поцелуи ему очень нравились. Они совершенно были не похожи, как и губы их, глаза их, лица, но они пробуждали в нем какую-то страсть, некую сильную жажду... Но утолить ее, увы, они так и не могли, а только распаляли все больше, только подогревали его ожидания... Он-то как раз, привыкнув рассуждать обо всем, не мог уловить смысла во всем этом. Он ждал их с нетерпением, иногда даже злясь потихоньку, особенно, когда мачеха вдруг несколько раз не пришла днем, а потом вообще пропала на несколько дней. Но, когда они уходили, он в растерянности ломал голову: зачем же он так ждал их, для чего они приходили к нему? И не мог понять этого. И все стало каким-то бессмысленным, ненужным, кроме, пожалуй, самого ожидания. Он не понимал во всем этом одного: а зачем он здесь, зачем вообще та его вторая половина, которой уделяется так много внимания, но совершенно попусту? После того разговора с мачехой он даже подумал, что, в принципе-то, он имеет то, о чем так мечтала она: он почти всю жизнь вот так вот валяется себе, бездельничая, ничего ради этого не делая, но это ведь как раз и было самым бессмысленным в его жизни! Перед ним все чаще и все назойливее вставал вопрос: зачем я, для чего? И он не находил на него ответа, что очень его угнетало. Может быть, если бы он, как и мачеха, стремился хотя бы к этому, то он увидел бы смысл в своем нынешнем положении... Но даже к этому ему не надо было стремиться, к тому же, он знал, прекрасно знал, что это такое. Даже пьянство отца, который опять стал напиваться каждый вечер, пользуясь тем, что мачеха вдруг перестала ругать его за это, и то казалось ему каким-то осмысленным, понятным...Или из-за таких мыслей, или из-за долгого ожидания их прихода, но дни и ночи стали для него невыносимо долгими, пустыми... Глава 7 Первое утро осени его совсем выбило из колеи. Заслышав вдруг звонкий ребячий щебет, он выглянул с балкона и увидел стайку счастливых первоклашек, чуть свет спешащих на свой первый в жизни урок. Он знал, что это такое, знал, то есть, что был лишен этого в свое время, почему сразу же отвернулся, пытаясь найти поддержку у солнца, главного своего учителя... Он во всем доверялся ему! И вдруг он только и заметил, что его не было! Стена нового дома закрыла собой почти половину небосвода и всю поверхность моря... Из-за нее выглядывало только легкое крылышко едва розового восхода, ставшего таким похожим на закат. Он поджидал до этого Вику, почему постарался сразу же отвлечься от запоздало нахлынувших на него впечатлений и откинулся на свою лежанку... К счастью, Вика не заставила себя долго ждать. Она почти вбежала на балкон с маленьким букетом цветов и, протянув их ему, заворковала... - Это тебе, мой... ученик! Да нет, нет, это сестренка сегодня пошла в школу, вот, я у нее и отщипнула чуть... Я не могла тебя не поздравить... Тебе грустно? - удивленно вдруг спросила она, в задумчивости посмотрев на него, осторожно трогающего лепестки цветов, и перестала расстегивать легкий плащик, который впервые надела сегодня. - Немного, - признался он, с какой-то надеждой улыбаясь ей сквозь цветы. - Ну, ничего, я тебя развеселю, - успокоила она его и, решительно сняв с себя плащик, склонилась над ним, быстро его раздевая. - Тебе не холодно? На улице сегодня уже прохладно. - Нет, мне даже зимой совсем не холодно, - скромно признался он, - иногда даже жарко... - Да, ты же у нас... настоящий мужчина, закаленный, матерый северный волк! Так, и как тут наша... опухоль поживает? - весело вдруг сказала она, осторожно вынув катетер и взяв крепко в руку ту его штучку, которую назвала этим, не известным ему, словом. Улыбаясь ему, она начала словно бы играть ею, вдруг даже поцеловав ее несколько раз. - А что означает слово... опухоль? - удивленно спросил он, потому что слово то показалось ему несколько странным. - Да, просто... - проговорила она, вдруг уставившись в него своими широко раскрытыми глазами, в которых он прочел нечто похожее на удивление, даже на печаль. - Какой ты и, вправду, у меня первоклашка еще! Боже, если бы я только знала, то, может, у нас бы с тобой все иначе могло получиться! Нет-нет, у тебя-то и так может, а, вот, у меня иначе не получится уже... Учительница! Врач! Как я ее все же неправильно поняла... Ладно, ладно, это я просто так! Не обращай внимания! Сестренке просто сегодня позавидовала, памяти своей позавидовала. Все ведь могло бы получиться иначе, если бы... Но нет этих если! Не бывает! Все, хватит!... А, про то слово... Хочешь, я покажу тебе, чем ты, мужчина, от меня, от женщины, отличаешься? - Да, - согласился он, и так уже почти не узнавая ее сегодня. - Нет, сегодня не закрывай глаза! Тебе надо делать все же настоящий, эротический массаж, а не эти припарки! - решительно говорила она, стараясь не глядеть ему в глаза и торопливо, плохо слушающимися пальцами расстегивая халатик, под которым... ничего не было. Нет, наоборот, он вдруг столько увидел под ним нового, небывалого просто... Она же, задернув перед этим шторки на балконных и комнатных окнах, которые повесила здесь мачеха, вдруг широко распахнула полы халатика и, высоко подняв голову, слегка наклонилась к нему, словно давала ему возможность рассмотреть всю себя... Он поразился, восхитился ли увиденным. Он знал уже, какие мягкие и горячие были эти выпуклости на ее груди, но не подозревал, что они такие красивые, округлые, так похожи на солнышки... Он не умел рисовать, почти совсем не видел никаких картин, но его сразу же очаровала гармония ее линий и форм, плавно переходящих от шеи через впадинку между этими солнечными холмиками к долине животика, вздымаясь слегка на бедрах и... таинственно исчезая там, в рощице пушистых, таких же почти, как у него, черных волос... Но рощица та была пуста и слегка колыхалась от ее учащенного дыхания, волны которого пробегали от груди, вздымая слегка округлый живот, и гасли там, куда указывал этот черный наконечник, венчающий собой стрелы любви, о которых он ничего не знал... - У тебя нет этой... опухоли, как ты сказала!? - почти изумленно, с непонятным волнением спросил он, не отрывая глаз от бездны, где все исчезало. - Видишь, ты сразу все понял, - прерывистым голосом произнесла она, медленно ложась на него всем телом. - Там нет ничего, но там может исчезнуть и твоя, и ты весь... Видишь, как она там исчезает? Теперь и у тебя нет... У тебя, зато, нет моих грудок, вот этих... Они так сладки! Ты не помнишь? Глупый... Хочешь попробовать? Губками... Поцелуй их, их все детки любят целовать... Господи!... Она стала часто дышать и уже не могла из-за этого говорить, только чуть постанывала. Тело же ее горячими волнами колыхалось на нем, обжигая его грудь, живот пылающими прикосновениями, разжигая в нем знакомую уже жажду поцелуев, но только намного более сильную и нестерпимую. Он просто запылал весь изнутри, в нем словно полыхало горячее, иссушающее солнце, отчего кровь будто закипела... Жар солнца вновь переметнулся к его пересохшим губам, когда она впилась в них страстным поцелуем, даже не губами, а зубами целуя их... Из груди ее донесся глухой стон, почти сдавленный крик, поцелуй вдруг ослабел и она упала на него всем телом... Жар в нем не погас, но словно бы замер в ожидании дождя, и он лишь с облегчением почувствовал, как его саднящие от зноя губы покрылись вдруг солоноватой влагой... Все произошло быстро, сменившись вновь бесконечным ожиданием... - Теперь я все сделала по-настоящему... - шептала она, прижимаясь к нему горячей щекой и гладя его рукой, - почти по-настоящему... Ты же почувствовал? Я сама знаю, что почувствовал... И ты понял, чем я от тебя отличаюсь? Я это очень, все равно очень поняла... Даже жаль, что так поздно я поняла... Все ведь остальное и не так важно... Тебе хорошо? - Да, - признался он, хотя жар все еще душил его, метался внутри, не находя выхода. - Никуда бы не уходила, - тихо прошептала она, и он почувствовал, как ее щечка увлажнилась. - Ведь все могло бы получиться по-настоящему, не как игра какая-то... Неужели надо уходить? Ты бы хотел, чтобы я осталась навсегда? Ну, насовсем, только с тобой была... Не отвечай, это же ничего не изменит... - Я не знаю, про что ты говоришь, - отвечал он, гладя ее по волосам, рассыпавшимся по его плечам, по лицу. - Понимаешь, у меня как будто нет этого... потом, всегда... Я не могу его осознать... Есть только сейчас и еще... ожидание этого сейчас, а больше ничего... - Я так и думала, - с какой-то усталой горечью прервала она его. - В этом и вся беда... Моя беда. Но я сама виновата, а обманывать себя не хочу, это плохо кончится... Но я сама виновата, я совсем не таким тебя представила вначале... Все могло бы случиться иначе... Но мне и так хорошо... Сказав это она вдруг соскользнула с него, достала из своей сумки легкое платьице и, улыбаясь, надела его, потом свой халатик, застегнув его на все пуговицы. - Не смотри так печально, я тебе еще покажу себя... Мне нравится, как ты смотришь на меня. Я красивая? - спросила она, легким поцелуем прикоснувшись к его губам. - Да, я теперь знаю, что такое - красивая, - с нескрываемым восхищением прошептал он, отвечая ей на поцелуй. - Я тебе губку прокусила! - с жалостью сказала она, погладив его и присела на лежанку, медленно завершая все процедуры. - Но это не смертельно. Мужчины сильнее кусают нас, да-да... Но ты меня... пожалел. Нет, это я просто так... Я, наверное, пойду... Я ведь так опоздала! Но я приду, ты жди... пожалуйста! Поцеловав его еще раз она открыла на окнах шторки и быстро ушла, оставив его в еще более непереносимом ожидании и смятении... Он ведь понял, чем отличается от нее, но думал сейчас о другом - о том, что он отличается, видимо, и от всех остальных. И это отличие его не радовало, не обнадеживало и оно было каким-то безысходным, в нем, то есть, и крылась эта безысходность. Нет, он и раньше знал о своем отличие от остальных, но такими же разными казались ему и все они, и в этом он не видел чего-то принципиального, главного. Сейчас же присутствующее в нем, но не осязаемое, незримое отличие от остальных определяло и всю его жизнь, делая ее как раз и бессмысленной. Он только лишь догадывался, осознавал по ассоциации, что его жизнь пуста, как и его вторая половина, в которой вдруг обрывается, исчезает ли его тело, его сущность, его мысли, его чувства, устремления, обращаясь в ничто. Это ничто, пустота были в нем самом, не имеющем завершения, результата. Он и был этим ничто, заражая собой и других... Да-да, ведь и Вика не увидела возможного продолжения, она ведь только пыталась обмануть себя, что все могло быть иначе, но, как ему отчетливо показалось, она пыталась убедить себя в том, что вообще что-то могло быть, вообще быть... Ему не хотелось верить этим мыслям, этим выводам и он с нетерпением поджидал мачеху, чтобы попробовать разубедить себя, увидеть ли возможность этого... Сегодня она, наконец, пришла, но он не узнал ее. Нет, он и раньше, когда стал к ней присматриваться, замечал, что она немного меняется, лицо ее худеет, кожа приобретает какой-то оттенок, но сейчас к нему словно другая женщина вошла и, слегка пошатнувшись, присела на лежанку, улыбаясь ему радостной, но какой-то виноватой улыбкой. - Ты ждал меня? - тихо спросила она, гладя его лицо, плечи, волосы. - Да! Очень! Где ты была? Ты наконец-то сорвалась? - со скрытой надеждой спросил он, хотя видел, что она вернулась не с отдыха. - Наверно... - с горькой усмешкой ответила она, - как ни держалась, а все же сорвалась. Ты скучал без меня? - Я и сейчас скучаю, - тихо признался он, - ведь ты словно еще не вернулась. Ты словно еще не вошла, а только собираешься... - А мне кажется, что я уже ухожу, - потупив глаза, ответила она, но вдруг улыбнулась, резко приподняла заострившийся подбородок и с вызовом даже посмотрела на него. - Но я не уйду. Никогда! Я слишком люблю тебя, мой мальчик, чтобы уйти... Я не сильно страшная?... - Нет! - воскликнул он громко, даже испугавшись ее вопроса. - Ты такая же как всегда... - Спасибо, это сейчас для меня самый лучший комплимент, - вновь прибодрилась она, осторожно целуя его в губы. - Ты соскучился по моему массажу, за тобой никто не ухаживал? Я тебе сейчас все сделаю, я ведь сегодня не работаю... - Я хочу, чтобы ты легла на меня, ну, совсем без этого... - попросил он вдруг, расстегивая ей халат. - Да? - слегка изумленно спросила она, но вдруг и сама начала ему помогать, оживившись. - Я тоже так хочу! Мне так холодно, я хочу, чтобы ты меня согрел, сердце твое согрело, оно такое горячее!... Она склонилась над ним в расстегнутом халате, снимая с него штаны, рубашку. Он впервые увидел ее тело... Оно разительно отличалось от Викиного... Оно было слегка желтоватого цвета, худым, каким-то угловатым, хотя в нем тоже угадывались все те же линии и формы, там же таинственно исчезающие. Она, словно бы поняла это, вдруг быстро легла на него, прижалась к нему всем телом, слегка вздрагивая и застонав... - Боже, как же хорошо! - едва услышал он ее взволнованный шепот, - я уже думала, что никогда... - А у тебя тоже нет этой... опухоли, - с улыбкой сказал вдруг он, погладив ее по голове. Но от слов его или от этого прикосновения она вдруг резко вздрогнула и неожиданно села на лежанку, запахнув полы халата. - Откуда ты узнал?! - резко спросила она, испуганно глядя на него. - Ну, мне так Вика... сказала, - растерянно признался он. - Вот, стерва! - зло бросила она, кусая свои губы. - Как она посмела! - Но ведь тут нет ничего такого? - начал он ее успокаивать, взяв за руку. - Этим ведь ты и отличаешься от меня? Ну, вот этим, потрогай ее... Ты ведь любишь ее трогать, потому что... у тебя нет ее?... - Господи! Так ты про это спросил?! - с каким-то облегчением воскликнула она и бросилась на него всем телом, целуя его грудь, шею, плечи, впервые сильно целуя и его губы, словно хотела выпить из них всю кровь. Потом она опустилась ниже и начала так же сильно, прижимаясь к нему обнаженной грудью, целовать и его ноги, и причину ее испуга, уже не прося его закрыть глаза. Она просто проглатывала ее и с какой-то неохотой, медленно выпускала обратно, вновь жадно глотая, словно и ее мучила нестерпимая жажда... Потом она, быстро устав, обессилено упала на его грудь и тихо зашептала, - какой ты милый, мой мальчик. Я ведь так испугалась, я так боялась эти дни, пока лежала..., что я насовсем потеряю тебя. Мне ведь даже и жизнь... такую совсем не жаль потерять, но только не тебя! Так плохо, что у меня нет сил - любить тебя еще и еще! Я ведь люблю тебя, люблю по-настоящему, и хочу, чтобы ты знал это, запомнил чтобы... Я так никогда не любила... Я так счастлива, что узнала это, я ведь думала, что мне никогда уже не повезет, что я умру, так и не узнав... Мне страшно было умирать так, хотя жизнь я совсем не жалела... А теперь совсем не страшно, хотя... потерять тебя просто невыносимо! Любимый мой... мальчик, ты ведь для меня - все! Не забывай меня никогда, ведь это и будет... жизнь. О, прости меня, я говорю всякие глупости, не хочу о них говорить, но просто столько слов накопилось за эти дни, что я не могу их сдержать. Я ведь столько об этом передумала там, в больнице... Да, я была в больнице, не хочу это скрывать от тебя, потому что мне даже жалость нужна только твоя. Мне все твое нужно, все до капельки, хотя мне хватило бы и малости. Я ведь о самой малости там мечтала, чтобы только увидеть тебя...Ты тоже скучал по мне? Ты любишь меня? - Да, - торопливо признался он, хотя думал сейчас только о том слове, которое словно холодная льдинка проскользнуло к его сердцу, погасив едва занявшийся жар. - Но почему ты хочешь умереть? Я ведь знаю, кажется, что это такое... Это же... ужасное что-то? Зачем ты хочешь уйти... насовсем? - Милый мой, разве я этого хочу?! - горько воскликнула она и заплакала, орошая ему грудь горячими каплями слез. - Ты бы знал, как это нестерпимо для меня! Я просто не знала, что делать, когда думала так... Сейчас умереть, когда... Я ведь думала, что это он меня и покарал за мою... позднюю любовь, за такую любовь... Но потом я поняла, что нет, он, наоборот, наградил меня ею за всю эту жизнь... Ведь я немного раньше узнала о том, ну, об опухоли своей, хотя все надеялась, что она... Но оказалось!... - У тебя тоже есть? - изумленно спросил он. - Но я не видел! Дай, я потрогаю? - Потрогай, милый, - томно застонав, произнесла она, пустив его руку к себе и зашептав, - Господи, все-таки он карает меня... Но как сладка эта кара, господи... - У тебя нет ее, - уверено произнес он, осторожно перебирая мягкие, нежные складочки ее тела, уводящие руку куда-то в бездну, таящую под пальцами. - Вот это? - О! - застонала она, вжимаясь в него извивающимся телом. - Нет, это не она... Это другое! Еще потрогай! Еще! Какой же ты сладкий! - Ты тоже, - шептал он ей, чувствуя, как горячая, влажная, словно кровь, ласка разливается и по его руке, даже растапливая немного ту льдинку. - И ты так сильно чувствуешь, когда я трогаю? - О! - почти крикнула она, прикусив до крови губы, и вдруг, задрожав от страшного напряжения, мягко опала на него, словно проткнутый воздушный шарик, от которого осталась лишь оболочка, вновь зашептав, - ты не представляешь, что я почувствовала... И я ведь всегда хотела, правда, чтобы и ты смог такое почувствовать... Я этого лишь и хотела... - Но я ничего не чувствую... вообще, - сказал он, не убирая свою руку, хотя она уже не отвечала так сильно на его прикосновения, а лишь слегка вздрагивала. - Милый мой, но я ведь раньше тоже почти ничего такого не чувствовала, но сильно, очень сильно хотела это почувствовать... от тебя, ждала этого и... Ты же видишь, что я дождалась? И ты жди, прошу тебя... Я тебе давно хотела признаться, ну, в том, что я ведь неправильно тогда поняла ее... Ну, ту, другую сестру, вас, то есть... Но я не каюсь... Если бы я поняла правильно, если бы сразу знала, какой ты есть, я бы ведь ничего этого и не узнала... А теперь, хоть я и каюсь, но я ужасно счастлива... А ты, ты тоже будешь счастлив, но, видимо, только с ней уже, не со мной... Мне ужасно больно в этом признаваться, говорить это, но у меня уже нет сил сделать все иначе... Я все равно ухожу... Не отпускай только меня до последнего, я молю тебя... Я сейчас все тебе сделаю, умою тебя, накормлю... Сказав это, она вначале резко, но все-таки с трудом приподнялась, запахнула халатик и, слегка пошатываясь и пряча лицо, вышла, через некоторое время возвратясь с тазиком, на дне которого плескалась вода. - Я не смогу подстелить сейчас, поэтому умою тебя так, - оправдывалась она, нежно протирая его тело мокрым полотенцем, омывая его и своими слезами. - А, умереть - это не страшно? - никак не мог он избавиться от тех мыслей, занозой засевших в его голове. - Это и есть смерть? - Милый, сейчас куда страшнее сама жизнь! - с тоской отвечала она, тревожно поглядывая на него. - Ведь кроме тебя, у меня и терять-то совсем нечего, я все растеряла, что оставалось от детства. Тогда я думала совсем иначе, почти как ты... Да, ты ведь все еще в детстве, тебе выпало счастье не знать эту жизнь... Ты и сейчас ее не узнал, хоть я и... Это, наверно, даже счастье - не знать жизнь... Здесь у тебя, на балконе, она совсем другая, здесь ты можешь придумать любую... И я ведь не только плохое привнесла сюда, правда? Тебе ведь со мной хорошо было? Но ты не знаешь, почему... Как бы я хотела все так же воспринимать, не видеть наяву. Поэтому для тебя смерть - это ничто, это как наша жизнь, которая, к счастью, для тебя не доступна, хотя ведь все почти думают иначе. И я так думала. Я даже думала, что лучше уж умереть... Глупая, ведь это куда лучше! И ты не думай о смерти. Для меня она теперь - избавление, мне ведь так плохо иногда... Когда я без тебя... И впереди только это. А у тебя впереди иное, я верю... Она вернется, не сможет не вернуться... Я бы обязательно вернулась. Поэтому ты должен ждать... Почти как ждал меня, но только гораздо сильнее! Меня ты ждал лишь затем, чтобы, ну, снова ждать... А ее ты жди навсегда. Понимаешь? Это настоящее. Мне больно это говорить, признавать это, но я сильнее люблю тебя, чем ревную... Это не понятно, но это так... И ждать ты ее должен, ну, до самого конца, чего я не смогла в свое время, хотя... Я тоже дождалась, но слишком поздно... Пойми, любимый, настоящая любовь намного сильнее и смерти, и смерти с жизнью вместе взятыми, она - это то самое, ради чего лишь можно жить и умереть. Остальное этого не стоит... Да-да, я сама сейчас только поняла, что, если я и умру, так только ради нее, ради любви... к тебе. Если я не умру, то... Но я не хочу этого. Ей богу, я ведь даже хочу скорей умереть, пока я так счастлива... Умирать нужно, лишь любя, по-настоящему любя, что ты пока еще не знаешь... Но ты знай, что я умираю счастливой, что для меня - это счастье... Ты должен это знать. Ведь ты это и есть мое счастье, моя любовь... Боже, простишь ли ты мне эту правду?! Но прости меня все же, милый... Прости!... Глава 8 Но ему было трудно понять ее, хотя очень хотелось помочь ей чем-нибудь. Еще одно слово стало для него загадкой... В той книге он слишком часто встречал другое слово - убивать, поняв в конце концов, что оно означает устранение, выведение кого-нибудь, кто тебе мешает, из игры, из действия. Для последнего же это и означало умереть, исчезнуть. Нет, в книге очень часто, в большинстве своем даже, убивали тех, кто вроде бы и не появлялся, не проявлялся ли до этого в действии, ну, то есть, и появлялся там лишь затем, чтобы быть убитым, то есть, умереть... Вот, опять! Ведь он и вначале не обратил на них внимания и только потом, перечитывая на третий, четвертый ли раз, словно бы споткнулся в своих размышлениях именно в этих местах повествования. Сперва ему стало непонятно, зачем было столько их выхватывать из неизвестности, приводить буквально на миг, ради нескольких слов, на белое поле страниц, чтобы тут же убить навсегда. Он пытался даже вновь их отыскать в дальнейшем повествовании, но безрезультатно: там даже намека на них не было. Потом его стала мучить мысль: зачем они сами здесь появлялись на этот миг, зная ведь наверняка, что их здесь ждут только чтобы убить?... Ведь им даже имен не давали, их просто упоминали одним словом, как бы и здесь экономя на них, жалея для них жизни - разве не понятно, зачем их сюда звали? То, что сюда, в действие, стоило появиться, стоило за это держаться, он понял из постоянного стремления героев книги победить, то есть, остаться здесь. Какой-либо иной причины, стимула ли оставаться он не увидел - только эту. Смешно, конечно, получалось: столько там всего было создано, придумано невероятного и лишь только затем, чтобы, убив других, самим сохраниться до конца книги, до последней страницы, назвав это победой. Подсчитав примерно, сколько ради этого было убито не только героев с именами, но и тех самым мимолетных, безымянных персонажей, он усомнился в значимости той победы, слишком она была несоизмерима с тем, куда исчезли остальные. Нет, вначале он все же отметил, что умирали, то есть, были убитыми в основном как бы плохие герои с именами. Однако, потом, задумавшись именно о безымянных героях, стал понимать, что они-то, если и представлялись плохими, так только потому, что хотели сделать с хорошими героями лишь то, что те сделали с ними - убили! Поэтому он стал иначе думать и о том неведомом мире, куда те исчезали... Когда же он прочел уже в черной книге слова "не убий", отношение к тем, убитым хорошими как бы героями у него совсем изменилось, как и к тому неведомому миру смерти, что, правда, его лишь больше запутало и он прекратил эти размышления... Сейчас же его прервало то, что из-за недостроенной стены дома вдруг выглянуло солнце, которое, конечно, давно уже взошло, уже истратило много света и тепла, уменьшилось в размерах, стало непереносимым для взгляда, потеряв отчетливость границ, формы, словно было готово вот-вот расплыться талым куском масла по небу. Оно уже ничем не отличалось от того, каким оно скоре исчезнет за крышей другого дома... Ему друг с горечью подумалось, что отняв у солнца и мгновения его рождения, сделав вроде бы и не умирающим, и не рождающимся, они словно бы совсем его убили, хотя должно было быть как бы все наоборот. Но ведь он видел, что и солнце-то стало уже не тем, не летним? Все как-то так совпадало... Мачеха, то есть, Маша тоже ведь словно появилась перед ним из-за той стены в прошлом, которую воздвигла его мама своим неожиданным исчезновением, мелькнув в его памяти лишь на краткий миг... То, что он помнил до того момента, было лишь чем-то смутным, почти нереальным: вдруг всплывающим среди водянистой сферы лицом с такими же расплывшимися очертаниями, теплой ли, розоватой сферой, просто ли темным силуэтом, закрывающим от него солнце, едва ли заметным на черном фоне ночного неба... Появление же мачехи он помнил отчетливо, хотя они вроде бы старались оба не замечать друг друга. Но она ведь появлялась у него на балконе каждый день, быстро, резкими движениями, с недовольным лицом убирая за ним и так же быстро исчезая. Все, с чем были связаны ее появления, было таким будничным, таким... ну, малоприятным, что он старался, научился не замечать это, делая машинально. Кормил, мыл, переодевал его, возил ли изредка в больницу отец, хотя и к этому он со временем стал относиться вполне равнодушно, хотя все это лишь и было его реальной жизнью. И раньше, если бы она вдруг... умерла, это и было бы похоже на то, как ближе к вечеру с неба исчезало солнце, как сама ли она стремительно уходила с балкона. Сейчас же, когда ее присутствие он ощущал даже тогда, когда она была там, в комнате, смерть ее стала для него таинственной, пугающей загадкой, которую он не хотел разгадывать... Ему было страшно осознавать, что жизнь его вдруг вновь стала сжиматься, что-то лишь теряя или собираясь терять, хотя она вроде бы и началась у него с потери, и по новой возродилась опять с нее же... Но от этого было еще больней! Да, в последнее время они только и говорил ему о возвращении... той, но это было так же нереально, как и возможность вновь когда-нибудь увидеть теперь уже и восход солнца... Мачеху это, наверное, тоже сильно убивало. Она теперь совсем перестала ходить на работу, вроде бы добилась осуществления своей мечты, но это ее страшно угнетало. Сквозь дверь он часто слышал крики их скандалов с отцом, который продолжал пить, хотя денег на это она уже не могла ему дать, у них они катастрофически кончались. У нее не было их ни на лекарства, ни на квартиру, ни на что. Она с трудом уже наскребала на то, чтобы хоть как-то накормить его. И, если бы нее мечта, на которую она понемногу, по копейке откладывала, им бы сейчас не на что было жить вообще... Но отец не внимал ее словам, не входил в ее положение, отчего она хотела бы поскорее умереть... - А я могу?! - истерично вопил в конце отец. - Не много ли это одному? Сначала он, теперь ты, а когда же, скажи на милость, я? Когда я-то получу что-то, заботу какую, внимание? Я что виноват, что я не больной? Устал я, слышишь, устал! Все рухнуло, ничего не осталось, ради чего вообще стоило бы, а ты все обязан, обязан тащить этот хомут, пахать на кого-то и всегда задаром, но зачем? Зачем, скажи? Не хочу, на равных хочу! Да, и пойду к нему, он хоть понимает меня, был в моей шкуре. А ты, чего добивалась, то и получила. Хотела быть независимой от меня, вот и будь! - Да, я счастлива, что тебя здесь не будет, рядом с ним не будет! - презрительно отвечала она. - Не смей так думать даже! - вопил отец, вдруг стихая, переходя на шепот. - Как ты могла? Неужели ты так всегда про меня думала? И жила со мной? Нет, я бы так никогда, разве бы я мог так низко... На себя, стерва посмотри! Ты-то сама что с ним вытворяешь? И еще судить меня?! Ничтожная, за это тебя бог и покарал!... - Тобой он меня покарал, - спокойно возражала она. - Им он меня наградил за все, за жизнь с тобой хотя бы. И если бы не ты... А, не хочу даже говорить тебе этого, уходи. Дай спокойно умереть, счастливой умереть, раз не дал пожить такой... Приходя к нему, она ничего подобного не говорила, пыталась даже улыбаться, хотя он видел, что за улыбкой она лишь прячет судороги боли. Иногда она срывалась, начинала говорить что-то невнятное, глядя по сторонам, на него ли помутневшими глазами. Все реже и реже она находила в себе силы приласкаться к нему, но так, словно бы хотела взять у него немножко сил, уверенности... - Милый мой, если бы не ты, как бы я держалась сейчас, как бы пережила это?! - восклицала она в эти минуты, прижимаясь к нему холодным, иссушенным болезнью телом, тщательно надушенным духами, но уже не решаясь целовать его в губы. - Я бы давно умерла!... А, может, так было бы лучше? Нет! Ни за что! Зачем тогда раньше я мучилась? Разве и до этого... мне было лучше? Но ведь жила для чего-то? Разве не для этого? Милый мой мальчик, как я благодарна судьбе, тебе за это счастье!... И она вправду приободрялась после этого, находила в себе силы приготовить ему что-нибудь вкусное, убрать за ним, помыть его мокрым полотенцем, даже слегка помассажировать его слабыми, почти прозрачными, просвечивающимися на солнце, пальцами... - Боже праведный, ведь это же все из-за него, из-за изверга этого! - восклицала она истерично в иные минуты, со злобой даже бормоча что-то непонятное для него. - Ты знаешь, знаешь, почему я не любила, почему ненавидела его? Он же, он же не женщин, не женщин любит, понимаешь! Из-за этого и та от него сбежала, а я, дура, осталась. Я ведь думала даже, что он и тебя... Понимаешь, почему я так, вот, и вела себя? Не из-за тебя - из-за этой сволочи! Ты не слушай меня, милый мой, но я тебя..., ты мне сразу сильно нравился... Я хотела такого сына, страшно хотела! А он, сволочь, и этого меня лишил!... Боже, ты мне так нравился, что я хотела тебя сама родить, почему, видно, и пришла к тебе. Мне нравились твои кудрявые волосики, как у ангелочка. Твои глазки так светились всегда лаской, что мне даже страшно было посмотреть, я боялась влюбиться в тебя! Да-да, я боялась влюбиться в тебя! Это же... Я ведь делала все то, а самой нестерпимо хотелось покормить тебя, помыть тебя. Да, я мечтала помыть тебя, погладить, потрогать твои ножки... Но не просто так, как они думают! Мне хотелось, я так представляла, что ты войдешь в меня... Вот, так весь войдешь, и я тебя рожу, обратно рожу... Господи, как это сладко! За это все можно отдать, за это я готова гореть потом хоть в самом страшном аду, но не могла не испытать этого... Милый мой сынок, закрой глазки, представь, что это я тебя рожаю, что ты из меня выходишь... О, господи, теперь мне не страшно и умереть!... Иногда у нее едва хватало сил лишь дойти до его лежанки и опуститься перед ней на колени, обессилено упав почти невесомым телом на него. - Милый мой, любимый мой, когда же она придет? Я не могу уйти, оставить тебя одного, - шептала она едва слышно, пытаясь погладить его. Мысли ее при этом перескакивали с одного на другое, пугая его иногда откровениями. - Они ведь, понимаешь, предложили мне вырезать все это... Но зачем тогда я? Какая я тогда женщина? Как я могла бы родить?... Нет, лучше умереть... Мать, стерва, лежит, притворилась почти мертвой, не хочет мне хотя бы рассказать что-нибудь... Я так хочу на улицу, милый! С тобой хочу! Я раньше этого ужасно стеснялась, дура! Я хотела с тобой перед всеми появиться, похвастаться, что у меня есть сын. Но они же все знали, что ты не мой? Мне так больно было от этого! А сейчас я хочу куда-нибудь увезти тебя отсюда, куда-нибудь к солнышку и не возвращаться... Во сне я вижу только тебя. И ты знаешь, какие это сладкие сны? Наверно, такая же сладкая смерть, если ты там будешь мне сниться? Там совсем нет боли... Иногда я думаю, что эта боль такая же,... ну, как при родах, понимаешь. Меня там всю разрывает, а мне кажется, что я рожаю... тебя... Боже, когда же придет она! Мне больно, ужасно больно!... Да, иногда она не могла дождаться Вики, которая теперь приходила к ним каждый день, приходила к нему и к ней. Иногда он слышал через дверь, как они ругаются друг с другом... - Я знаю, знаю, что ты не из-за меня приходишь, ты к нему приходишь! - кричала на нее мачеха, - ты бессовестная, даже не стыдишься, что я здесь! Ты назло мне все делаешь, даже не скрываясь! - Тебе-то что? - спокойно спрашивала ее Вика. - Не вертись так, а то иглу сломаешь! Думаешь, кто-то бы стал ходить к тебе бесплатно? Ищи дураков! Никто даже пальцем теперь за так не шевельнет. Сказала бы лучше спасибо еще... - За что спасибо? За то, что последнее у меня отнимаешь? - сквозь слезы пыталась возражать ей мачеха. - Так, мне лучше тогда умереть! - Извини, это не ко мне, - равнодушно говорила ей Вика. - Я тебя и так от смерти не спасу, но хотя бы... это не будет так больно. Если бы я могла, но... Даже не заикайся. - Ишь ты, что подумала! - восклицала гневно мачеха. - Да, я назло тебе останусь... Никому не отдам... Вика, Вика, не сердись! Прости меня, мне ведь так страшно... оставлять его одного! На кого я оставлю? Тебе ведь не надо, я же понимаю? - Много ты понимаешь, - миролюбиво уже, но холодно отвечала ей та. - Но не я же во всем этом виновата? - Вот, видишь, - с тоской говорила мачеха, страшась правды. - но все равно, хоть так, но приходи... Иди, иди... Я посплю, мне легче стало... Все их ссоры кончались примерно одинаково, каким-то вынужденным примирением, после чего Вика, уже улыбаясь, входила к нему, закрывала за собой дверь, задергивала шторки на балконе и, раздев его и себя, шла к нему... Ласки ее теперь стали какими-то резкими, словно требовательными, она больно целовала его, кусая до крови, но он не возражал, он привык к этому. Она почти всегда молчала, только стонала иногда, страшно напрягаясь телом, будто хотела вырвать из него ту опухоль... Иногда она вдруг начинала ее целовать, кусать, словно злясь, что та ничего не чувствует, не поддается ее лечению. Теперь она почти всегда при этом садилась на нее, лишь иногда прижимаясь к нему всем телом, когда целовала его, или покусывала его грудь. Но ему нравилось смотреть на ее колышущееся на нем тело, что она не мешала ему делать, закрыв свои глаза. Ее тело словно бы хорошело с каждым днем, все разительнее отличаясь от тела мачехи, и Вика будто чувствовала это, давая ему возможность смотреть на себя. Иногда она, не одеваясь, убирала потом за ним, мыла балкон, приносила ему поесть, когда мачеха была совсем плоха... Она порхала голой по балкону, выскакивала в комнату, часто сопровождаемая слабыми вздохами той, которые словно еще больше подстегивали Вику, даже веселили ее... Вике словно нравилось чувствовать себя здесь хозяйкой и она не скрывала этого. Постепенно она даже сделала балкон уютным: принесла ему маленький столик вместо стула, втащила сюда кресло-качалку, поставив ее напротив лежанки, заменила шторки, развесила здесь маленькие полотенчики, даже поставила на столик вазу, в которой иногда меняла цветы, когда те начинали увядать. На стенки она повесила картинки с полураздетыми девушками, но сердилась иногда, когда он смотрел на них. Все сделав, она в самом конце садилась голой в то кресло и, покачиваясь, просто ли смотрела на него или разговаривала о чем-нибудь... - Почему ты такой упрямый, и никак не хочешь вылечиться, как я ни стараюсь? - чаще всего начинала так она эти редкие разговоры. - Нет, мне-то хорошо, но, как мне иногда кажется, ты просто притворяешься, что и тебе хорошо со мной. Может, тебе чего-нибудь не хватает? Может, ты... хочешь тоже попробовать? Да, я знаю, что так тоже можно лечить... Сказав однажды это, она встала, вновь подошла к нему и села вдруг ему на грудь, отчего венчик ее волос распахнулся и он увидел перед собой розоватые лепестки того цветка, который скрывался под ними, который он до этого потрогал руками у мачехи... - Тебе не хватает моей силы, моей влаги, вот что! - напряженным голосом сказала она тогда, приблизив цветок к его губам. - Поцелуй его, потрогай язычком, сильно потрогай... О, да, вот так! Целуй, не бойся, мне это тоже приятно, мне очень приятно... И это бери, бери в себя, это может излечить, может... Еще, еще!... Тогда она вновь разговорилась, вновь беспрестанно целовала его в губы, опять давая ему для поцелуев свой цветок, который был так горяч, так щедро истекал целебным нектаром, что ему вновь захотелось верить в свое излечение... Теперь она вновь стала приходить к нему рано утром, потом еще раз за день приходя уже вначале к мачехе, после чего заходила к нему. Однажды, когда мачехе было совсем плохо, Вика осталась у них и на ночь. Изредка выходя в комнату, она почти всю ночь была с ним, перепробовав на этот раз все способы лечения, отчего к утру у него просто разрывало болью губы... Мачеха же с того дня почти совсем не выходила к нему, изредка лишь на минуту заглядывая в дверь или сквозь окно. Ее почти невозможно было узнать, так болезнь иссушила ее лицо, на котором пылали угасающим огнем одни лишь большие глаза, в которых он мог прочесть все то, что было до этого... Теперь после ухода Вики, почувствовав некоторое облегчение, она только разговаривала с ним через дверь, для чего упросила Вику пододвинуть ее кровать поближе к балкону... - Да, подслушивать хочешь? - со смешком спросила та. - Вика, милая, но, если даже и так, то тебе разве жалко для меня такой малости? - жалобно ответила ей мачеха. - Мне ведь теперь вообще ничего не доступно, а ведь так больно терять это? У меня же ничего большего и не было... - Мне совсем не жалко, - спокойно ответила ей Вика, - хоть на балкон тебя перемещу. Я же понимаю... - Спасибо, - сквозь рыдания сказала мачеха. Благодаря этому они могли с ней говорить.... - Милый мальчик, - говорила она ему прерывистым, хрипловатым голосом, - ты постарайся забыть меня такой, как сейчас... Вспоминай такой, как я тогда пришла к тебе, когда еще не верила, что... У меня, к сожалению, нет ни одной фотографии... Есть только из юности, я их тебе оставлю, хочешь? А тут только с паспорта и есть одна, но она такая страшная, словно я сейчас и снималась... Мне ведь так больно, что меня никто вдруг и не вспомнит... Ты не забудешь меня? - Разве я смогу тебя забыть? Разве это возможно? - отвечал он ей вопросами же, на которые и сам искал ответа. - То, что было до... тебя, это я бы хотел забыть. Там был какой-то кошмар, который тогда я и считал жизнью, перед которой был совсем бессилен... Я тогда лишь смирился с ней, стараясь просто не замечать. Ты меня ведь, правда, словно родила заново. Это так. - Спасибо тебе за эти слова, хотя я и не достойна их, - всхлипывая говорила она. - Я ведь... Нет, я не хочу об этом... Но все равно, только ты ведь мой единственный... любимый, да... И у меня ведь, кроме детства и тебя, вся остальная жизнь была кошмаром, который я забыла с тобой. Знаешь, я словно взлетела вдруг, выпорхнула из этой ужасной клетки и тоже перестала ее замечать, подгоняла только время, чтобы быстрей оказаться с тобой... До этого я даже не думала, что в этой жизни можно быть счастливой! Я была так счастлива ошибиться! Я же и тогда уже хотела умереть и, вот, накликала похоже. Нельзя хотеть умереть, надо искать свое счастье, свою любовь! - Да, это так, но как ее искать?! - взволнованно спросил вдруг он. - Как, скажи, мог я ее искать, могу ли? Я ведь могу только придумать! Ведь не я ж нашел... и тебя, и эту любовь... Она вдруг пришла, а я даже не знаю, что это... пришло. - Ты знаешь, - усмехнулась вдруг она, - а я ведь сейчас почти во всем похожа на тебя, тоже не могу даже подойти к своей любви... Но, ты знаешь, я поняла, что надо сделать однажды над собой усилие, надо закрыть на все глаза и броситься головой в омут, прыгнуть, взлететь ли в небо, не оглядываясь, и ты найдешь ее, она ведь только там! Сколько я не замечала ее? Разве я нашла ее где-нибудь в ином месте? Разве не рядом с собой? Разве не проходила я мимо нее столько лет? А почему проходила? Потому что боялась, думала больше не о ней, а обо всем остальном, о том, чего, может, и нет. Ведь нет, вот, сейчас? А она есть... - Наверно, ты права, - говорил он, мысленно гладя ее по головке. - Я ведь тоже могу только броситься куда-то, хотя, конечно, в детстве мечтал взлететь... Для этого ведь не нужны ноги. Но сейчас, когда я вроде нашел,... я лишь теряю, понимаешь. И мне опять страшно... Я не могу понять... - Любимый мой, ты просто не нашел, - с горечью сказала она. - Когда найдешь, тебе и не надо будет понимать, это все будет и так ясно... - Но я ведь только и жил тем, что думал, понимал что-то? - спросил он. - Когда я что-то не пойму, мне кажется, что этого и нет... Понимаешь, я привык так, ведь раньше я ничего не мог коснуться, потрогать. Мне все приходилось додумывать. Ведь если бы ты не пришла, то и про тебя я бы мог только думать, хотя и сейчас я не все могу понять, может, даже еще больше не понимаю... Ты, наоборот, для меня стала такой огромной загадкой... Нет-нет, загадки для меня лишь и представляют какую-то ценность, ты не думай! Ведь только к ним меня и влечет! - И пока ты не разгадаешь, ты не забудешь меня? - с надеждой спросила она. - Я тебя не смогу забыть, - уверенно ответил он. - Любимый, - с каким-то восхищением воскликнула она, - а я ведь даже не подозревала, что ты к тому же еще и такой умный! Я таких слов ни разу не слышала в жизни... Ну, читала, может, и то очень давно, в старых книжках... Я так горда, что люблю тебя! Жаль только, что я не могу дать тебе той любви, какой ты достоин! Но я все равно счастлива! Боже, как я счастлива! Как я благодарна тебе, боже! Милый, ты мог бы мне почитать... библию? Я видела ее у тебя... Мне это сейчас нужно, уже нужно... - Конечно! - с готовностью согласился он, найдя и для себя какой-то ответ, некий выход из этой безысходной ситуации. Он достал из шкафчика запылившуюся уже книгу и раскрыл на первой главе, столько раз им перечитанной до этого, и начал читать... С этого дня он читал ей библию каждый день по несколько раз, прерываясь, когда она уставала, когда приходила Вика... Он и сам читал с большим интересом, словно впервые, удивляясь даже, почему раньше он предпочитал ту, другую книгу, в которой путь к счастливому якобы концу был таким кровавым, шел через столько смертей... Она же лишь иногда его прерывала, просила пояснить какое-нибудь непонятное место, и он уверенно объяснял ей, как понимал это сам... Глава 9 Вику же, когда она однажды застала их за чтением, это вначале рассмешило, но потом вдруг взбесило. Она даже не смогла подойти к нему от злости, только убрала спешно балкон, сорвав со стенок картинки, выбросив цветы, швырнула почти, бросив на него полный ненависти взгляд, на столик тарелку с глазуньей, и ушла, хлопнув дверью. - Святоши... чертовы! - донеслись до него ее последние слова. На следующий день она не пришла... Читая на другой день ей книгу, он слышал, как мачеха тихо плачет, иногда прерываясь, словно пряча в подушку всхлипы, стоны ли. Потом она вновь просила его едва слышным голосом читать дальше, громче, не останавливаться... - Это ничего, ничего, это я за них плачу, за него плачу, не обращай внимания, - жалобно умоляла она его. - Мне легче от этого, мне совсем теперь легко... Еще почитай, немного еще... Ты так читаешь, словно это он сам со мной разговаривает... Читай, любимый мой, сын мой... А я поплачу, смою все, слезами смою... Читай, совсем немного осталось... Да, ему осталось дочитать всего несколько страниц, когда в комнату кто-то вошел. Дверь они теперь и не закрывали... Он услышал какой-то легкий скрип и вскрик мачехи то ли удивленный, то ли испуганный. - Боже, неужели это ты?! - услышал он ее взволнованный голос и замер, не веря своим глазам... В дверях балкона стояла она. В глазах ее вдруг вспыхнули искорки от только что выглянувшего из-за стены солнца, а губы расплылись в доброй, словно счастливой улыбке. На ней было простое, совсем легкое платьице, словно она пришла из самого лета. В руках она держала толстую книгу... - Привет! - тихо сказала она и спрятала книгу, положив ее, видимо, на подоконник. - Я вообще-то не из-за нее пришла... Я пришла за тобой. Ты поедешь со мной? - Да, - с готовностью ответил он, даже не вдумываясь в смысл слов. - Тогда давай собираться. Я сейчас, - сказала она и вышла. Он слышал, что она о чем-то разговаривает с мачехой, но не мог вникнуть в смысл слов, не понимал их. Он ничего не понимал, в голове его было совершенно пусто, он весь, абсолютно весь сжался в маленький комочек, нетерпеливо скачущий на одном месте, где-то глубоко в груди. Ему не терпелось вскочить, выпрыгнуть из себя, броситься вслед за нею, как совсем недавно хотел броситься с балкона, широко распластав руки и... Но он не мог даже пошевелиться, лишь испуганно ожидал ее возвращения, ее команды... И она пришла, неся в руках полный тазик воды, над которым поднимался легкий пар, уносясь сквозь окно к облакам. На плече у нее висело огромное, пушистое полотенце и еще целый ворох какой-то одежды, но он не замечал ничего, кроме ее глаз и улыбки, затмивших собою весь его мир, что, видимо, было очень просто сделать...Он не заметил даже как она умыла его, одела в синие, бархатистые джинсы, в теплую, клетчатую рубашку, как надела на ноги теплые, мягкие носки, немного просторные кроссовки, как тщательно расчесала его слегка влажные еще кудри... Все это промчалось где-то рядом в один миг. Он отчетливо увидел только ее руки, протянутые к нему, словно все это время она так их и держала, терпеливо ожидая, когда же он это заметит. Спохватившись он протянул ей свои, обнял ее и поднялся, поддерживаемый ею, изо всех сил стараясь удержать на ногах свое вдруг ставшее невесомым тело... Да-да, ему казалось, что он должен удерживать его, чтобы оно вдруг не улетело... Почти незаметно они прошли сквозь дверь в комнату, где он сразу же заметил сверкающую хромом коляску, в которую она помогла ему сесть, а потом подвезла к кровати мачехи... Он не узнал мачеху, потому что, видимо, никак не мог на чем-то сосредоточиться. Да ее почти и не видно было под белоснежной простыней, даже совсем уж седые, незавитые пряди волос почти слились с белизной подушки, по которой они рассыпались, словно лучи зимнего, заходящего солнца. Только огромные глаза ее с любовью, с надеждой смотрели на них, видя их обоих одновременно, одинаково, вместе... - Мы пойдем? - тихо спросила она. - Да, вам надо идти, - улыбкой ответила им мачеха. - Поцелуй только меня, мой... сынок... Он поцеловал ее совсем сухие, прохладные губы, заметив лишь, как в глубине ее глаз вдруг вспыхнул яркий огонек и тут же погас, оставив после себя медленно тающий след... - И ты тоже... нагнись ко мне, я хочу тебя поцеловать, - совсем тихо шептала мама ей... Но он мыслями был уже там, куда коляска катила его сквозь полумрак коридора, по ущелью лестницы, где их ждал совсем иной, настоящий мир... Ему было плохо лишь оттого, что он вновь не видел ее. - Нет, давай я сам покачу ее, а ты... ты иди пожалуйста рядом, я не могу больше не видеть тебя, - прошептал он, потому что не мог говорить громко, слова его не слушались. - Да, я тоже хочу тебя видеть, - тихо ответила она, встав слева от него и положив ему на плечо руку. - Я так давно хотела тебя увидеть, хотя бы просто услышать... Нет, я тебя увидеть хотела больше... - А я, я просто боюсь тебя потерять... еще раз, - шептал он ей, даже не слыша себя. - Ты тогда ушла, и все как-то сразу стало исчезать... Даже солнце они у меня почти украли... - Нет, его невозможно украсть, - улыбнулась она ему, тихонько коснувшись его волос. - Каждый вечер его крадут, - пытался возразить он тревожно, - а теперь и... - Мы сейчас и поедем туда, чтобы убедиться в ином, - успокоила она его, показав рукой, светящейся в лучах солнца, на вершину утеса. - Оно не умирает по вечерам, оно на закате такое же, как и по утрам. - Я этого не видел ни разу, - заворожено признался он. - Я знаю, - сказала она. - С этого мы и начнем... - Что? - спросил он спустя некоторое время, не сумев ничего придумать... - Наше космическое путешествие, - ответила она, добавив с уверенной улыбкой, - на Альфу Центавра. - Ты помнишь? - восторженно спросил он. - Конечно, - ответила она. - Все это время я готовилась к нему... Стать штурманом - это не просто... Для этого мне пришлось совершить очень долгое, трудное путешествие и найти дорогу... домой. - О, ты посмотри, оказывается, за этим утесом еще что-то есть?! - изумленно воскликнул он, когда они добрались до его вершины, ровной площадкой нависающей над морем. - Это правда? Я ведь думал, что все остальное - это... - Ты правильно думал, - успокоила она его. - Но это все и еще много чего там, дальше, за морем даже, я выдумала для тебя. Да, целый океан, бескрайний, бесконечный, весь в огромных, бурных волнах, с тысячами зеленых островов, на каждом из которых можно еще придумать новый мир... - Спасибо, - искренне поблагодарил он, прижимаясь щекой к ее руке. - Но мне тоже хочется что-нибудь придумать для тебя... - А ты и придумал все это, - ответила она. - Раньше мне все казалось совсем иным, каким его выдумали другие, не оставляя нам выбора... Когда я ушла от тебя, то вдруг поняла, что это все можно и надо сделать самому. Но мне одной это оказалось не под силу... Я решила, раз ты научил меня делать это, то должен и помогать... То есть, это лучше делать вместе, не только для себя, а для кого-то... - Разве я мог научить тебя этому? - удивленно спросил он. - Да, только ты, - уверенно сказала она. - Никто больше не умел это делать, никому это было не нужно. Все живут тем, что дано им, злятся, когда не нравится, но и всего лишь... А, если и создают что-то, то потом сами от этого и страдают, потому что опять создают по чьей-то указке, у кого-то списывая, по чьему-то образу и подобию. Ты меня научил делать иначе... - И тебе это понравилось? - затаив дыхание спросил он. - Только это мне и понравилось, - ответила она. - Тогда,... давай мы с тобой и закат солнца по иному создадим, выдумаем, - сказал он, загадочно ей улыбаясь. - Да, давай, - заворожено глядя ему в глаза, согласилась она. - А я ведь чуть было тоже не смирился, - признался он вдруг, осторожно подкатывая коляску к самому краю утеса. - Я понимаю, почему, - сказала она, помогая ему снять ноги с коляски, поставив их на землю. - Но я не могла сразу вернуться, пока, вот, это хотя бы не достала... Но я знала, что твой мир слишком крепок, не доступен ни для кого, поэтому я не сомневалась, что ты меня дождешься... Легко рушатся лишь чужие миры, за которые вроде и не надо бороться... - За свой - тоже, если вдруг остановиться, - грустно произнес он, вглядываясь в даль моря с узкой, каменистой терраски, чуть выдающийся, обнесенный низкой стенкой, край которой, словно нос огромного корабля, врезался в пенящиеся волны прибоя, от ударов которых громада утеса слегка вздрагивала под ними. Ему даже казалось, что он чувствует эту дрожь спущенными с коляски ногами, словно они тоже вдруг стали каменными, слившись в одно целое с подрагивающей в такт живым волнам землей, лишь издали кажущейся... мертвой. - Поэтому мне и нужен был ты, чтобы не дать мне остановиться, - призналась она, прислонясь щекой к его волосам. - И я тоже это понял... - неуверенно сказал он. - Но только... - Что? - тихо спросила она. - Нет, не только поэтому, - ответил он, смущенно. - Понимаешь, мне казалось, что... весь мой мир этот, ну, как бы совсем стал ничем по сравнению... Ну, я думал,... нет, я сейчас только понял, когда увидел тебя, что... - Не говори, - прикрыла она ему рот ладошкой, отчего губы его заныли в истоме, и осторожно развернула коляску к солнцу. - Об этом не надо говорить... Я это и так чувствую, тогда еще почувствовала... А он и не мог говорить. Он мог только зачарованно смотреть на нее, любуясь сверкающим ореолом зари в ее волосах, за которыми пряталось заходящее солнце. Свет его, словно бы изливаясь в мир сквозь ее янтарные глаза, растекался по ее плечам, струился по ее рукам, гладящим его лицо, стекая с ее светящихся пальчиков на его губы, проникая дальше, до самого сердца, в котором вдруг начало разгораться то самое солнце, которое было всегда нам понятно без слов... И тут он внезапно почувствовал, как в лучах этого вечного солнца где-то в бездонной глубине его начали таять и рушиться безмолвные ледяные грани, преграды, из плена которых вдруг начал пробиваться, вырвался на свободу, заплескался пенистыми струйками по его жилам живительный родник, источник самой жизни... Увы, эпилог этой повести был чересчур большой, гораздо больше всего вышеописанного, чтобы даже попытаться его пересказать, тем более нашим скудным языком, которым мы пытаемся описывать якобы свои собственные жизни, этакие переводные картинки, списанные ли у двоечников сочинения... Владивосток, 2003 © Copyright Заболотников Анатолий Анатольевич Рейтинг: +2 Отправить другуСсылка и анонс этого материала будут отправлены вашему другу по электронной почте. |
|
© 2008-2025, myJulia.ru, проект группы «МедиаФорт»
Перепечатка материалов разрешена только с непосредственной ссылкой на http://www.myJulia.ru/
Руководитель проекта: Джанетта Каменецкая aka Skarlet — info@myjulia.ru Директор по спецпроектам: Марина Тумовская По общим и административным вопросам обращайтесь ivlim@ivlim.ru Вопросы создания и продвижения сайтов — design@ivlim.ru Реклама на сайте - info@mediafort.ru |
|
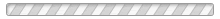
Комментарии:
Разбейте на части, и многие прочтут с удовольствием. Возможно и продолжения попросят.
Не обижайтесь пожалуйста, я как лучше хотела!
сразу... Но нужно время, конечно, поэтому будем работать... Еще раз Спасибо!
Оставить свой комментарий