



Рубрики статей: |
Исаак Бабель. В подвале. Часть 2
Всю неделю после моего визита я воображал себя директором банка. Я совершал миллионные операции с Сингапуром и Порт-Саидом. Я завёл себе яхту и путешествовал на ней один. В субботу настало время проснуться. Назавтра должен был придти в гости маленький Боргман.
Ничего из того, что я рассказал ему, - не существовало. Существовало другое, - много удивительнее, чем то, что я придумал, но двенадцати лет от роду я совсем ещё не знал, как мне быть с правдой в этом мире. Дед Лейви-Ицхок, раввин, выгнанный из своего местечка за то, что он подделал на векселях подпись графа Браницкого, был, - на взгляд наших соседей и окрестных мальчишек, - сумасшедший. Дядьку Симон-Вольфа я не терпел за шумное его чудачество, полное бессмысленного огня, крику и притеснения. Только с Бобкой можно было сговориться. Бобка гордилась тем, что сын директора банка дружит со мной. Она считала это знакомство началом карьеры, и испекла для гостя штрудель с вареньем и маковый пирог. Всё сердце нашего племени, сердце, так хорошо выдерживающее борьбу, заключалось в этих пирогах. Деда с его рваным цилиндром и тряпьём на распухших ногах мы упрятали к соседям Апельхотам, и я умолял его не показываться до тех пор, пока гость не уйдёт. С Симон-Вольфом тоже уладилось. Он ушёл со своими приятелями-барышниками пить чай в трактир "Медведь". В этом трактире прихватывали водку вместе с чаем, - можно было рассчитывать, что Симон-Вольф задержится. Тут надо сказать, что семья, из которой я происхожу, не походила на другие еврейские семьи. У нас и пьяницы были в роду, у нас соблазняли генеральских дочерей и, не довезши до границы, бросали, у нас дед подделывал подписи и сочинял для брошенных жён шантажные письма. Все старания я положил на то, чтобы отвадить Симон-Вольфа на весь день. Я отдал ему сбережённые три рубля. Прожить три рубля - это нескоро делается, Симон-Вольф вернётся поздно, и сын директора банка никогда не узнает о том, что рассказ о доброте и силе моего дядьки - лживый рассказ. По совести говоря, если сообразить сердцем, это была правда, а не ложь, но при первом взгляде на грязного и крикливого Симон-Вольфа непонятной этой истины нельзя было разобрать. В воскресенье утром Бобка вырядилась в коричневое суконное платье. Толстая её, добрая грудь лежала во все стороны. Она надела косынку с чёрными тиснёными цветами, косынку, которую одевают в синагогу на судный день и на Рош-Гашоно. Бобка расставила на столе пироги, варенье, крендели и принялась ждать. Мы жили в подвале. Боргман поднял брови, когда проходил по горбатому полу коридора. В сенях стояла кадка с водой. Не успел Боргман войти, как я стал занимать его всякими диковинами. Я показал ему будильник, сделанный до последнего винтика руками деда. К часам была приделана лампа; когда будильник отсчитывал половинку или полный час, лампа зажигалась. Я показал ещё бочонок с ваксой. Рецепт этой ваксы составлял изобретение Лейви-Ицхока; он никому этого секрета не выдавал. Потом мы прочитали с Боргманом несколько страниц из рукописи деда. Он писал по-еврейски, на жёлтых квадратных листах, громадных, как географические карты. Рукопись называлась "Человек без головы". В ней описывались все соседи Лейви-Ицхока за семьдесят лет его жизни - сначала в Сквире и Белой Церкви, потом в Одессе. Гробовщики, канторы, еврейские пьяницы, поварихи на брисах и проходимцы, производившие ритуальную операцию, - вот герои Лейви-Ицхока. Всё это были вздорные люди, косноязычные, с шишковатыми носами, прыщами на макушке и косыми задами. Во время чтения появилась Бобка в коричневом платье. Она плыла с самоваром на подносе, обложенная своей толстой, доброй грудью. Я познакомил их. Бобка сказала: "Очень приятно", - протянула вспотевшие, неподвижные пальцы и шаркнула обеими ногами. Всё шло хорошо, как нельзя лучше. Апельхоты не выпускали деда. Я выволакивал его сокровища одно за другим: грамматики на всех языках и шестьдесят шесть томов Талмуда. Марка ослепил бочонок с ваксой, мудрёный будильник и гора Талмуда, - все эти вещи, которых нельзя увидеть ни в каком другом доме. Мы выпили по два стакана чаю со штруделем; Бобка, кивая головой и пятясь назад, исчезла. Я пришёл в радостное состояние духа, стал в позу и начал декламировать строфы, больше которых я ничего не любил в жизни. Антоний, склонясь над трупом Цезаря, обращается к римскому народу: О римляне! Сограждане! Друзья! Меня своим вниманьем удостойте! Не восхвалять я Цезаря пришёл, Но лишь ему последний долг отдать... Так начинает игру Антоний. Я задохся и прижал руки к груди. Мне Цезарь другом был, и верным другом, Но Брут его зовёт властолюбивым, А Брут - достопочтенный человек... Он пленных приводил толпами в Рим, Их выкупом казну обогащая... Не это ли считать за властолюбье? При виде нищеты он слёзы лил, - Так мягко властолюбье не бывает. Но Брут его зовёт властолюбивым... А Брут - достопочтенный человек... Вы видели во время Луперкалий, - Я трижды подносил ему венец, И трижды от него он отказался. Ужель и это - властолюбье?! Но Брут его зовёт властолюбивым, А Брут - достопочтенный человек... Перед моими глазами - в дыму Вселенной - висело лицо Брута. Оно стало белее мела. Римский народ, ворча, надвигался на меня. Я поднял руку, - глаза Боргмана покорно двинулись за ней, - сжатый мой кулак дрожал, я поднял руку... и увидел в окне дядьку Симон-Вольфа, шедшего по двору в сопровождении маклака Лейкаха. Они тащили на себе вешалку, сделанную из оленьих рогов, и красный сундук с подвесками в виде львиных пастей... Бобка тоже увидела их из окна. Забыв про гостя, она влетела в комнату и схватила меня трясущимися ручками. - Серденько моё, он опять купил мебель... Боргман привстал в своём мундирчике и в недоумении поклонился Бобке. В дверь ломились. В коридлоре раздался раздался грохот сапог, шум передвигаемого сундука. Голоса Симон-Вольфа и рыжего Лейкаха гремели оглушительно. Оба были навеселе. - Бобка, - закричал Симон-Вольф, - попробуй угадать, - сколько я отдал за эти рога?! Он орал, как труба, но в голосе его была неуверенность. Хоть и пьяный, Симон-Вольф знал, как ненавидим мы рыжего Лейкаха, подбивавшего его на все покупки, затоплявшего нас ненужной, бессмысленной мебелью. Бобка молчала. Лейках пропищал что-то Симон-Вольфу. Чтобы заглушить змеиное его шипение, чтобы заглушить мою тревогу, я закричал словами Антония: Ещё вчера повелевал Вселенной Могучий Цезарь; он теперь во прахе, И всякий нищий им пренебрегает... Когда б хотел я возбудить к восстанью, К отмщению сердца и души ваши, Я повредил бы Кассию и Бруту... Но ведь они почтеннейшие люди... На этом месте раздался стук. Это упала Бобка, сбитая с ног ударом мужа. Она, верно, сделала горькое какое-нибудь замечание об оленьих рогах. Началось ежедневное представление. Медный голос Симон-Вольфа законопачивал все щели Вселенной. - Вы тянете из меня клей, - громовым голосом кричал мой дядька, - Вы клей тянете из меня, чтобы запихать собачьи ваши рты... Работа отбила у меня душу. У меня нечем работать, у меня нет рук, у меня нет ног... Камень вы одели на мою шею, камень висит на моей шее... Проклиная меня и Бобку еврейскими проклятиями, он сулил нам, что глаза наши вытекут, что дети наши ещё во чреве матери начнут гнить и распадаться, что мы не будем поспеввать хоронить друг друга и что нас за волосы стащут в братскую могилу. Маленький Боргман поднялся со своего места. Он был бледен и озирался. Ему непонятны были обороты еврейского кощунства, но с русской матерщиной он был знаком. Симон-Вольф не гнушался и ею. Сын директора банка мял в руке картузик. Он двоился у меня в глазах, я силился перекричать всё зло мира. Предсмертное моё отчаяние и свершившаяся уже смерть Цезаря слились в одно. Я был мёртв, и я кричал. Хрипение поднималось со дна моего существа. Коль слёзы есть у вас, обильным током Они теперь из ваших глаз польются! Всем этот плащ знаком... Я помню даже, Где в первый раз его накинул Цезарь... То было летним вечером, в палатке, Где находился он, разбив неврийцев. Сюда проник нож Кассия; вот рана Завистливого КАски... здесь в него Вонзил кинжал его любимец Брут... Как хлынула потоком алым кровь, Когда кинжал из раны он извлёк! Ничто не в силах было заглушить Симон-Вольфа. Бобка, сидя на полу, всхлипывала и сморкалась. Невозмутимый Лейках двигал за перегородкой сундук. Тут мой сумасбродный дед захотел придти мне на помощь. Он вырвался от Апельхотов, подполз к окну и стал пилить на скрипке, - для того, верно, чтобы посторонним людям не слышна была брань Симон-Вольфа. Боргман взглянул в окно, вырезанное на уровне земли, и в ужасе подался назад. Мой бедный дед гримасничал своим синим окостеневшим ртом. На нём был загнутый цилиндр, чёрная ваточная хламида с костяными пуговицами и опорки на слоновых ногах. Прокуренная борода висела клочьями и колебалась в окне... Марк бежал. - Это ничего, - пробормотал он, вырываясь на волю, - это, право, ничего... Во дворе мелькнул его мундирчик и картуз с поднятыми краями. С уходом Марка улеглось моё волнение. Я ждал вечера. Когда дед, исписав еврейскими крючками квадратный свой лист (он описывал Апельхотов, у которых по моей милости провёл весь день), улёгся на койку и заснул, я выбрался в коридор. Пол там был земляной. Я двигался во тьме, босой, в длинной и заплатанной рубахе. Сквозь щели досок остриями света мерцали булыжники. В углу, как всегда, стояла кадка с водой. Я опустился в неё. Вода разрезала меня надвое. Я погрузил голову, задохся, вынырнул. Сверху, с полки, сонно смотрела кошка. Во второй раз я выдержал дольше; вода хлюпала вокруг меня, мой стон уходил в неё. Я открыл глаза и увидел на дне бочки парус рубахи и ноги, прижатые друг к дружке. У меня снова не хватило сил; я вынырнул. Возле бочки стоял дед в кофте. Единственный его зуб звенел. - Мой внук, - он выговорил эти слова презрительно и внятно, - я иду принять касторку, чтобы мне было что принесть на твою могилу... Я закричал, не помня себя, и опустился в воду с размаху. Меня вытащила немощная рука деда. Тогда впервые за этот день я заплакал... и мир слёз был так огромен и прекрасен, что всё, кроме слёз, ушло из моих глаз... Я очнулся на постели, закутанный в одеяла. Дед ходил по комнате и свистел. Толстая Бобка грела мои руки на груди. - Как он дрожит, наш дурачок, - сказала Бобка, - и где дитя находит силы так дрожать... Дед дёрнул бороду, свистнул и зашагал снова. За стеной с мучительным выдохом храпел Симон-Вольф. Навоевавшись за день, он ночью никогда не просыпался. /И. Бабель. "Рассказы"/ Рейтинг: +4 Отправить другуСсылка и анонс этого материала будут отправлены вашему другу по электронной почте. |
|
© 2008-2025, myJulia.ru, проект группы «МедиаФорт»
Перепечатка материалов разрешена только с непосредственной ссылкой на http://www.myJulia.ru/
Руководитель проекта: Джанетта Каменецкая aka Skarlet — info@myjulia.ru Директор по спецпроектам: Марина Тумовская По общим и административным вопросам обращайтесь ivlim@ivlim.ru Вопросы создания и продвижения сайтов — design@ivlim.ru Реклама на сайте - info@mediafort.ru |
|
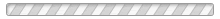
Комментарии:
Спасибо огромное!
Оставить свой комментарий