



Рубрики статей: |
Муза. Сонатина любви МУЗА. Сонатина Любви
МУЗА. Сонатина ЛюбвиРоман СОДЕРЖАНИЕ: КНИГА 1. Сквозь сердце Лабиринта Часть первая. В паутине Горгоны Часть вторая. Аттракцион аттракторов. КНИГА 2. Муза. Сонатина любви. Часть первая. Аватар Музы. Часть вторая. Аватар Любви ИНТЕР-ЛЮДИЯ нелюдей Часть третья. Марш капитулистов. РЕПРИЗА бессмыслицы. КАДЕНЦИЯ «Мир - лабиринт. Ни выхода, ни входа, ни центра нет в чудовищном застенке. Ты здесь бредешь сквозь узкие простенки на ощупь, в темноте - и нет исхода». Борхес, Лабиринт. пер. В. Алексеева. Всюду громоздится Кносский Лабиринт, Мерной, вязкой, гулкой путаницей улиц - Не залить виденья дюжиною пинт: Стены Нотр-Дама с призраками щупалец, Красною Горгоной волосы Москвы Вьются сквозь зубастый гребень стен короны... Валы волн ваяли вольные волхвы, Обереги градов, но трещали троны, Сетью паутины покрываясь вмиг, Рассыпаясь зданий оплетенных сыпью, Сквозь которую проспект вдруг тропу простриг, Впился в сердце ль, в мозг сигнальной нитью, Токи по которой веку в такт текут, В купола вбирая тупиков проклятья - Паукам, которые переулки ткут... Кличет люд войн клювы – их прервать занятья... 2003. Книга 1. Сквозь сердце Лабиринта БРЕДИСЛОВИЕ Дорогой читатель, бродя по лабиринтам строчек этой книги, не поддайся искушению погрузиться в них и слиться с толпой ее героев, пойти следом за отдельными из них, чего всячески избегал делать и сам автор, когда удавалось. Ни в коем случае! Лучше вообще бросить ее и не читать или отложить чтение до того времени, когда будет уже все равно... Содержание многих книг, даже выдуманных, чересчур реально, хотя оно часто надежно отгорожено от читателей плотной решеткой, ну, или модными жалюзи строчек, сквозь которые мы можем с относительной безопасностью наблюдать за происходящим там, в мире вечной тайны Слова, являющейся к нам во всевозможных образах нашей вроде бы действительности. Как они порой прекрасны, эти образы, чада вдохновения и любви авторов и их, вроде бы, Муз... Но часто книги пишутся или создаются не из нашего мира, а созерцаются лишь отсюда, представая и перед авторами в своем мнимом обличие, с насмешкой наблюдая за их тщетными попытками передать вселенскую тайну своим скудным лексиконом обыденности, а иногда и со злом негодуя на его попытки скрасить впечатление, приодеть его в привычные одеяния земной фантазии, не столь ужасной или не столь фееричной и завораживающей взоры, как этого бы хотелось прототипам книжных героев из числа... и тех зверей, что живут среди нас, в нас самих, в нашем подсознании, как и в клетях книг, за решетками строчек... Понятно, им так не хватает нашей плоти, нашей Жизни... Вот и злятся, язвят!.. Но нам-то что? Вро-оде... Уже чуть иначе звучит... Где? В нашем языке, который... Брось, конечно же, они там, даже в нашем подсознании, считают иначе: что это мы живем в их клетях, к решеткам которых они подбираются иногда лишь затем, чтобы поймать очередную зазевавшуюся жертву и увлечь ее в бездну своего мира, который буквально «без дна», без меры... Поэтому будьте настороже, не подпускайте близко к клетке даже своего книжного двойника, держась всегда немного выше коридоров, галерей лабиринта, в которых вас поджидает он.., его хозяин и порой творец, а, может, и, скорее, пленник, как мы все ныне считаем, начитавшись мифов, психоаналитиков, да и просто, ничего не читая, веря только самим себе,.. кого и сами не знаем... Часть первая. В паутине Горгоны Глава 1. Еще мерно, узнаваемо билось кумачовое сердце столицы, гоняя по спутанному клубку улочек, переулков, бульваров стылую кровь неба. Его стекловатая жидкость, пересыщенная хлопьями бледно-серых телец, словно смытых, сорванных ее потоком с холодных, шершавых стен, светилась изнутри чистым, приносимым издалека светом. Он ничего не освещал, а, наоборот, с каким-то омерзением пытался вырваться из каменной паутины нестареющего лабиринта Северной Горгоны, соприкасаясь со стенами которого, мгновенно замерзал и рассыпался на множество правильных осколков окон, бесследно растворяясь в их бездонной черноте. Лишь свет тот и напоминал о кончающейся где-то весне, пытающейся пробиться к омертвелому, истекающему сукровицей сердцу. Застывшая навеки каменная паутина лабиринта плотоядно наблюдала за его жалкими попытками высечь из безжизненных стен хоть каплю зелени... - ...апр... ель… цинандали без генацвале, - нес чушь прохожий с мешком и еще с двумя под глазами, заплетаясь и ногами... ...искорку ли солнечного одуванчика, хоть ноту чистоты, которыми и пытались дозвониться до небес серебряные струны той юной девушки в маске отрешенности, Музы ли, чья песнь и звала их из чрева мраморной паутины метро с его бестактными ритмами топота, гуда толпы, скрежета железных аккордов челюстей подземки... Что-то было в ней знакомое, но непереводимое на слова… - До-ля-ми соль… ми-ля... до... ми-фа... до-ля... ми... Похожие на струны стрелы солнечных лучей, рассыпаемых тучами всюду, бесследно исчезали, гасли в кажущейся непроницаемой поверхности мертвой материи, словно насос всасывающей в себя эманации живой энергии. Но кажущееся мертвым сердце его бесперебойно работало, ритмично, толчками выдавливая из себя в кровеносную систему столицы, в паутину ее проспектов густые струйки переработанных блекло-серых телец, тут же устремляющихся к другим его каменным органам с ненасытной жаждой новых сил, энергий, впечатлений, даже разочарований, лишь распаляющих в них эту жажду… Они интуитивно держались подальше от притягивающих к себе стен лабиринта, покрытых лишь кажущимся омертвелым, каменным эпителием, изредка уступая дорогу редким полумертвым машинам, тяжело выдыхающим глубоко переработанные клубы небесной синевы. Словно стыдясь своего смрадного, похмельного дыхания, машины спешили скрыться в ближайших проулках, его галереях, неуклюже ворочаясь на крутых поворотах, избегая встреч... И он забыл о Музе-е-е.., поправившись в конце, словно предав... - Интересуют Музы, - смешком вернула Андрея к реальности его неслучайная, даже плановая вроде попутчица в подземном лабиринте, зябко кутаясь в облачко тонкого, уже летнего плаща, накрытого сверху золотистым веером таких же летних волос, словно ниспадающих с солнечной короны, которой тут и не было, тоже добавив, - ка, музеи? Ученого? Что ж, думаю, сегодня ничего не получится у… Все то было неуместно здесь, и она, словно почувствовав, вдруг стыдливо собрала пышные, непокорные волосы в скромный, тут же погасший узел. Так же быстро и незаметно стерла с губ алые лепестки пылающих маков, нацепив на скромную улыбку тонкие стрелки бледно розовых гвоздик... И исчезла. Это была уже не она. Не та, с кем он недавно вырвался из гулкого подземелья навстречу сияющей голубизне весеннего неба, осыпая ее восхищенными, полными смутных предчувствий взглядами, лишь на миг изменившими ей с... Строгие очки, погасившие последние искорки жизни на лице, завершили процесс трансформации легкокрылой бабочки в блеклую куколку,.. вобрав всю прелесть наивной красоты внутрь, откуда она лишь изредка выпархивала не заметными никому словами: «Музы… ки! Музы… ку-ку… За Муз и Любовь... – не вы... – а продают... замуж»... - Почему? - расстроенный внезапными переменами, спросил Андрей. Все остальные слова вдруг рухнули в бездну подсознания, со дна которой донеслось только чавкающее эхо довольного, звериного хохота, захлебнувшегося от сомнительного удовольствия его разочарования: «Спугнул? Чем? Музы-кой? Или, наоборот...» В это время они вновь повернули к одному из кажущихся тупиков лабиринта, сверкнувшего навстречу позолоченными, массивными очками надменных дверей одного из главнейших по содержанию и даже по Фасаду зданий страны, в чреве которого обитало самое прагматичное полушарие всей державы, планировавшее ее жизнь на много ходов-годов вперед – даже пятясь, ну, пятилетками... - Са-Ми видите, как безжизненны ныне двери До-Ми-ка и Фа-сад! - сухо произнесла она, с тоской оглянувшись в близкое еще прошлое, прощаясь с ним до вечера или,.. - Вчера здесь было невозможно пройти неза… меченным... Не за Меченым! Но то и не удивительно... - Почему? – злясь, выдавил он опять из себя это чмокающее от наивной чванливости словечко, пока еще не видя то… - Эта пятилетка тринадцатая, - пожав плечами, проронила она. - А я слишком много от нее жду, - сказал он, добавив в предчувствие каких-то неотвратимых перемен, - ждал, точнее! - Охотно верю… Но в этом До-Ми-ке на Охотном ряду, - обреченно говорила она, поджимая до безобразия бледные губы, - все усреднялось, становилось статистикой, действительностью: мечты – планами, желания – цифрами, даже любовь – актами... состояния. Да, двери красивые, но за ними серость реальности, но уже былой! Она словно и примеряла эту серость перед мнимым зеркалом, убирая с себя последние краски, диссонирующие с ней. И вот рядом с ним полувоенным шагом шла потерявшая последние надежды старая дева, давно смирившаяся с участью и пытающаяся даже насладиться обреченностью. Видно было, что она с мстительным удовлетворением посмотрела на свое отражение, расчлененное на куски циничными стеклами входной двери, и даже кивнула ему как старой знакомой. - Вы забыли сказать мне адрес, телефон, - больше для порядка произнес он, пропуская даму вперед и неуверенно проскользнув следом в темный зев здания, смачно хрустнувший за спиной. - Зачем? - спросила она, обращаясь скорее к молчаливому стражу дверей, словно к своему сверстнику. - Зачем мне забывать и вместо вас? Вы сегодня все равно столько забудете, а я не хочу быть неоригинальной, одной из... Правда, Мефодий Иванович? - Аделаида Антиповна, вам не грозит неори.., ну, гинальность, - ответил вахтер, посмотрев бычьим взглядом ей в глаза, как в пропуск и, наоборот, в его командировочное удостоверение - как в глаза. - Удостоверение вызывает доверие... Серьезно! Я по бумажке могу определить, кто предо мной! Удостоверение личности – не о той ли сегодня дебаты на съезде? Прям линчуют, аж неприлично! Говоря это, он упорно не смотрел на Андрея, словно тот не представлял для вахтера никакого интереса или опасности. - Вот видите, мне уже ничего не грозит, кроме вас, - заметила она все-таки, совершенно игнорируя слова вахтера, который не для того здесь стоял, но тут же поправилась, - и вы хотите, чтобы я это всеобъемлющее ничего променяла на сомнительное нечто? Только не здесь! Здесь все должно быть и было наоборот. Неужели только было? Было или не было – вот в чем вопрос! Прощай… те! Все! Финита ля,.. но, похоже, не только комедии, но и самому театру!.. С трудом выговорив последние слова, она медленно начала подниматься по лестнице, словно придерживая ту за массивные перила. Андрею даже начало казаться, что лестница и все здание слегка покачивались и нуждались в поддержке ее хрупкой руки, за которую цеплялись, словно за соломинку вечности, неожиданно давшей трещину в виде самой, хотя и монументальной лестницы, сотрясаемой шагами, ходом времени по самым точным ступеням небытия… - И эта «Бабочка» недавно взлетала по эскалатору из подземки! - воскликнул он про себя и неуверенно шагнул следом за ней, с удивлением вновь подмечая, как здесь все материальное жадно цепляется, присасывается к любому живому. Прикоснувшись случайно ладонью к перилам, он сразу почувствовал, как сквозь кончики пальцев из него буквально хлынул горячий поток невидимой крови, пылких желаний и смутных надежд. – И вдруг так поменялась, как и... Он и не предполагал, что здесь может быть столько лестниц, коридоров, тупиков, прикрытых массивными дверями. Больше всего угнетали всеобщая пустота и напряженное, упрямое молчание безликих дверей. После получаса блуждания по этажам на пару с цокающим эхом своих, вроде, шагов он, наконец, ткнул одну из них, молчание которой ему показалось наиболее красноречивым, и не ошибся… В комнате, вытянутой непропорционально в высоту старинного потолка, за пустым столом с выдвинутым ящиком сидел, вытянув ноги и обвиснув на спинке стула, крупный чиновник, бессвязно кроющий матом кого-то перед собой… Андрей осторожно прикрыл дверь, сквозь щель слыша продолжение весьма странной беседы: - Что ж ты, сволочь меченная, - рычал чиновник, - как ты позволяешь такое? Это же конец! Всему конец! Заткнись сволочь! Заткнись! Закрой рот, гад! Заткните же ему пасть чем-нибудь, сливой, сливой микрофона и заткните! Гады, гады все! Выродки! Ублюдки! К стенке, к стенке всех – она ж рядом! Да что же это такое! Ведь и слов, словосочетаний таких нет в нашем языке! Не было никогда! Как ты смеешь говорить их?! Что?! Что ты сказал?! А семнадцатый съезд не хочешь?! Десять XVII-х в твой рот поганый не хочешь?! А хула-хупов в свою недосиженную в ссылке за… дни в Ницце не хочешь?!.. Или горький град ничему не научил тебя, сахарного нашего?!.. Он кричал так, словно в кабинете перед ним стояло человек десять или сто. Но сквозь его крик, совсем не обращая на него внимания, чуть скрипучим голосом говорил кто-то второй. Говорил так, словно этого оруна и не было в кабинете, на свете ли, словно весьма непривычные слова его были обращены к каким-то другим людям или даже не к людям, а ко всей вселенной. И голос его тоже будто доносился оттуда - из вселенной, ее радиоэхом… Казалось, что вместе с голосом оттуда прорывались звуки, голоса других галактик, похожие на мелодии вольного радиоэфира, каким он бывает по ночам, когда радиостанции молчат, работают только глушилки, беспомощные перед самим эфиром... Говорил он спокойно, словно сказку, теми же почти словами, но нечто непривычное, и вполне понятна была бессильная злоба первого, который, похоже, готов был вылезть из себя через стул, вместе ли с выплевываемой им наружу желчью слов... И вдруг сквозь посвист вселенского эфира, сквозь щель в дверях донесся нарастающий каменной лавиной гул, шум, похожий на топот огромного табуна лошадей, убегающих от пожара, горной сели, подгоняемых остервенелым улюлюканьем стаи погонщиков, спасающих, скорее, самих себя... Нет, ничего подобного не могло происходить в кабинете, но Андрей уже из простого любопытства не смог не заглянуть туда еще раз, на этот раз раскрыв дверь чуть шире... Хозяин кабинета утомленно обмяк на стуле, слегка отупело вращая в пальцах пустой граненый стакан. Шум и улюлюканье доносились из радиоприемника, стоящего рядом с бутылкой коньяка в выдвинутом ящике письменного стола. Никого в кабинете больше не было, да и не могло быть... Он был теперь не нужен никому!.. - Извините, я просто хотел узнать: сюда ли я попал, - промямлил Андрей, глядя, как тот крошит каблуком кусочки сахара… - Сюда, конечно, - насмешливо ответил хозяин кабинета, коленом пытаясь задвинуть ящик стола, чему мешало горлышко бутылки, - попал! Снайпер! А чего тебе, собственно, надо, стрелок? - Мне ничего, но я, вот, планы на тринадцатую как бы пятилетку привез, - робко начал Андрей, вытаскивая бумаги из дипломата, - на предварительное вроде бы рассмотрение.., для… - Для? Чего для? - насмешливо протянул тот. – Долго ж ты длил, парень, однако! На Чукотке, на оленях, в Ана-дыре? - Нет, чуток ближе, - неуверенно проговорил Андрей, - еще ведь пять дней, однако… Думал в Совмин сначала, но встретил… - Все, у сов мин больше нет! Все, уже утвердили, - истерически хихикал тот, - все оставшиеся пятилетки разом утвердил сообчак их! Навсегда! Двенадцать лишь и осталось! Как Блок и рек... С этими словами он, уже не стесняясь, достал коньяк из стола, налил полстакана и опрокинул в рот, пролив янтарную жидкость на рубашку, но не обратил на то внимания, захрустев кусочком сахара… - Хочешь? - кивнул он Андрею на бутылку и, не дожидаясь ответа, выпил еще полстакана с теми же последствиями для рубашки, уже наполовину ставшей желтой. - Как хочешь! Может, сахарку-с? - Как? Без нас? - оторопел Андрей, взяв кусочек со стола... - Без вас?! Ха-ха! Ты что, из Урюпинска? Теперь все без вас! Вас, нас нет! Личность – наличность! - зло веселился тот, броском закидывая ноги на стол. - Видишь, я уже почти американец? Бляха-муха, сигару бы еще. Нет сигары случайно? Жаль, я бы совсем за своего сошел. И ты садись и ноги тоже на стол! Брось эти совковые, как те говорят, замашки, замишки. Ноги на стол - я говорю! Кончилась Совковия, престольная! Ноги – на стол, мы - на ху… Будешь армянский виски «Джонни волчара» - последний раз спрашиваю? Не понимаешь? А что вы там в своем Урюпинске понимаете - ни хрена не понимаете. Тут, бляха-муха, систему кончили, а вам хоть бы что. Сказали ему - ноги на стол, он и на стол их, а почему - даже не спросил... - Так я же не знаю, как у вас тут принято, - смущенно оправдывался Андрей, не решаясь убрать свои ботинки со стола, но все же выпрямившись на стуле, отчего чуть не опрокинулся. - Ты не знаешь, но они-то, сволочи, знают, как у нас принято, а как нет, но принимают, как должное, непринятое, - заорал тот так, что тоже чуть не опрокинулся вместе со стулом, - и примут, и кончат все разом! А вы в своем Ужопинске так и будете думать, что именно так у нас и принято! Что мы тут только принимаем и кончаем… - Ну, у нас как-то так не принято все же, - скромно оправдывался Андрей, не решаясь пить из стакана дальше, хотя уже… - Ну да, однако, хватило трех секунд, чтобы согласиться, - насмехался тот на правах хозяина, - но уже минуты три сомневаешься - снять ноги со стола или нет. Сомневаешься же? - Вообще-то, да, только я не понимаю пока - о чем вы, - искренне признался Андрей, подвинув ботинки к краю столешницы. – В промежуточном аэропорту, в Иркутске на сутки застрял и… - Не понимаешь, а делаешь, - ехидничал тот, доставая еще бутылку. – Нас утки зас?.. Жареные? Ах, в Икрутске? А икру, кстати, не привез? Как раньше было у вас принято. Ирку не надо, Райку тоже! - Да, вот, случайно захватил банки, думал, вдруг пообедать где придется, - покраснев, отвечал Андрей, пытаясь достать, открыть дипломат, не снимая ноги со стола. – Пришлось… - И банки, икрой с Иркой перекусить в Иркутске, - смеялся тот, доставая вилки, открывашку. – Телком тут прикинулся… Вот из-за таких, как ты и они, придется нажраться сегодня, как свинья. Но если не нажраться, то согласиться, значит, со всем этим? Никогда! - С чем все же? - по-свойски осведомился Андрей, открывая баночку. Он меньше года занимался этой запаркой с планами, до этого работая в геологии, в самой, как считается, материальной науке, хотя вряд ли кто еще, кроме фантастов, мог бы представить и всю Землю вполне живым, развивающимся организмом, как и любой камень – не просто булыжником, а неким существом с весьма сложным внутренним строением и непростой историей... жизни, в том числе, и посмертной. – С планами уже другой пятилетки, сразу четырнадцатой? Эту решили пропустить как бы, как и тринадцатые понедельники? - Какой пятилетки? Четырнадцатой? Ты о чем? Все рушится! Ты, что, не слышишь? У Дворца съездов крыша съехала! Страна рушится, строй! Кому планы теперь нужны? Твои коллеги-умники разносят в щепки систему, которую мы столько создавали, по кирпичикам, косточкам, винтикам-шпунтикам собирали, шлифовали, строили! Одним словом рушат! Кто разрешил? Почему не глушат? Как вы эту, горбушу, там глушили. Кету? Да в пи… Как не понять, что даже перестройку надо делать по плану, по сотни раз продуманному, согласованному с низом плану? Нет, они делают, но по их плану - не по нашему! По плану Вашингтона, НАТО – нашего разрушения! На то ж и НАТО! - кричал он в истерике, вороша на голове волосы с проседью. - Госплан теперь не здесь! Он теперь там, на Пушкинской! Она, их площадная муза, теперь планирует! Кто эту ведьму выпустил из дурдома? Она в психушке все придумала: свободу - психам! Поговорить не с кем было - парламентаризму ей подавай! Она там, среди таких же психов, орет заклинания, а эти, академики вторят ей: ни строек, ни перестроек – свободу трепа, митингов и их партслучек! Почти плача, он вновь тупо уставился на приемник, вздрагивая от каждого хлесткого слова, вырывающегося из незримого пространства еще весеннего неба, проносящегося за окнами кабинета. Голос усиливался, подавляя нарастающий шум радиопомех, сквозь скрип и вздохи которых, словно всплески, взрывы, звучали хлесткие «Но! Но! Но!», будто кто понужал клячу истории, пришпоривая ее жирные, неповоротливые бока: «Но, чалая! По Тверской-Ямской!..» Мебель, стены, стекла окон - все нервно подрагивало, резонируя с незнакомым, непривычным, чуждым этому, не бумажным голосом, влетающим в окна из бушующего моря весенней лазури. Все было готово рухнуть, рассыпаться в хаос мельчайших частиц мертвой материи под ударами как бы простых, незамысловатых слов, произвольно, без плана рождающихся в неподконтрольной никому бездне разума, где бесследно исчезали, аннигилировались, обращались в ничто системы, строи, лагеря, галактики, классы, иерархии, груды металла, бетона и... бумаги, не имеющие иммунитета против этой инфекции: инфекции чуждого слова, писаного не пером, а топором!.. - Забери свои бумаги! Иди в Мин сов, - орал мужчина на его дипломат, - к ней – похожа, кстати! Засунь в глотку, лучше в жопу – и побольше! Вдруг одумается! Но чем?! Дай ей оду – мается пусть!.. С этими словами он засунул в рот горлышко бутылки и жадно выпил остатки коньяка, после чего стих, тупо уставившись в приемник, из которого вещал, хлестал по щекам истории тот глас... - Парень, уйди, а, - жалобно промычал он, наконец, - я сейчас начну превращаться в свинью и не хочу... Моя последняя пятилетка должна была быть. Как чувствовал, что не будет ее, моей последней... Твоя первая? Тем хуже... Ни капли не осталось, черт... А зачем тогда?.. Зачем откармливали?.. Чтобы вот так вот... Хрюк и нет!? А ху-ху не хо-хо?! Заткни меня! Ну! Хрю-хрю! Заткни! Хрю-хрю! Ха! И меня никто не заткнет! Свобода слова, хрюка! Но... Уйди, сволочь! Не унижай хоть ты... Хотя все равно кончилось, но… Но! Но!.. Ладно, пошли к Петровичу! Вдруг он чего порешает... Как я забыл! И банки не забудь той, горбатой су... Суши? Нет, сам возьму! Красные поминки, никак! По красным, однако! Эй, а ты, может, знал, а, предусмотрел, а?.. На траур бы черная, конечно, пошла, астраханская... Но эта роднее! Черной они будут поминать... Будут-будут... Но... себя! Глава 2 Приемная у Петровича, как следовало из таблички, оказалась больше, чем предыдущий кабинет. Из-за неплотно прикрытой двери, обитой ядовито-красной кожей, доносились приглушенные, не очень разборчивые и вразумительные порой голоса: - Я ничего не срываю – это ты все планы срываешь! - неразборчиво бубнил мужской голос, перебиваемый словно эхом. - Ты в каком учреждении, кому служишь? Ну, жила, жила... В Госплане! В го… суд… дар… с Твеном… Почему Марком?.. Или ты о марке, о лире? Ну да, мы всеми планами заправляем! А ты?.. Да, и ты заправляла… Ешь-ешь, конечно, пока еще ешь! Планами всего мира заправля.., можно сказать, ешь, раз утех нет официально своих. Только протоколы! Ну и следователь… но он есть только у нас!.. Был? Следователь? Когда? Какой? Где Лян и Ван?.. Ах, в телевизоре! Гдлян? В твоем? Уф, ты даешь! Свят-свят! А мой не раб… о, тает, черт! Все, никаких но, нам позарез нужны сони… Ну, на час всего хотя б?.. - Понимаю, Семен Петрович, - пытался вставить женский голос, когда стих треск, - что в рабочее время, но.., но насчет сони я и… - Что но? Уже нахваталась, насобчачилась! - перебил мужской. - Мы тем сильны, что все у нас по плану! У Лени сорвалось раз одно «но есть», мол, отдельные недостатки, ну, валюты, но мы ж достали? Да, высокой ценой: мы за ценой не постоим! Как? А потому, что у тех одни благие, хоть и мирные после Карибов намерения, а те, как известно, ведут в ад! А у нас его в планах нет! Ада! У нас в плане - «Миру - мир!», а не в намерениях! Ввели кобыле кон.., тьфу, то есть, в Кабул контингент – нефтебакс Сэма из трубы сам потек! Но переставь одну букву плана - вместо «да» «ад» и получишь, вместо Кабул – кобыл, вместо Horse – Хаос! План - как симфония Бетховена: измени нотку, вместо ми-фа поставь до-ля – и все: вместо чести – части, вместо ум – му-му, вместо совесть – сов есть, вместо партии - братия! Но тут вместо сани к зиме – сони! И зная это, ты еще можешь?.. - Нет, я не могу! Раньше могла, - упрямился женский голос, похожий на голос артистки, ведущей какой, – но план изменил он! - В плане нет измен – лишь мероприятия! – рявкнул мужской. – Нет «не могу, хочу, я» – только надо! Представь карточный домик: можно убирать, менять сколь угодно верхнюю карту, карты, тузов, королей – стоит и стоять будет. Но убери одну нижнюю, шестерку... - и что? Домик рухнет! Комик Ронни и уронил так наш домик! Недопоставил одну шестеренку, и план посыпался, рухнул! - Соня Ненси - нора Ронни! Рая врата Ада! - возмутился женский голос. – Не миру, а Риму – мир! План налом на лапу! Ну, или на лом налом! На планы пальмы напле... Игра слов! Надоело! Все! - Интересные мысли, кстати.., но я ж не о том, я ж для аллегории – не объегорить? - оправдывался мужской голос. - И карту взял для примера, ведь у нас карта, ну, географическая – козырная, что прекрасно знают и сони, почему и здесь! Убери-ка ее одну из-под?.. - Если насчет исподнего и Сони типа Мармеладовой, то ко мне сегодня должен прийти, - глубоко вздохнув, вставил женский голос со знакомыми интонациями, - молодой человек, который как раз очень даже аргумент, именно географически... С Владика! - Врешь! К тебе - молодой человек? - поразился мужской голос, будто увидел что-то невероятное, но очевидное. - Вот кто все планы рушит? Не всех сосунков на стройки века, на сплав сплавили, подальше от бума - на БАМ, от кобыл - в Кабул! Сырой, неустойчивый материал для вражеских джинсов, шопов, идущих вразрез!.. - Именно тех и сослали, а сосуны остались! – возмутился женский голос. – А он очень даже устойчивый и без джинсов даже!.. - Во, блин, дает - лишь бы не давать! Рая врата! – восхитился даже спутник Андрея, глянув странно на него, лучше, конечно, понимая шефа, нюансы. – Страшен бабий бунт, не дай бог, не дай!.. - Ну-ну! Последняя, значит, пятилетка, последний шанс? – вздохнул тот там. – Мне-то что делать, а?.. Всего лишь на час гей… - Тем более, что гей… Ша! Там кто-то есть, в приемной, кстати, - прервала его та слишком даже решительно, услышав, как Андрей уронил дипломат, а спутник - банку, услышав последние слова… - Врешь ты, гей.., - бросил на ходу Петрович и выскочил в приемную, - ша! А, это ты? А это, типа с планами? Мы как раз их обсуждали. Аллегорически, на примере тоже планового хозяйства Сони. Что делать, Матвей Иосифович, если само слово план под сомнением? Где еще набраться... Чего смотришь? Опыта, говорю, где набраться! - Так мы как раз прихватили ик!.., ну, ик!.. ну, жертв аборта горбуши, - пояснил тот, повернувшись к нему спиной, с интересом поглядывая на Андрея, - с плановой еще путины, внеплановых уже! - О, здравствуйте, Андрюша! Вы уже пришел? - радостно воскликнула появившаяся в дверях… его недавняя попутчица, ринувшись на него с раскрытыми объятиями, но поглядывая на начальника. - Это он, Семен Петрович, про кого я говорила! Без джинсов и… - Верю, - рявкнул тот, вдумчиво читая этикетку на банке. - Потом. Планы поменялись, ну, те отменились уже.... У нас тут деловой разговор. Заходи, Матвей, с этим, с внеплановым хозяйством… - А это его, - вставил тот честно, кивая за спину и на Андрея. - Я и говорю: с ним - у него ж внеплановое хозяйство, - буркнул начальник и юркнул в дверь. – А ты тут с бумажками одна кончай! - Как? А!.. Андрюша, так я жду, значит, тебя после работы, как ты и планировал! - радостно щебетала им вслед Аделаида, доставая из сумочки маковую помаду. - Не забудь! Ми-и-лый!.. У-м-м-моляю… Андрей обернулся к ней напоследок и тут же получил звонкий, но долгий поцелуй еще не перекрашенных заново губ и умоляющий взор совсем утренних глаз без очков и теней сомнений… - Петрович, у тебя, кажется, недавно гости с Баку были? - вкрадчиво спрашивал Матвей Иосифович начальника, щедро доставая из-за спины банки с икрой и почти из-под икры, пустые стаканы, демонстративно, по-свойски поглядывая на самовар на столе… - Нет, с баком были с Еревана! Последние были с черной.., - рассеяно отвечал тот, вдруг хлопнув себя по лбу. - Последние? Черт! Неужто, впрямь последние? Матюша, что же это получается? Писец, значит, и песцам, и… Ты последние сообчения, тьфу, слушал? - Последние?.. Но не беспокойся, если что - сбегаем. Он, вот, писец, сбегает, - успокаивал его Матюша, обнимая ласково Андрея. - Писатель? Интересно! Ну-ну... Если он сбегает, мы и его больше не увидим, последнего из... Могет кануть! Но я не о том, Матюша! - жалостливо говорил начальник, беря со стола приемник. - Не о земном! Знаешь, что такое приемник, схема? А я знаю, сам собирал. Не надо ломать - одну детальку вынуть, заменить не той - и все! Одну с браком детальку поставили, и что понеслось? Бред! Лавина! Помехи! Где глушилки? И до чего договорился в итоге? Елки-целки, аф-аф мосек, лай соб… А я не слышал! Два часа уже в розовых очках, с лапшой на душе… Чай, кофе? Может, с сахарком?.. - Кончай! Чай! Кофе! Не слышал он! - поразился Матюша, все пожимая плечо Андрея, но уточнил. - Ты про ту детальку, ну, с клеймом, меченую, кого только могила того?.. - Нет, Матюша, - сказал шеф, наливая… коньяк из самовара, - мечут икру! Хотя и бисер... Полторы тысячи нормальных, одна забарахлила, сотню проглядели, пропустили, и вся схема, вся партия вразнос пошла! Главная часть страны враз и в… А я все прослушал из-за этой ведьмы Спидолы. Сони, однако, лучше, но эта гей… Ша! - Эта гей? Не этот, ну, с Владика ж? Проглядели? - переспросил пунктуальный Матюша, ощупывая Андрея за талию. - У нас чтоб проглядели? Не бывает такого! Все делали наши, но по плану Ваши... - Так и я говорю но! Но-но! - воскликнул тот, запив огорчение половиной фужера. – Шло, шло себе на.., и вдруг – но!.. С этими словами он махнул фужером в сторону Андрея, который уже не особо следил за темой, за теми, а всеми силами пытался удержать что-то рвущееся из недр наружу, где все менялось тоже... - А вот признайся, ты давно член нашей партии? - резко спросил шеф, пододвигаясь, словно подплывая к нему в проруби голубых стен по коричневатой воде паркета, покрытой рябью и… - Да член он, сам же сказал: гей, славяне! - захохотал Матюша, по-товарищески хлопнув Андрея по ширинке, но тоже осекся… - Как, нет? Покажи членс?.. Нечего? И тебя послали? Без парт-билета? - поразился шеф, когда Андрей покачал головой. - Как могли послать не члена? К планам планов! Неужели? Так это ты?.. - Ты - не член, не комм,.. ик? – икнул даже Матюша, откинувшись на спинку стула и убрав руку с его ноги. - То-то смотрю, все помалкиваешь... Слушаешь, значит? А ну-ка, пей еще! Пей-пей, если не боишься проговориться! Полный стакан! До дна! За Родину!.. Этот - за Сталина!.. Этот за... Не поперхнулся? Ишь, ты! И не член… - И не моргнул даже! - поддержал его шеф. – Во, выучка! Так ты, может, суперагент? Адепт? С акцентом писаешь.., ну, пишешь? - Пишу, - кивнул Андрей, услышав что-то знакомое... - Во, бляха! Я с ним по душам, откровенничаю, коньячничаю, а он – агент! - возмутился Матюша и, махом выпив коньяк, вскочил со стула, но не удержался и налетел плечом на простенок меж окон. - Ну и что? - отрыгнулось из глубины Андрея. – Ну и?.. - Но ты подумай, - вкрадчивым голосом обратился к нему шеф, еще ближе подплывая, - ну, как они могли тебя просто так пос… Или я чего не знаю? Да пошли они сами на... Уже пошли? Ну, да, сами себя и послали, но даже не послами теперь... Но как вы без нас-то? Без плана и вы ж никуда? Чтобы и план кончить, нужно план иметь, плановиков! Или это все не по плану делается? Ха-ха!.. - Чего ты с ним, засланцем, разговариваешь? - зло крикнул Матюша и понесся плечом навстречу противоположной стене, встретив на полпути длинный стол заседаний со стульями для оных же. – Он и в баню не ходит, видать, где все н-н-а виду, вся с-с-суть! Ишь, гей!.. - Ша! Иди сам в баню! Шеф сходил в Юрьев день, там член и оставил, хотя теперь героем, жертвой станет, - отмахнулся шеф. – Хорошо, я не пошел, хотя Who его теперь знает! Но никто лучше нас не знает ту схемку, не сможет ее, ну, и того?.. Понимаешь, о чем я? - План по-шумерски - «Умуш» или «Нам», - кивнул Андрей, - хотя и «Дим-ма» еще есть. И все их по уму ж теперь – нам? - Петрович! Не смей! - кричал от двери Матюша, пытаясь оторваться от нее и точнее прицелиться для следующего броска… похожей чем-то на член, головой. - Родина не простит! Роди-на!.. - Диму пока не знаю, но нам точно, уму ж непостижимо! Ты его не слушай, - продолжал шеф, - притворяется, думает, что мы еще там, в совке. А кто ему скажет? Он в загранке-то был раза два, в Болгарии, у моря, но не в Шумере. А я бывал, was не раз, was еще там, одобрял-с. Нам бы! Все их – нам! Вот и новый план, кстати! Ты – гений, однако! Хочешь сигару? Кубинскую! От Руса. Черт, от Руса же!.. С этими словами он подскочил к столу и вытащил из глубины коробку с членами…, тьфу, с сигарами и золоченую зажигалку. - Кто трус, – вопил Матюша, - Федя?! Или все ж Демис? - Дима, ага, Демис как раз, хотя и Русос… Черт! И тут свои?.. Беломор-то это я так, для маскировки, для плана тоже, - хихикнул шеф, протягивая Андрею надкушенную уже сигару, огонек. - А я принципиально не буду, понял?! - зло рычал Матюша из угла. - Хотя кубинскую буду! Куба, good by my love… Фидель… - Во, дураки были - братские сигары не курили! - смеялся шеф сквозь клубы дыма. - Хуже Шипки, Стюардессы?.. Стюардесс любишь? Шибко?.. И талии? Ах, в Ита... был! На Ку… был? В Шта… был? Брат! Так подумай, без опытных кадров в бардаке и вы никуда! Тебе, кстати, куда сегодня? А, помню! Во, работаете! Во, молодцы! Как вы ловко нашу Адку... Антиповну захомутали! Захомутал, конечно! А ведь через нее все проходи, все проходило, все планы. Но без меня она - ничто, ноль без палки! Очки, конечно! Ладно, не отвечай, я все понимаю. Прямо отсюда туда и отъе… дем, везем вас! Черт, а я ищу выходы на вас, на демократов! А он тут, у меня. Сам! Я ведь и помжем мечтал стать... Нет, не бомжем – тоже забавное слово. Помжем, навсегда! Но там! Поможем и вам, ясно, с помжем… - Петрович, последний раз предупреждаю и… начну стрелять! Боевыми! - грозно рычал Матюша из-за его стола… - Во, дурачок, думает, что я притворяюсь, и притворяется! - хихикал начальник, кивая в его сторону. - Но никогда не продаст! Вернее напарника мы не найдем. Матюша, поехали! Андрюше пора в дамку! Он сигары любит, Кубу! Понял, и молчи! Аделаида! Антиповна! Вызывай-ка, пожалуйста, машину! Баба, скажу я, класс! Никто не мог к ней подъехать, понял? Я, конечно, оберегал, но естественно. Слушай, может, мы прямо на Пушкинскую сейчас и махнем? И ту с собой возьмем! Она, вроде, ничего тетка. С Дем, но Союза ж? Плохих людей в психушку не прятали. Как кого? Валерию, музу вашей ре.., нет, перестр… Ой, чего это я? Нашей! Нам же, по уму ж!.. - ...Андрюша, Пушкинская! Черт, уже все разошлись, - услышал Андрей после некоторого провала в памяти, обнаружив себя сидящим, точнее, полулежащим на плече Аделаиды и на заднем сидении Волги. Рядом недовольно сопел Матюша, обняв раздутый портфель. Петрович продолжал с задором, вывернув голову в их сторону чуть не на пол-оборота, - но потом сходим. Ты, Адочка, узнала кого рядом с пиитом?.. Музу его? Не может быть, та одна никуда не ходит, и к пииту даже. Поговорить не с кем... Это только Андрюша может!.. - Нет, гитару узнала! – сказала та. – У него другая… - Но ты же на пианине… На пьянино! Другая? Гитара или… Му-за?! Хотя понимаю, я бы тоже. Та похожа чем-то на долгоиграющую пластинку, как и наш меченый. Как завели, так и не смогли остановить… И он таких же завел сообча, сахарноголосых Аттракторов... Но свет за стеклом уже поплыл, закружил, почернел, погас, и на них хлынула волна серебристого мрака, наполнившего салон шелестом тысяч змеиных шкур, скрипом ли змеиных зубов о серебристые бороздки черного диска. Зубы росли, становясь похожими на рога.., да, на рога быка с той картины, но среди черного моря почему-то, совершенно черного, на спине которого, на его, сидела она, Ев… - ...смотри, Андрюша, тут эти сволочи живут! Да, уже перестраивают – не только ряды, шеренги, но и тылы! - услышал он опять, увидев за окном другой пейзаж, смахивающий на то, что видел за границей, в Панаме, просто в Америке, на другом берегу, куда только что плыл вместе с той… на спине. - Ты присматривай! Я тебе подберу, что надо. Сегодня с Адочкой посмотрите, оцените. Не к ней же вам ехать, в хрущобу? В каких же трущобах они народ держали! Мы ж и хотели по плану, как в Панаме, этим похожей и на Фриско… Бывал?!.. ...а тут вновь распахнулась огромная пасть пещеры, с острыми, но золотыми зубами, проглотив все, что было тщетностью… Лишь в конце ее длинной, черной, червеобразной галереи брезжил свет, его ли призрак, тоже прикушенный, но бледными зубами… - ...видишь, Андрюша, мебелишка-то вся не наша? Ничего нашего! Я ведь давно это все предчувствовал и мечтал даже, - услышал он знакомый голос, но уже в просторном и вполне уютном зале, распахнутая балконная дверь из которого выходила в вишневый сад. – Да, мы давно к этому готовились. Внутри, в подсознании быта! Вишь, картинка? Думаешь, наша? Абстракциониста, ПикаСССо, но коммуниста! А мина-то, мина! Мина для Запада! С красным тавро! Эврика… Герника? Ах, да! А рядом, вот, наше знамя... Победы!.. Андрей ничего почти не видел, поскольку все, кроме сада, было в полупрозрачной, вязкой дымке бреда, образуя вокруг него нечто подобное сфере. И только расцветающий сад вырывался из ее плена, словно яркий протуберанец света и формы, представленной пятнами сложных геометрических переплетений оживающих веток, разбрызгивающих капли зелени, свежести на то пламя... Лицо же собеседника было оттуда, из сферы, то и дело затмевая ему дивное видение. Особенно раздражала толстая сигара, выдыхающая из себя клубы другого неба, кроваво-синего. Так и хотелось схватиться за нее и разбить о стенки сферы, ведь тот так глубоко вдыхал в себя чистый небесный воздух из сада, что Андрей даже начал задыхаться. Неба в саду было не так много, чтобы позволить все выдышать этому, выдыхающему кровь, кровавые сгустки дыма и пламени, цвета… … И он вырвался, наконец, на волю, распахнул легкие, выпустил его из-под…, нет, может, и себя - наружу и… ... Но еще быстрее дышала она, низко склонив над ним свое темное, томное, кровоточащее тело с колышущимся веером светящихся в темноте волос. Она и стонала от того, что тот воздух кончался, и его приходилось с невероятным усилием буквально высасывать из окружающей их ночной сферы.., из него самого… Глава 3. Откуда-то доносились вопли уже захлебывающихся пустотой людей, отнимающих друг у друга последние глотки неба, выхватывающих из чужих рук обрывки облаков, осколки их в окнах, лужицах даже ослиной мочи, идущих нарасхват... Даже стены лабиринта схлопывались в растущую ниоткуда пустоту, падали, оказываясь обычными картами. С них осыпались, разбивались об асфальт буден рисованные, окровавленные сердца, часто с забитыми в них клиньями забытья, оставляя после себя трещины в виде крестов. Вот и она, пронзенная, обессиленно упала на него, заслонив навсегда исчезнувшее пространство схлопнувшейся в саму себя памяти. Он и сам проваливался в бездну всепоглощающей черноты, пытаясь удержаться хотя бы за нее, за ее осязаемое, кровоточащее страстью тело, не видимое никому, даже ему, последнему очевидцу жизни и смерти вселенной... - Боже, неужели в абсолютной пустоте тела начинают потеть кровью? - вопрошал он у кого-то, выпихивающего его самого из пространства мысли в виде каких-то странно красных - нет-нет! - черных капелек с самыми разными хвостиками, с мелодичным звоном ударяющихся о стены, полировку мебели, черные стекла ночи. Им некуда было тут деваться, их никто не слушал, и они гасли там, среди звезд, среди их хрустальных аккордов безмолвного света. Слышался лишь их хруст под ногами бесцельно бродящей по миру ночи, похожей на Вечного Шахтера, на лбу которого светился фонарь полной, ослепительно голубой Луны, с трупными пятнами вечности... ...Как ярок здесь свет! Прав был все же Сведенборг: на него невозможно смотреть даже с закрытыми глазами! Но душа все равно его слышит… Конечно же, только тот мир конечен, мир настоящей, реальной иллюзии, где я появился и исчез совершенно неосознанно... Тот мир осязаемой материи, осязаемой этими обманчивыми, предательскими чувствами, всегда готовыми изменить, управляющими нами по своему усмотрению, по прихоти, но по совершенно чуждому для них самих плану, нацеленному на их же уничтожение, деградацию, на уничтожение в целом самой самости ради такой же бессмысленной и бесцельной пустоты хаоса, если не считать смыслом саму смерть, ее сомнительное и для материи удовольствие… В вечно далеком вчера было нечто похожее на то удовольствие, и умирающая плоть пыталась за него уцепиться. Все задыхающиеся чувства сбились в клубок вокруг его источника, который бил мощной струей незримости из тьмы, но проистекал сам в себя, поглощая алчущих его призрачную кровь каннибалов самости... Но не это страшно, не это отвратительно в том мире, а то, что вольный, свободный от чьего-либо плана и алгоритма разум, не знающий самоограничений, не подвластный даже самому себе, так беспомощен порой, а то и всегда, перед этими рабами того, изредка, а порой и рядами, шеренгами преходящего безумия… Какие оды сочиняет эта безумная птичка своей клетке в ее же темнице, питающейся только испражнениями своих собственных вчерашних заблуждений, щекочущих змеиные жала голодных нервных окончаний, готовых с одинаковым аппетитом, без разбора жалить любые клочки плоти ради глотка своих агонизирующих эмоций, считающихся ее энергией, даже душой, похожей на ореолы света в тумане, на облачка ли бренных мотыльков вокруг фонарей. Бедная птичка даже не представляет, что истинное наслаждение, настоящая, а не иллюзорная свобода ее - как раз в смерти этой клетки.., даже в обычном взгляде вдаль, сквозь призрачные прутья решетки строк, когда они мгновенно исчезают из поля зрения вместе с действительностью и несвободой ее обреченности... Как же просто не ждать со страхом этой вечно пугающей нас смерти своей жалкой плоти и тесно связанного с ней мира материи, обреченно сидя у ее постели, беспрестанно подавая ей бесполезные снадобья, а презреть ее, отказать ей в бытие, уже в самой клетке освободившись от подделывающихся под мысли эмоций необходимости несвободы, от слепого поклонения и признания ее самоценности, отказать ей в реальности, уже в смертном плену обретя полную и вечную свободу… Да-да, лишь понять это сложно, даже прочесть! Ведь даже для раба в равной мере легко признать свободу и несвободу своего духа, его смертность, как раба, и бессмертие, как частицы, но вольной частицы самой вечности. И как легко проверить последнее, закрыв глаза и переносясь мысленно в любой уголок вечной воли, куда даже быстрокрылый свет никогда не сможет долететь в качестве пленника наших материальных, сомнительно крылатых заблуждений… О нет, даже Сведенборг видел Вечность и Свободу как раб земного: в телесах и структурах своих заблуждений. Или же от великой жалости и любви к нам он не мог позволить себе просто молчать, поскольку поделиться своим открытием и откровением мог только с помощью этих мертвых с рождения слов. Не мог не поделиться из-за отсутствия у открытого им Добра даже намека на эгоизм антропоцентризма с его скудным словарем… Но любое откровение в материальном мире может существовать только в смертных формах и образах, если только не закрыть на них глаза, удалившись мысленным взором в просторы чистой Веры, единственного способа существования здесь Истины и Вечности… Как это просто - не открывать больше никогда глаз и жить уже там... Не жить, а Быть там, где у слова Быть нет ни прошедших, ни будущих времен, этих хрупких подпорок Дали. Нет даже настоящих, поскольку им не нужно противопоставлять себя ничему иному, кроме самих себя... Но этого нельзя сделать, поскольку Добро, существующее ради самого себя, перестает быть собою или даже никогда им не было. Добро - это и есть возможность существования ради всего остального. Оно похоже на Солнце, которое светит для всего, и для тьмы, и само вынуждено пребывать среди той в воспринимаемых ею смертных формах, доставляя себе ужасные страдания, ужасные своей осознанностью! Но его миссионеры осознают ту простую истину, что чем дальше они проникнут в дебри Зла, Тьмы, тем шире будут горизонты Добра и, что если все Добро устремится, наоборот, к своему источнику, оно просто перестанет существовать, но... Добро и не сможет этого сделать, как и Солнце не сможет сиять внутрь себя. Оно сразу захлебнется, погибнет, взорвется! Ему много себя! Это может только тьма с ее черными дырами, готовыми сожрать все и даже себя… - Нет, и глаза невозможно закрыть... Они мгновенно переполняются смыслом, взрывающим их собственные путы и клети, поскольку для мысли не может быть никаких и самоограничений. Да и зачем это, если для мысли нет и преград внешнего материального мира, который властен лишь над слепо преклоняющимся перед ним безмыслием, страстью, влечением к плоти с закрытыми глазами... Величайшая радость осознания этого просто распахнула изнутри его взор навстречу восхитительному утру нового дня вечно умирающей материальной вселенной, вечно умирающей ради вечного рождения и бытия вселенной Добра и Разума... - Любви и Разума, - поправил его Сведенборг в памяти... Через распахнутые балконные двери в комнату сыпалось сверкающее золото ослепительного Солнца, сквозь полотна которого он не видел никаких последствий вчерашнего пиршества, буйства ли.., превратившего это уютное гнездышко в поле Мамаева побоища. Блестящие листы солнечной позолоты выстелили стены, пол и все находящееся и разбросанное в беспорядке, в страсти и безумии, волшебными полотнами, чистыми холстами утра, создавшего для его возрождения великолепную золотую клетку забытья, куда он беззаботно ступил, сбросив простыни стыда, под которыми кроме него ничего не было. Ничего не хотелось - только пить и пить этот свежий и прохладный свет пробуждения... Откуда-то снизу, из-под земли, из-под пола, доносилось легкое журчание простенькой песни, мелодия и смысл которой ничуть не могли оттенить счастья и сладости голоса, наивно радующегося своему существованию, как это могут только птицы, не ожидающие от нас платы за свои сольные концерты. Ступая по теплому, мягкому золоту солнца, он добрел до расселины, до щели в полу, откуда пробивался родник голоса и, замерев лишь на миг, ступил на лестницу, ведущую вниз. Навстречу ему брызнул лишь фонтанчик счастливого, искреннего смеха... - Ты словно новорожденный! - воскликнула она сквозь смех, даже радуясь видеть его именно таким: голым, открытым, не прячущим вчерашнее под одеждами пробуждающегося вместе с нами благоразумия. - Я так боялась увидеть тебя другим и... убежала, хотя... - Это хотя - на тебе, - улыбнулся он, удивляясь отсутствию у себя и признаков стыда, заметив лишь капли засохшей крови на… - И мне тоже можно его снять? - тихо спросила она, неуверенно теребя кончики пояса, тоже ее заметив, даже улыбнувшись... - А оно тебе очень нужно? - рассмеялся он. – Ты же не веришь в Него, впервые познавшего стыд после нас? В нашем лице… - Нет! - радостно воскликнула она и сбросила с себя путы стыда и сомнений. Он увидел вновь ее тело, но уже не темное, не умирающее, а сияющее властвующей и здесь солнечной позолотой любви, интуитивно воспринимающей все остальное как плоды собственного воображения, но зачастую слишком ими дорожа. Взяв друг друга за руки, они прыгнули с открытыми глазами в поток солнечного света и погрузились в его едва осязаемую пучину невесомой, бестелесной, всепоглощающей и безграничной любви... Они плавали в страсти, словно в необъятном аквариуме с призрачными стенами реальности, за смутной прозрачностью которой также ничего не было, кроме нее... Бедные рыбки, они, очевидно, вечно заблуждаются, считая свой аквариум с прозрачными стенками бесконечным морем свободы, удивляясь постоянно незримым преградам, пугающим их какими-то нереальными и неосязаемыми видениями, выплывающими порой из бесконечности ничего, которое является лишь иллюзией, не смотря на свою недоступность для реальных, живых рыбок, могущих найти бесконечность и счастье беспредельного движения в пространстве позади себя, если только всегда возвращаться назад от этих неприступных и нереальных стен, которые они, скорее, сами и выдумывают, хотя... Если б только было можно вечно возвращаться назад, не натыкаясь вновь и вновь на эти призрачные стены! Если бы научиться всецело верить своему столь осязаемому самообману! Если бы не было их совсем - этих непреодолимых, не смотря на всю свою иллюзорность, стен, отделяющих тебя от этой недоступной бесконечности, существующей повсюду, куда бы ты ни устремился, сломя голову? И как больно бывает столкновение с тем, что мы отрицаем, не хотим признавать - не хотим, потому что и не можем. Единственный выход для рыбок - замереть на одном месте, робко ступая на шаг, на два в стороны и тут же возвращаясь назад, не проникая дальше реального леса огромных водорослей, четко обрисовывающих для нас пределы достижимого! Но чем тогда они отличаются от их подружки, недвижно застывшей на дне аквариума, у вполне реального и ощутимого предела их беспредельности? Да, абсолютный покой - это как раз идеальный вариант отказа от движения вперед, в никуда! Господи, как он отвратителен! Ее участь ничем не отличается от таковой всех этих нечистот и испражнений, что собираются как раз там, у самого реального и безусловно материального предела... И, конечно же, даже самая простая и необремененная разумом рыбка постоянно стремится к другим пределам, упрямо при этом отрицая их возможность и реальность... И, к счастью, она права именно в том, чего не знает, и совершенно заблуждается в том, что может доказать и чем как будто бы живет... - Боже мой, ты не представляешь.., нет, я даже сама не могу представить, как я счастлива! - воскликнула со стоном она, обессилено упав на дно солнечного омута и со счастливой слепотой глядя на него, зачем-то вставшего во весь рост, словно был переполнен только что отданной ей энергией. Она же наоборот не могла двинуть даже пальцем, даже губами, даже ресничками усталых глаз, сморщившихся от света так, что мелкая сеточка морщинок змейками разбежалась от век во все стороны, во все уголки ее тела, опустошенного взрывом страсти и жертвенной любви. Кто бы выключил этой яркий свет истины, в лучах которого и правда порой теряет свою привлекательность! Ведь не зря же все чувственное бежит от его взора в тенета ночи, под покровы тайны и одеяний! Ни от чего, даже от вечных заблуждений они не могут утаить своей бренности и тленности, своей тщетности и ограниченности. Даже звезды теряют весь свой блеск и волшебство в лучах этого света! Ему трудно было скрыть от нее нахлынувшую вдруг на него жалость и он, натянуто рассмеявшись, бросился наверх вроде бы в поисках хоть капли спиртного, реки которого вчера плескались по всем углам этого огромного дома. Да, полупустые сосуды с ним стояли, лежали повсюду, даже на лестнице, что он раньше совсем не заметил. На бегу он жадно, суетливо выпил то, что нашел на лестнице - только бы поскорее смыть с глаз очевидность и ясность взора, омытого очищающей влагой любви и солнца. Держа в руках несколько полупустых бутылок и искрящиеся хрустальные фужеры, он спустился вновь к ней... - А я совсем не хочу, ты понимаешь, - смеялась она над своей слабостью, нежно стирая с него новую кровь. - Я рада видеть все именно таким, каким только сейчас и увидела, ты понимаешь... Она, совсем не вдаваясь в смысл и не понимая его, говорила то, что понял и он, но что он бы не смог даже мысленно произнести. Милая, она отличалась от рыбки только тем, что могла произносить слова, не боясь захлебнуться их смертоносным смыслом. - Как хорошо, что я успела приготовить для тебя целую гору закусок! - продолжала она свое волшебное щебетание, - иначе бы ты остался голодным на всю вечность! Да, потому что я не хочу, чтобы это кончалось. Я хочу любить тебя, пока от меня вообще ничего не останется - даже усталости. Понимаешь, я хочу умереть от твоей любви сегодня или лучше когда-нибудь потом. Я неизбежно умру от этого, но это самое счастливое открытие в моей жизни! Мне так страшно теперь даже думать, что я умру от чего-нибудь другого. Ты не позволишь мне этого? Я прошу тебя! Ведь я даже представить не могла бы раньше, что смерть может быть такой прекрасной! Понимаешь, я словно всегда до этого только бродила по берегу этого омута, боясь замочить в его притягательной, но пугающей влаге даже кончики ног, пальцев... А ты вдруг взял и бросил меня в него... Безжалостно, грубо бросил, но... я теперь не хочу оттуда выходить на берег. Ведь я даже не знала, что я могу дышать только в воде! Да, в воде любви! Боже, я же с рождения только и делала, что преодолевала вечную пустыню ради того, чтобы вернуться, чтобы найти этот маленький оазис, чтобы броситься в его источник и... умереть, как я думала, и как оказалось на самом деле, но... умереть в счастье из ада пустыни-жизни... И чтобы я вновь туда вернулась?! Нет, прошу тебя, останься таким же жестоким и дай мне умереть от нанесенной тобой, кровоточащей раны! Здесь умереть! Не отпускай меня туда!.. Сказав это, она вдруг зарыдала солнечными слезами, посыпавшимися золотыми жемчужинами из ее морщинистых глаз на его ладони, на его задыхающуюся от жалости и сомнений грудь, проникая до самого сердца, где они вскипали от соприкосновения с живой водой любви, которой и он наглотался в том омуте и куда он вновь бросил свое тело пловца, отогнав мысли куда-то вдаль, чтобы они не мешали ему творить зло!.. - Я не могу, я не могу умереть! Боже, милый, дай мне эту возможность! - кричала она, припадая к нему пылающими губами, словно хотела разбиться, как волна, о его утес в тысячи брызг, словно мотылек, жаждущий сгореть в пламени его свечи. - Боже, не могу! У меня уже нет сил жить, но нет сил и умереть! Милый, убей меня просто... сам, когда я... Дай мне какого-нибудь яда, пронзи меня вновь кинжалом, когда я вспыхну, взлечу на волне и... исчезну вместе с ней в вечности... Не мучай меня!.. - Милая, любовь неуничтожима, - пытался сказать он ей, оправдывая сомнения, - мы срываем плоды с ее древа, но не ее саму. Так и вечность, время, из чьей кучи мы крадем лишь песчинки… - Я не любовь, я хочу уничтожить свою жизнь, где нет, не было этой любви, ты прав! - сердилась она и еще больше разжигала свое страстное влечение к смерти, которая и была теперь для нее воплощением вечной любви. - Я переступила за черту, откуда нет возврата! Я поняла, ты понимаешь, поняла, что возвращаться некуда! В этот морг будней? Никогда! Да их уже и нет! Некуда! Все кончилось! Неужели я недостойна своей же любви и своей смерти?! Неужели я достойна лишь того, к чему неизбежно приду, но лет через двадцать, тридцать? К тем развалинам, что уже прорастают из меня, растекаясь трещинами морщин даже по мыслям! Боже, как ты счастлив, что можешь так легко все забывать, даже счастье! Ведь память о счастье страшнее всего! Как его труп! А я не могу, не умею! Я все помню, все! И то, как ты вчера уничтожил, унизил, растоптал меня и грубо, как зверь, взял на глазах у этих скотов! Прямо на столе начал. А потом везде. Но если бы все закончилось только этим унижением! Но этим ты только разбил вдребезги ту стену, что отделяла меня от мира любви! Наверное, ее только так и можно было разбить! Ведь все то грубое и животное было лишь только снаружи, но там, в тебе, куда я проникла, куда ты бросил, поглотил меня, было все иначе, и я не могу этого забыть! Мне теперь этого не хватает! Я задыхаюсь, пойми! И я не знаю теперь, что страшнее: та жизнь или эта любовь. Я не знаю!.. Она снова бросилась в бездну бессилия так, словно пыталась разбиться о ее дно, но ей не хватало и на это сил. И он - ее дно, был не в силах уже уничтожить ее и только мягким ковром расстелился навстречу ей, ее колышущемуся ветру, эху стихающей страсти... - Зачем ты такой... двойственный? - тихо спрашивала она, растекаясь по его телу волной неги. - Лучше бы ты был всегда или зверем, или наоборот... Заманил бы меня, как зверь, в свой лабиринт, про который вчера столько рассказывал, и уничтожил там, растерзал и бросил умирать. Но ты не можешь, я знаю... Потому что зверь - это не ты! Ты его сам не знаешь и, может, даже боишься? И зря. Нет, правда, зря. Здесь зверь гораздо нужнее и справедливее. Только он может разбить эти стены условностей, которые отделяют нас от настоящего, избавить нас от настоящих мук прозябания и медленного гниения. Я понимаю теперь, почему Бог не уничтожает злодеев и тиранов. Я чувствую теперь и понимаю, что приходящее сейчас будет гораздо хуже и злее для нас, чем то, от чего мы ушли. Понимаешь, приносимое этими людьми якобы добро будет вынуждать нас смириться с этой ужасной жизнью здесь, как бы не давая права возмущаться ею, противиться ей... Но саму-то жизнь оно не изменит?! И в чем же будет состоять то добро? Вот увидишь, оно будет в конце концов страшнее для нас, чем отвергнутое вроде бы зло. И хорошо, если у вас где-то в глубине, независимо от вас самих есть этот зверь, который иногда все же пробуждается и будит в нас нечто волшебное и неведомое... Господи, мне кажется, что даже своей жаждой смерти я счастлива, совсем не так, как былой привычкой жить... Поэтому я прощаю тебе твое бессилие и жалость. Твой зверь искупил ее... Может, я зря сняла знамя? Да, ведь ты вчера из-за него.., когда Матюша вдруг начал им размахивать… - Он приходил? Назвал себя? - смущенно спросил он, хотя и сам чувствовал еще недавнее присутствие того в своем теле, где еще оставались следы, быстро тающие, как мокрые следы на асфальте. Особенно он чувствовал его там, в эпицентре гаснущей страсти, и где-то в висках, перестукивающихся меж собой отзвуками мыслей… - Назвал? Какое!.. Он ворвался сюда, разметав, размазав все и всех по стенкам, как, ну,.. трактор! Ты, и правда, взорвался, как мина! Ты здесь рушил все, называя это прошлым, клетью, неволей, самим собой, миром! - смеясь восклицала она. – Да, и себя рушил, рвал - связанного, скованного цепями со всем этим! Ведь ты был им! Разбил все цветочные горшки о голову Фрейда почему-то… Да, и того, ну, гипсового Ленина, который тоже интеллигенцию, разум к содержимому тех горшков низвел! Ты видишь - на стенах ни одного портрета – только Пикассо? Да, ты им в отместку «Гернику» и устроил! Как они перед ним ползали, унижались, умоляли о насилии! Они его хотели! Я даже не подозревала в них этого!.. Хорошо, что они тоже почти ничего не помнят, хотя... Помнят только, скоты, мое унижение, не познав остального… Да и зачем им? Они довольны существующим. Им бы и здесь пристроиться. Ради этого они и этим бы пожертвовали, да им не дано знать, к счастью. Это ж все скрытые садо-мазохисты, привыкшие ползком забираться наверх, чтобы уж потом отыграться... А потом-то и не стало! Остался бы ты зверем, у тебя было бы два верных раба и... одна верная невольница, но ты проснулся сегодня без него. У тебя ничего без него не получится. Жаль. Жаль было даже убирать следы его пробуждения, менять обстановку. Но я убрала! Ты проснулся на белом поле, без красного знамени, которое тебя и возбудило… С этими словами она медленно, покачиваясь, встала и накинула на себя потемневший халат. Солнце уже ушло из окон, что он только сейчас заметил. Роскошь дома как-то скрашивала его пробуждение и даже оставшийся беспорядок был роскошным, вычурным… - Мне кажется, он вчера и ушел, - сказал он, - насовсем… - Если ты хочешь, я вызову для тебя машину? - тихо спросила она, не желая, чтобы он услышал это, не слыша и его... - Нет! - одернул он свои надоедливые мысли. Он не мог сейчас уехать, не мог бросить ее просто так, поскольку сильно хотел этого, вот и цеплялся за последнее... - А они приедут сегодня? - Если позовешь, - усмехнулась она. - Они-то помнят только зверя. Звони – примчатся, может, и Музу уже нашли, идиоты… Какую? Ты не помнишь? Да, так, шутка, ваша вечная отговорка от жизни, которой вам мало… Но я попросила их, и они хоть неделю не появятся здесь, если ты скажешь. Я не была уверена, что смогу умереть быстро... Или не хотела... Лучше умирать вечно... О господи, я не могу! Зверь все равно в тебе... Мы хотим в жизни вас, этакую стенку – прислониться, но любим-то, наверно, того, кто за ней, за стеной... - Либидо лебедя лабуда лебеды, - скороговоркой проговорил Андрей. – В жизни это несъедобно, увы… Твой шеф ничего не передавал? Зачем я им вообще, кстати? Да, особенно сейчас... - Не знаю… Ничего… Он не передаст, хи-хи, он только планирует, - уклончиво пожала та плечами, - а передают, исполняют другие, не знающие – что! У него всегда был вариант Чрезвычайного Плана, ЧП, ЧреП. Вчера хотел с японцами встретиться, меня гейшей звал и вдруг озарило, говорит, понял, что не из искры, а из твоей икры теперь возродится.., но что – не сказал, естественно. А все ты, милый, им подсказал, ну, он… Нет, не знаю, что, прости… Я сейчас... - Я вызвала ее, - тихо сказала она, возвращаясь наверх с маленьким подносом. – Тебе все равно придется ехать… - Зачем? – с сомнением спросил он. - Видишь ли, я не в силах ни умереть, ни жить, как хочу, - отвечала она, садясь с подносом к нему на кровать, - а здесь я знаю, что сама смогу лишиться тебя ровно через полчаса. Не ты уйдешь, не судьба заберет тебя, когда она пожелает, а я сама. Я устала делать то, что мне навязывает жизнь, план. Хоть раз я должна это сделать сама. Жаль, конечно, что поводом к этому явилось счастье, но, увы, от несчастий мы по собственному желанию отказаться не можем. Это нужно иметь дар свыше - отказываться или не замечать их. Я им не обладаю. Но это и не страшно. Гораздо лучше сделать так, чем вновь стать жертвой случайности, неотступно следующей за нами по пятам… - Может, ты и права, - с трудом произнес он, не находя сил в себе соврать, - случайность, похоже, и становится закономерностью, новым планом нашей жизни. Нашей... Раньше она изредка попадалась и в моей, но без особых последствий для окружающих... - Нет, - перебила она его, - я - не случайность у тебя! Не смей так думать! Слишком много случайностей окружало появление ее здесь, в этом мире. День назад ты бы проскочил через наше здание, через всю столицу и через мою жизнь совсем по другому, если бы вообще и я заметила тебя. И этот съезд не назовешь случайностью? У нас их не бывает… Нет, не хочу так! Я думаю, это судьба сжалилась над моими бесконечными ожиданиями и специально все подстроила. Да, потому что если бы это был не ты, то и ничего бы подобного тоже не было. А теперь оно было, есть. И поскольку у меня нет сил - у меня их нет, слышишь - умереть, то я готова жить дальше, но иначе. Я чувствую где-то в глубине себя эту способность. И я к тому же знаю, для чего жить - я лишь должна буду сохранить это, донести это до... смерти и выпустить там на свободу. Ты будешь смеяться, но раньше я моталась по жизни, словно пустая кошелка, и еще возмущалась, почему же я никому - даже себе - не нужна! Господи, как же я теперь себе нужна стала, ты представить не можешь. И даже тебе мне жаль себя отдавать, почему я и вызвала машину. Зачем мне искать смерть и любовь, если они теперь во мне обе. Я же ничего теперь лучше этого не найду и только потеряю, пытаясь улучшить. Это же понятно. Не зря и смерть бывает только раз, поскольку повторить ее невозможно. И любовь тоже нельзя повторить даже с любимым! Как счастливы бабочки однодневки, которые не знают разочарований последствий! - Да, я тебя именно бабочкой и встретил в метро, - улыбнулся он, почувствовав вновь влечение к ее ускользающей мимолетности. - Спасибо, - вдруг раскрыла она полные сияния глаза, - ты тоже не случайность, раз ты увидел во мне истину! Я, наверное, и есть бабочка, была, то есть, ей эти мгновения. Но это же счастье! В твоих глазах я была самой собой, и ты любил меня, а не просто свою фантазию или желание просто любить. Значит, ты не разочаруешься во мне никогда. Я этого боялась. Теперь ты не забудешь меня никогда, как забудешь вскоре все былое, что вдруг рухнуло вчера в пропасть небытия не только для нас, но и для всех, кто еще этого не понимает. - Если честно, то у меня и рушиться нечему, - усмехнулся он, - я словно скользил все это время по зеркалу, ничего кроме него под собой не видя. Как в самолете: пролетаешь над всей землей, над миллионами жизней, судеб, а видишь лишь только облака и тень... - Значит, и я тоже была для тебя чем-то самым важным, первым, - с волнением, сдерживая радость, спросила она, - первой? - Наверное, - искренне ответил он. – Возможно, когда-то я смогу это оценить и обрадоваться нашей встрече, а пока... - Нет! - сказала она, прикрыв ему губы ладонью, в которой словно бы держала горсточку горячих углей, - оставить меня в счастье - это лучшее, что вообще ты мог и сможешь сделать для меня. Представляешь ситуацию, если бы ты подарил мне что-то ценное, а потом бы всю жизнь жил рядом, чтобы только не расстаться с ним, со своим подарком? Как это мелочно! Разве бы я любила тебя за это! Но ты должен одеваться... Да, тебе придется туда вернуться. Туда, где выбор еще не сделан, где все мечутся, как угорелые, присматривая что-нибудь из окружающего и не зная, на чем остановиться: или на уже умершем, или на еще не родившемся! Думаешь, кто-то начнет искать в себе? Мы ведь не знали, боялись даже предположить, что есть что-то неведомое ни нам, ни нашим опекунам, усиленно впихивающим в нас груды использованных знаний - только бы заткнуть глотку тому, что боится появиться на свет, умирая вместе с нами. Да, это, может, и есть твой зверь, которого ты сам никогда здесь не встречал. Вы с ним только местами меняетесь иногда, не зная друг друга в лицо. Да, он и во мне, наверное, разбудил моего зверька, но я-то смогла его поймать и теперь уже не пущу обратно. А как он рвался туда, как хотел умертвить меня, не пожалев для этого даже вечного счастья, которым хотел откупиться от меня. Встретишь ли ты его когда-нибудь? Я бы пожелала тебе этого, но... нескоро. Вы, мужчины, не умете жить прошлым, почему он и лишает вас памяти, появляясь на свет. А тех, кто попытается это делать, мне просто искренне жаль, мне уже жаль их, поскольку их скоро так много будет... Да, я знаю это по своему отцу. Он не смог пережить тех перемен, он почти не выходил из своего кабинета, увешанного развенчанными портретами. Он до самой смерти читал только старые газеты, только материалы прошлых съездов, он бодрствовал только ночами, он ненавидел саму жизнь за то, что она продолжается без него. Может, поэтому и я не научилась жить настоящим, воспринимая его, как пустыню. Наверное… - Ты думаешь, что все происходящее - серьезно, - спросил он, надевая на себя, как вериги, поглаженную одежду, которая еще не остыла от ее горячих прикосновений, - надолго, навсегда? - Я уже не могу думать иначе, - искренне рассмеялась она. – Я, наверное, единственная в стране, в мире, кто это восприняла столь серьезно и навсегда, вот так... А вы все - еще там, еще в зарослях сомнений. Но это настолько серьезно, это настолько реально, как и твое присутствие во мне! Поймешь ли ты это когда-нибудь сам, я не знаю, но подсказывать тебе я не буду. Мы должны будем встретиться там, в вечности, и ты должен будешь сохраниться для нее, понял? Не смотря ни на что, обещай! Как бы тебя ни ломали! Там я готова буду стать твоей рабыней, одной из твоих рабынь навеки. А здесь нет пока... или уже нет этого навеки, поэтому я не хочу даже думать об этом. - Милая, я не знаю, как прощаться, - огорченно бросил он свой плащ в угол, - я даже хотел сбежать, как он, только бы... - Зачем прощаться? - удивилась она. - Знаешь, мой отец был страшно верующим, только верил он в злодея. Я тоже была страшно верующая, но мне не во что было верить. Просто не во что и все! Но теперь я верю! Не понимаешь? Я верю в ту жизнь, я побывала там и знаю, что здесь прощаться не стоит. Мы все равно там встретимся, если только ты не изберешь иной путь, как мой отец. Но твой зверь не даст тебе этого сделать, поэтому я так и уверена... - Но я и не хочу! - закричал он, теряя самообладание, зная, в чем ее ошибка. - Зачем вообще расставаться? Зачем дальше жить здесь, если это только видимость? Почему сразу не уйти туда, куда вместе с вчера ушло и само вчера?.. - Как ты смотрел, когда я говорила то же самое! - плакала она, прижимая его голову к своей груди, - Ты не верил, думал, что я истеричка. Значит, тебе просто рано туда. Ты еще не понял, что это такое, ты просто хочешь этого, но не знаешь, как узнала я. А значит, тебе еще предстоит узнать. Ты должен будешь вступить туда сознательно - иного пути нет. И ты должен - обещай - постараться это узнать. Как Фауст – знать, что остановить. Почти как он, если это можно выразить словами. Но со мной ты не сможешь узнать, если не смог сейчас. Это не просто - в меня... Ты только смог дать это мне. Потому я и вызвала машину, она... ждет. Мы не прощаемся, не надо плакать, милый. За тобой повсюду будет тянуться моя незримая ниточка, по которой ты всегда сможешь найти путь назад - на ту вершину, куда возвел меня! Господи, откуда эти слова берутся во мне?! Здесь наверное и нет других - только такие! Боже, возвращайся только скорей? А для этого ты должен поскорее уйти! Да-да, уйти! Ничего не говоря, не целуя меня, ничего не обещая, поскольку встретиться мы можем лишь там, впереди, где я буду ждать вечно. Тебя там нет пока, поэтому не теряй времени. Тебе надо туда, но я не знаю, куда! Но только не сбейся со своего пути и не верь никому? Даже ему! Их будет много, лжепланировщиков, у которых и на тебя свои планы… Но не хочу ничего больше говорить – это уже не мое, увы, и мне просто страшно!.. Глава 4. А ему некуда было возвращаться, опять некуда было - он не знал куда, своего прошлого у него не было. Он просто уходил, со злостью порвав паутинку, уже сплетенную пауком в калитке. Он даже не знал теперь и страны, куда его несла машина. Он не успел даже проститься с прежней, которую пролетел незамеченным и незаметно для себя, распрощавшись с ней в полете, потом в полном забытьи. Как он завидовал водиле, который презрительно цыкал, не спросив его - куда ехать. Он все знал. Он, словно улитка, все свое – кроме газет, «Известий» - возил всегда с собой в этой железной, уютной скорлупе. Ему стыдно было чуть и за «Известия», которые не читал, что отвлекало от мыслей. Но и тем он лишь пытался оправдать свою забывчивость. Он бессовестным образом забывал все, что оставалось не в голове, а за спиной, впервые пытаясь найти тому оправдание. Но она была права - ему и нечего было вспомнить, что бы увлекло его навсегда в вечность былого. Была успешная, стремительная карьера ученого, полное неизвестности, поисков, будущее, но живая память была пуста и жадно глотала все попадающееся на пути, саму жизнь - разорванным посредине горлом крика. Не было лишь клея для этого… Да что он, случайный прохожий в этой огромной части мира, столь же случайно встретившийся со своей судьбой и даже не заметивший этого, успевший только пожалеть - и то не себя, а сам случай? Ему, можно сказать, определенно везло еще. Сколько менее счастливых металось сейчас по улицам столицы, по закоулкам страны, по их каменным, мертвым лабиринтам, снисходительно созерцающим все происходящее, как неизбежность, как данность, определяемую только ими, мертвыми блюстителями суетной жизни, этой слепой толкотни по их четко обозначенным, огражденным с трех сторон туннелям и тупикам, откуда выход был только один, но его-то как раз никто и не видел, не верил в него, даже боялся.., что он есть... Да и кто бы из нас стал искать выход там, где нет ни стен, ни пола, ни мостовой, покрытой поблескивающими люками подземелий, насмешливо звякающими под ногами толпы, рыщущей в поисках свободы по бесконечным коридорам темницы. И куда они все в конце концов устремляются? К сердцу лабиринта, к самым мощным и непроницаемым стенам его, повидавшим в течение стольких веков не одну толпу страждущих и разочарованных. И эти шли сюда словно эхо таких же, как они, еще недавно проследовавших путем своих предшественников. С теми же надеждами, целями, устремлениями, заблуждениями и верованиями, с такими же находками потерь… Но лабиринт терпел их, поскольку сам-то он и был создан лишь для того, чтобы гонять по своим артериям эту суетную кровь, энергию жизни, без которой он просто бы превратился в никому не нужные развалины. Может, именно он и устраивал это брожение, как по крайней мере считал сам. Ведь недаром он разбрасывал по разным концам своего каменного чрева их кельи, где они были вынуждены жить, ежедневную приманку, за которой они вынуждены были нестись с утра в противоположный конец длиннющих туннелей, те тупички их вечного успокоения и тоже тупички, но наоборот, откуда они появлялись здесь впервые... Не он ли так это все спланировал? А как бурлит эта живая, разбуженная кровь? В каждой капле столько энергии, столько жизни! «Каждая способна воспарить, но куда ей деться из общего потока, который может течь только по предназначенным для того каналам», - думал он, дымя Беломориной из подаренной водилой пачки, так как свои тоже забыл на госдаче… И он никуда не мог деться, хотя, скорей, назло водиле, решившему купить газету именно на площади поэта, тоже вышел из черной Волги и влился в растрепанную, самоуверенную толпу всем подобных, встретившихся с общим для всех случаем, перевернувшим всю их жизнь лишь тем, что поменял местами ориентиры и указатели, а также кое-где снял, сорвал ветром перемен запретные знаки, плоды ли – кто знает. Он словно и не уходил из нее с 1-Мая, из такой демонстрационно-привычной, забыв, куда направлялся, совершенно не зная, ради чего идет вместе со всеми, вьется змейкой вдоль улиц, по коридорам настороженных взглядов, поблескивающих из-за деревьев бульваров, из-под шлемов, из тупичков переулков, из улиток автобусов «Спецназа», где тоже царило непонимание: «Что делается?! Что де… лается?!.. Почему нет команды? Ко-манды! Да мы... Да-мы...» Как быстро они могли бы успокоить это броуновское движение беспомощных частичек, но почему-то никто им не приказал! Может, они их еще и охраняют, оберегают от совершения каких-нибудь глупостей? Хорошо еще, что им никто не приказал думать над тем самим, избавив от необходимости ломать не только чужие, но и свои головы, в шлемах-то! Сломай! Сейчас они были сродни каменным наблюдателям, стенам лабиринта, барельефам, дожидающимся своего часа, когда жертва попадет в конечный, предназначенный для нее тупик, откуда выхода не будет ни вперед, ни назад, ни вправо, ни влево - а больше и некуда... без крыл. «Только в наш «Икарус, Икар-рус»!»... Но счастье и в том, что заблуждениям подвержено все земное, кроме… Он опять услышал те серебряные звуки, заметил мельком ту маску, похожую на крылышки мотылька, но… Везде это но! Кроме памятника и такой же серой толпы, уходящей от него по никогда не зарастающей тропе серого асфальта, там никого не было… - А может ли Медный Пешеход взять и?.. Вряд его можно встретить в толпе, ведь и Мед... поэзии феи собирают лишь там, на цветочных лугах.., - говоря это, он не ожидал, даже испугался, услышав продолжение своих мыслей снаружи, издали – нет, отовсюду, со всех сторон, откуда на него посыпался, накатил грохот, топот тяжелых, медных подошв, подкованных сталью, высекающих из шагрени асфальта ослепительно шипящие искры, из-за которых он не мог раскрыть глаз, но и сквозь воспаленные веки воображения все видя... Толпа, он сам стали только пыльным шлейфом, клубящимся, вьющимся за спиной Медного Колосса, медленно шествующего посреди улицы в сторону горизонта, вслед за раскаленным шаром солнца, скатывающимся с неба по незримым струнам городской перспективы, изломанной аккордами крыш, ладами переулков – туда, в петлю, в лузу медового заката поэзии… - Медузы! Мед уз! Западет? Запал. Западло западу запасть, - гремело где-то, отчего Колосс с курчавой тучей на голове ускорил шаг, целясь кием дороги в едва заметный просвет меж домами и закрывая тот носком сапога при каждом шаге, высоко задирая ноги и громко печатая шаг. – Не выше сапога! Не вы же? Не вы! Москвы… Но кий улицы, увязнув в колючей стене крон, надломился, стал окончанием: лом-кий, уз-кий, тон-кий, мел-кий, – кончив что-то. Пейзаж в глазах Колосса, сквозь кои и смотрел Андрей, слишком быстро менялся. Тот и сам стремительно рос, становясь все выше. Нет, это улица, дорога, бульвар под ним куда-то падали вниз. Вниз, кий! Улочка стала узким мостиком, вот, и канатом, на который нога Канатоходца - в жизни-то лилипута - опускаясь, с трудом, но попадала. Хорошо еще, что канат был корот-кий. Нет, он просто загибался куда-то влево, влево... Андрей едва успевал заметить, как крыши домов, наливаясь свинцом туч, вдавливали, рушили дома вниз и сами съеживались, сливались кварталами в бугристые ряды, тоже загибающиеся влево, влево. Но он еще должен был следить за ногами, где-то там, внизу, становящимися похожими на паучьи лапки, поэтому едва успевал заметить, как весь город вдруг оказался под ним, став похожим на - да, и на спил растресканного ствола, но больше - на грубую, серую пластинку, испещренную ломаными, рваными бороздками и рассеченную радиальными царапинами. По одной из борозд Колосс и шел, ножки его там, внизу, не топали, а как иголки звукоснимателя царапали те бороздки, издавая странные, ритмичные звуки марша пауков… Слева он мельком заметил и этикетку пластинки с красным ободком, знакомым рисунком «Крем-Ля». То было сердце лабиринта, на который пластинка и походила, если приглядеться к ее фрагментам с мелким, путанным рисунком. Но ему было некогда вглядываться - только в моменты, когда он высоко поднимал быстро утолщающуюся ногу, сапогом закрывая целые районы и куски неба. На одной ноге, парадокс, он чувствовал себя увереннее, мог смотреть по сторонам, даже под напором порывистого ветра здесь, наверху, под самыми облаками, цепляющимися перьями за металлические кудри! Еще ему хотелось сыграть, точнее, снять каблуком с бороздок какую-нибудь музыку, хоть «Люсю в небесах с бриллиантами», Гимн ли ГУМа… Гам, но... Гомон гоном гонимого Гнома Ганнибала на Гум-но Гну… Хорошо, что сзади болтался хвост, серый, тонкий, хлипкий, он мог на него не опереться, но вильнуть им для сохранения равновесия, когда поворачивал громадную, тяжеленую голову, переполненную полутора веками с лихом безмолвного, непечатного словотворчества, без единой строчки – все они были в колоколе головы, в извилинах медных кудрей! Он даже не вспоминал об увиденном и услышанном за полтора века, из-за чего голова, седло птиц, поседела, покрылась плесенью памяти. Было не до былого и дум! «Иду было в дым…» Тут, в небесах, он был огромен, мог обежать весь мир за миг! О, нет, паутинные ножки, иголочки, как у гигантов Дали, внизу едва передвигались, скача с борозды на борозду, перемещаясь неуклонно к центру, а не вперед, куда бы он летел, как и огромные голуби, бомбардировщики, и тут доставшие его. Да, пластинка была похожа и на срез пня… То Андрей думал про граммофонную пластинку, и те мысли переплетались с размышлениями Колосса о Пне, и он терял ощущение реальности, забыв и о созвучной паутине, на которую отсюда, сверху город и был похож… Может, то и было обычное состояние того, чьи ноги были якорями, цепями приковавшими Колосса к постаменту, к рукотворному памятнику, с коего не сигануть и на коне? Состояние было ужасно, он осознавал, что мог бы увидеть отсюда и всю землю, как пластинку, но оставаясь прикованным ногами к дороге, среди толпы, что казалась хвостиком с паутинку. Только крылья могли оторвать его от Земли… «Но где они, где Она? Горгона гор гона… Мед поэзии - не мед ведь памяти? Забудь! За… будь!»… Увы, там, внизу, впереди шел не он, а совсем юный мужчина, но тоже поэт, в таком же длинном пальто, держа в руке нечто вроде факела, готового вспыхнуть, воспламенить его слова - он декламировал свои стихи, ну, относительно стихи, но о драконах. Он был невысокого роста, как все, кто шел следом. В толпе все среднего и ниже ростом, но никто даже не вздрагивал при повторе того страшного слова, как и от бросающихся на них шквалов холодного дыхания переулков, где прообразы дракона лишь поджидали удобного случая, команды для драки, так созвучной ему, так ожидаемой им… Может, нашему трехглавому Змею, было трудно остановиться на одной жертве, на толпе? Все были похожи, мало чем примечательны, почему прошлое, отрицавшее незримое, внутреннее, и прошло мимо них, не одарив и взглядом превосходства. Нет, идущий во главе отличался от всех почти царской фамилией, чертами, осанкой, подчеркиваемой развевающимися полами пальто, и его душа гремела, билась о стены лабиринта громыхающими, как доспехи богатыря, страшными словами с длинными хвостами, ребристыми хребтинами букв. Не зря по толпе прокатывался слух, что он не раз попадал в лапы дракона вместе с Ней и сейчас не просто выкрикивал то слово в пустоту, а вызывал того на драку, на что откликались лишь редкие прохожие, вливаясь, будто прячась в толпу с тротуаров, со скамей Тверского. Нет, не Страстного – тот был уже за спиной поэта и толпы, частью которой стал и он, почувствовав себя совсем маленьким... По ребристому хребту ее, как по передаточной цепочке, до самого хвоста, где и шел Андрей, словно ток, пробегал озноб от того слова, но она лишь ощетинивалась решимостью лиц, пиками сверкающих взоров и текла дальше по улицам. Тем более, впереди, рядом с тем Данко и еще кем-то, этаким молчаливым, незримо шла она, извечная жертва драконов, сегодня первой открыто бросившая им вызов, как тогда, в театре – листовки, листы с Древа Познания зла... Она, может, и хотела стать их жертвой, пробудить от сна сказочного витязя, и драконы, может, знали это, почему не торопились показываться из тупиков лабиринта, выжидая удобного случая, когда пробудившегося витязя отвлечет, поглотит с головой иное дело, Дело, спящая ли пока красавица Дефиле, и он сделает иной выбор или сам уснет навсегда, признаки чего были налицо не один уже беспробудный век... - Ты откуда так драпал? - сообщнически толкнув локтем в бок, спросил его сосед с незапоминающимся лицом, кого он сначала и не заметил, хотя тот размахивал над головой плакатиком, как булатным мечом из театрального реквизита. Переиначив ответ, он довольно рассмеялся. - Тоже из Урюпинска? Ура! И у вас так же? Ну, как здесь сегодня: драконы, драки, дураки вдоль дороги… Да? - Нет, друг, - в тон отвечал Андрей. - Избрали депутата, но я не верю юристам – змей: знал, что, когда, кому сказать и уже сказал тут совсем иное. А это, наверно, поэзия, стихия, бунт Муз?.. - Поэзия? Музы? Что ж, глянем на них, хотя тех я среди них не заметил, - неуверенно пообещал тот. - Поэтому тебе надо к нам... Держись меня. Впереди слухачей – тьма, их даже больше. Мы не скрываемся, правда, это я так, по старой памяти. Она ничего не боится... Сегодня просто можно, потому она и не пошла туда, к ним… Те могут все испортить, все портят, прячутся за словами! Подумай, как можно победить дракона, не сразившись с ним? Если без боя дал стать победителем, возвел на свой же постамент, поставил рядом – что это значит? Потому мы осторожны, а не от того, что боимся. Нас они излечили там от страха… Сами теперь и боятся! Ее! Толпа в это время подходила к одной из древних башен, венчающих стену сердцевины лабиринта, отсвечивающую оттенками гоняемой тем по организму живой крови. Сейчас ее тонкие ручейки, капли стекались с разных сторон к одному из ее клапанов, накатываясь пенной волной на стенки, грозя поразить инфарктом, выйти из венозных берегов, обесточить артерии уже агонизирующего организма. Венозная кровь была темной, серо-синего отлива, и ее появление в сердце страны было противоестественным, опасным... Если сердце вдохнет ее в себя и погонит дальше, обратно по каналам артерий к различным органам отлаженной системы, то всем им грозит неминуемая гибель, они задохнутся от собственных отходов, всегда сбрасываемых ими в эти потоки отработанной, безжизненной крови, ранее незаметно стекавшей в скрытые, подземные кровотоки, откуда, пройдя многократную чистку, она возвращалась живой водой, насыщенной кислородом и питательными элементами, без какой-либо зловредной примеси протеста, несовместимости несогласия... И вдруг все нарушилось, вспухли и переполнились подземные кровотоки, прорвались наружу и погнали все это назад, к сердцу, к главному органу кровеносной системы всей страны... И вот волны ее уже докатились до сердца, плещутся о его стенки, напирают с обратной стороны на его односторонне работающие клапаны, которые при всей их мощи могут легко дать сбой из-за нарушения порядка работы. И организм, сердце его защищались, пытались обороняться, искали пути спасения, выходы... Похоже, те готовы были пожертвовать самой дорогой частью тела, может, и самой.., но сперва бросали в жертвенный огонь что-нибудь проще, из толпы, площадного, уличного подобия партий, частей... А толпы, с первобытного стада беснующиеся вкруг жертвенных огней, и не задумывались, не имея головы, над тем, что произойдет, когда среди ночи бунта погаснут костры. Они требуют жертв, всегда ждали жара и жратвы от жрецов, ждут огня, жгут, получая взамен пепелища! Это устраивало и жрецов «жара-жора». - Они вышли… ни... шли… вы.., - пронесся по толпе довольный ропот, - Стан... цин… Соб… кевич.. Аф… ов… Сахар… сьев… Поп… лис... Бур… чак... Ель... нет! Изб... бран... ники... нар... ода масс... Фамилии избранников в свете костра покатились по плечам толпы воздушными шариками вздоха облегчения, словно кто-то проткнул надувшийся дирижабль недовольства и решимости, прорвал его взрывоопасное чрево, ожидавшее лишь искры, позволил истекать напряжению в виде тонких, безопасных струй горючей смеси, нейтрализуемой, разбавляемой свежим воздухом весны и надежд... - Что они говорят? Что… говор… яд? - спрашивали друг друга стоящие далеко от башни, лишь заглушая обрывки фраз, порхающие над толпой белыми голубками примирения, успокоения. Увы, они тут были не у телевизора, где ты мог добавить, усилить звук, тембр, яркость тому оратору, кто вторил твоим мыслям, наоборот ли. Приходилось передавать их речи по живым ручейкам ртов, сокращая, трансформируя, переиначивая формы, смысл, чему помогало и эхо стен. Слова катились расплавленным оловом по головам. – Мы побеж... даем… ем... они против нас… противна... про тиф... их много… ого… до… ста…точно… очно... но справимся с ними… справим… правим с ними... ими... микрофоны… фоны… экраны наши… раны наши... но их табун там… табу... бунт… унт... лед тронулся… лед... трон… победа будет за нами… еда будет… враг дрогнул… рог… гнул… не справятся без нас… правят… без нас... морально поддержать… орально… ржать… жать… благодарят за… благо… дарят… без нас бы не получилось… без нас... получилось… училось... учи... лось... ось... - Не верю, - напряженно вслушиваясь, бормотал его новый знакомый, дергая Андрея за рукав, - никогда не верил ничему. Мы шли поддержать, а у них все в порядке. Но ведь это не у них? Раз они там, в его логове, значит, это у него все в порядке? У дракона! - Тише ты! – шикали на него окружающие, слыша даже их шепот, как одно ухо, - мы не тебя шли послушать… ослу... ушат… - Мы же не послушать пришли? - удивлялся его знакомый. - Не тебя уж точно, змей, - дружно язвили те, перемигиваясь. - Все довольны уж, а ты баламутишь народ – может, провокатор? По проволоке уж будто интересней слушать, чем живых настоящих... стоящих тут… может крови жаждет… знаем таких… проходили уж… - Не понимаю ничего, - тряс его знакомый головой. – Уже все? Победили? В чем победа-то - сказать слово правды вслух, перед камерой, а не в камере? Ну, не перед той камерой, куда потом, а из которой хотя бы… Победа - сказать у костра, что говорили, готовили прежде на кухне? В слове, за которым не следует ничего, кроме слов: ни борьбы за него - ничего? Говорят-то эти – но голосуют-то те! Голос-Уют! Не что делать, а что говорить – в том весь вопрос? Ничего не понимаю... Так все, оказывается, просто? А зачем тогда было все то, предыдущее стольких миллионов – я не о себе, понимаешь?.. - Тебе правды не надо? Пусть опять лгут, молчат? - шипели окружающие одним ртом, слившимся в едином поцелуе революции. – Семьдесят лет лгали – пора и честь... Нет, ум, честь и совесть уж проходили… весть… есть... хватит… накипело… они против – потому за нас… против них – не против нас… против - пророки… против – провокаторы… наконец и в отечестве открыто против… крыто... рот… - Против, против, а что – за, за что? Это западня, запад... Да, знать бы еще – чья, - шептал зашиканный знакомый, ладонью сдерживая тик. – Не так, все не так! Гласность - словесная ловушка для ослов ушка, они в нее и попались, мы тоже, похоже… Не знаю… Посмотри, какой радостью сияют их лица! И почему те молчат, если Гласность? Их молчание – согласие? Или Ложь? - Ну, они против Лжи, но сама не-Ложь, отрицание лжи могут оказаться чем угодно, но только не обязательно Истиной - такова наша земная логика, где правдивым давно уже бывает лишь молчание, - Андрей видел все это, не слыша лишь, что говорили те сияющие, как «иконки», в свете костра, как и прежде – теле-экранов, лица, резко контрастирующие с серым, распухшим ухом толпы. «Блеск и нищета – курам на смех!» Они и смотрелись в толпе, как на экранах, как телезвезды - только рты их, строго подвязанные галстуками, были безмолвны – лишь раскрывались и закрывались... «Можно озвучить любым текстом, - думал он, вспоминая озвучку какого-то фильма. – Главное и тут – сами блики, лики, ики…». Едва смолкнув, отступив в тень, они тут же гасли, словно кто-то выключал и подсветку... Он не слышал слов, исходных слов, не мог верить пересказам, тому, как озвучивала их толпа статистов, зрителей, вкладывая в их белозубые рты собственный, ожидаемый, съедобный смысл, попутно и приобщаясь к съеденному, что явно и было задумано... Что-то в глубине души, под ложечкой зашевелилось, заворочалось недовольно, но успокоилось, когда он отвлекся от происходящего снаружи... - Слушай, ты можешь в это поверить, - настойчиво спрашивал его новый знакомый, чуть не плача, - веришь им, бывшим атеистам? - Аттракторам Хаоса? - переспросил Андрей. – Не знаю, но тоже не вижу Голгофы, но кто ее ждет в конце ковровых дорожек... - Т-т-трак-к-торы? Б-буль-дозеры!.. А т-триб-буна с-съезда не Г-г-гол-г-гоф-фа вам? - напустился на них мужчина, от злости заикаясь. - Ты б-бы в-в-взошел на-а-а нее, с-с-сказал б-бы, что с-сказал он, с-с-сука, на п-п-парт… ты – с-с-сука… к-к-конфе… ф-ф-ференц… - Лист, - подсказал Андрей, добавив. – Как с листа! - Уж конечно, трибуна с перекрещенными серпом и молотом – крест! Одним косят, другим гвозди вбивают! - подхватил знакомый, радуясь его поддержке. - А кресла красны от крови распятых… - От менструации революции! – со смешком добавил Андрей, вспомнив что-то, - с того и бесплодной, как и та, старуха… - Да в-в-ы, - сверкнул на них тот какими-то оловянными глазами, - п-п-пошли в-во-он! С-с-с-свобода им не… н-н-н-нрав-ав-ав… - Пошли отсюда, - потянув его тот за собой, - или я сейчас умру. Это хуже дурдома, откуда недавно выш,.. точнее, выпустили прям 13-го марта. Здоров, мол, годен для!.. Что, сильная магнитная буря была? Все ясно: тут такой же дурдом: вожаков много - настоящих буйных лишь не хватало… Как-как, Аттракторов? Зародышей Хаоса? В точку! Ты сам не бывал там? Да, и так вижу, что ты не из нас, не из наших. Но почему-то верю тебе. Может, больше некому? Пойдем, а то я вновь туда попаду, хотя и не против: там – все настоящее. Теперь по-настоящему и попаду, хотя они вряд возьмут. В Сербского! Я нужнее здесь, где все стало так похоже... Да, как после той бури 13-го! Глава 5. Они медленно удалялись под яростные взоры сплоченного глаза толпы от грозовой тучи ее одобрительного гула, отскакивающего от живой, вроде, стены в притихшие сумерки, как полуспущенный шар, привязанный к Кремлевской башне нитью, канатом, не пускавшим его далеко, вновь возвращая к стене. «Бум-бум! Бунт… унт…» - балансировал кто-то на нем с микрофоном на незримой веревочке… - Ты никогда не ночевал под мостом? - спрашивал новый знакомый. – В лесу, в горах? А просто в сквере? Ну, можно пойти и туда, там есть и спальники, но это тоже сегодня противно. Я бы пошел под мост, хоть далеко. Там нет людей, а я их боюсь, они тут в каждом переулке, за каждым углом, в каждом окне. Не видишь? Я тоже не вижу, но чувствую, хотя мне чувства и притупили, загнали в угол уколами. Как раз и страшно, что не видно, хотя увидеть воочию хуже. Темнота оставляет надежду. В психушке я жил ночами, был самым спокойным пациентом, днем все время спал будто, где удавалось, закрывал глаза и прятался в темноте, которую они опустошили, от того, точно, Хаоса. Я мог жить там вечность, и зачем меня только выпустили на свет... - А за что.., то есть, почему тебя туда упрятали? - деликатно спросил Андрей, вспоминая лишь книжку Ломброзо о безумии гениев. - Ты никому не скажешь? – пугливо озираясь, спросил тот. - Так вот, я нашел... логово Минотавра. Нет, его самого я там не видел, не знаю даже, каков он был, но его логово я нашел… случайно... - Ты нашел его логово?! - поразился Андрей. - И где? - А я еще думал, почему ты на меня так действуешь, так к тебе тянет, - восхищенно произнес тот, - вон почему! Ты тоже ищешь его? - Ну, не то, чтобы ищу, а так, - неуверенно отговорился Андрей, топая за ним на северо-запад, почти обратным путем... - Все равно, - довольно произнес тот, не ожидая ответа. - Знаешь, где оно?… В словах. Не веришь? И я бы никогда не подумал. Но оно там. В написанных, конечно, словах. Про такие не знаю пока, ведь я не оратор. Никто бы не подумал, почему он там и прятался. Раньше я жил только там, читая все подряд в Урюпинской библиотеке, читал полками, стеллажами, пока не добрался до одной книжицы... в истертой обложке, без титульного листа, так что даже названия не знаю. Да это было и не важно, я ведь читал одну общую книгу, листая их, как страницы, переходя из одной в другую, как здесь с улицы на улицу, из дома в дом. Да, жил в Книжном городе, даже в мире с разными книжными страни,.. ну, странами, городами! И там я побежал по улочкам строчек и - я не все точно помню - на одном слове вдруг споткнулся и провалился в бездну, как в люк. Я не мог оторваться, выбраться из него. Я, наверное, неделю жил в нем, жил им, пытаясь понять его, рассмотреть все закоулки, уголки, пока вдруг не услышал страшный рев и топот... Это приближался он. Я сразу понял, так как жертва выкрикивала его имя, моля о пощаде. Я мгновенно выскочил оттуда, успев лишь обжечься о его дыхание, как о кипяток, даже словно бы о кипящую магму... Через месяц я вновь попробовал читать и в первом слове вдруг почувствовал его тошнотворный запах. Во втором, в третьем,.. будто наступал на мины люков. Из четвертого выскочил навсегда. Больше не читал. Не читаю и наше “Свободное Слово”, боясь с ним и там встретиться, услышать душераздирающий крик той жертвы… Сразу теряю зрение, внешний мир пропадает, а там, внутри меня, теперь ничего нет, меня даже нет, они все там вытравили, выдраили – пусто, мрак! - Слово, звук, форма – разные вещи, хотя формы и похожи на решетки клеток, особо строки, иероглифы, идеограммы. Может, ты лишь рев его слышал? Раньше я, кроме катастроф, занимался изучением слов, их смысла, почти материального содержания. Наша наука изучает материю, самую мертвую, но из родственного углероду кремния, из которого строят и стены лабиринта, - прорвалось из Андрея забытое, сознательно, интуитивно забываемое. - Перед нами стояла задача: создать из старых слов - не язык - новую науку, где слова, термины адекватны объектам, материи вселенной. Да, может, и но-вый мир, как пытаются ныне и эти, подменяя слова, понятия, некие исходные условия, чем сознательно обрекая на Хаос всю систему... - Но ведь вселенная - это не только материя, вещи? - тревожно спросил новый знакомый. – А свет, пустота, мрак? Их больше... - Да, темной материи, темной энергии намного больше. Но для нас тут все - материально, на чем мы и стопорнулись, во время научной революции 1905-го совершив другую, отвергнув ту махом вместе с Махом, вместо теории относительности признав Ленинскую, то есть, юридическую относительность Истины, потом и оказавшись у края бездны отвергнутого нами Идеального: энергии, информации. Шеф то знал и хотел, точнее, должен был материализовать все и там, начиная со слова, сделать типа каменный мост над той бездной, потом этим словом уже манипулируя всем, как в магии почти, в Гласности, - вспоминал Андрей. – Слова он и считал кирпичами разрушенной Вавилонской башни, руины которой надо было разобрать, упорядочить. У него были заказчики тут, на Старой площади, где ему не жалели денег - так хотелось сделать энергию, информацию, ну, и Хаос управляемыми, как и слова их лексикона. Раз нет Бога, Веры – хотели то заменить наукой! Фюрер хотел - магией, а мы – наукой! Ведь то парадокс: в стране материализма самой материи, точнее, вещей не хватало, жили идеологией, идеей и материализма! Да, Идеей, потому и были духовны, идейны. Тут дилетант Оруэлл дал маху со своим Скотом, сугубо западным, потребительским, что им и аукнулось в их Обществе Потребления, обжорства! Наши, да, хотели материализовать и идеи, убрать то противоречие, сделать слово подобием цифр, язык – математикой, как Пифагор, Каббала. В том была их и его ошибка: они не представляли, насколько иррационален мир чисел за запятой... - Вы, то есть, они и хотели сделать все скотным двором, – поразился своему знакомый, – но Оруэлла не признавая? Читал, класс! - Бред! Хотя, увы, после «1984» начинает сбываться, - усмехнулся Андрей, – странное совпадение. Но я ушел. Нет, было интересно! Но он и на всех смотрел материалистически. Разумно, цинично, пошло, физиологично. Не трезво лишь – пил, промывал авгиевы конюшни. Да, как сейчас, после сексуальной революции на Западе, почему, видно, идеологических противоречий не осталось наверху… - На Западе?! – недоверчиво воскликнул его знакомый. – Ты о чем? Там свобода, господство права, изобилие? Бред! - Ты был там? Да, понимаю, - скептически усмехнулся Андрей на его молчание. – Кто был – был в Лувре, но чаще в шопе! Для остальных был Битлз, джинсы, вылизанная до задницы цензурой культура, но не Поп, не Пост! Рыночный рай, но Парнаса! И нас зовут от криницы к рынку! Вместе с идеальным, непогрешимым пролетарием! Но ты не представляешь, насколько духовно оскудел, оскотинился в массах, в Попсе зажравшийся Запад, пытаясь постмодерном приманить к своей кормушке-культуре хоть что-то из Античности, Эллады, и получая нечто давно переваренное, но в превосходной упаковке. У них все из былого, сзади: наследство, архетипы, полный ночной горшок Зигмунда, секс... Лишь мы, материалисты, жили иллюзорным, но будущим, мечтой, мифом, утопией, отвергнув прошлое! Не Фрейд им то придумал, он лишь честно констатировал превращение члена стада, особи в личность с мозгами еще полу-зверя, но с алчностью, жаждой, похотью полу-человека. Для нас потребность в потреб-союзах была примитивом, а в обществе потребления стала смыслом, способом существования, мышления. Захотел – поимел! Коммунизм вещизма! Хиппи вымерли, оставив после себя джинсовые чучела, манекены, или стали поколением-Х, не знающим, что им надо из изобилия ненужного! Но они сохранились у нас – отвергнутыми, брезентовыми бичами, бывшими, но интеллигентными человеками, отвергшими вещь! Я не говорю об их интеллектуальной элите – только о Pop-Star’s, о стаде Минотавра, египетских ли человеко-зверей, среди которых не зря так много шизофреников. Ленин хотел насадить у нас шумерскую цивилизацию учета, труда, ликбеза, свободной любви рабочей скотины. Не зря он не трогал Суоми, язык чей похож на Сумерский! Увы, сталинский, почти религиозный страх вновь загнал зверя, опознанного раньше Фрейда Федором Михайловичем, в клеть подсознания, и мы забыли о нем, выпуская на волю чаще по пьянке. Снаружи была стальная маска, Аватарка «нового человека» Островского, а под ней – ничего былого, традиционного - тоже новое, не запрещаемое партией, но рекомендуемое прежде и церковью, не только Христа, изгонявшего менял! Увы, Оруэлл, Булгаков не были учеными, очень несамокритично делая общие выводы из частного. И Булгаков перепутал цепных псов, дворняжек ЦК, Кремля, Шмондеров с выдуманным Шариковым толпы, не мог ли не перепутать из страха, занизив планку аллегории. Это лишь высокомерие незнания! Не было и массовой шизофрении у нас, как на Западе, вотчине психоаналитики, но где вслух кричат лишь о раздвоенности русской души почему-то… - Ты это говоришь мне?! – знакомый даже поперхнулся от негодования. – А ты бывал там, как его Мастер, чтобы так говорить?! - А он? Систему не познать, пребывая в ней, - усмехнулся Андрей. – И о каком «там» ты говоришь? Оттепель убрала барьеры смертного страха, выпустила и нашего зверя, но доселе лишь внутрь нас самих, снаружи он был не нужен никому, не принят, да и запретен, вот и обосновался на кухне, ближе к корыту. Снаружи сперва в горы звал, к «Зияющим высотам», а потом – к Зинам по магазинам… Но он проснулся, очнулся, ему стало тесно в нашей клетке, он тут же вступил в конфликт с рассудком, разумом, с клеткой и системы… - Сказал бы ты такое про Булгакова, про Вову при ней, – сокрушался знакомый, - здесь, где его книги – почти Библия, а песни того – гимны! Все наизнанку вывернул! Ладно, а сейчас что тогда?.. - Я и думаю, что будет, если нашему зверю дадут вмиг полную волю, уберут заборы, решетки запретов, - продолжал Андрей, вспомнив вдруг про «Беломор», угостив и знакомого папироской. – Даже страшно предположить, но представляю… Он ведь разрушит и нас самих - у нас против него нет ни заветов, ни знаний, ни воли, ни традиций, ни опыта! А они и хотят это сделать, дать ему полную вольницу! Скотный двор, зверинец уже без аллегорий?.. Хаос! - Свободу слова, собраний, совести! – поправил знакомый. - Да, вначале было слово, - рассмеялся Андрей, - а зверь тот очень разговорчивый, по партсобраниям уже соскучился. - Слушай, есть для тебя что святое? – спросил вдруг тот. - Шариков – святой? – спросил Андрей, затягиваясь будто временем, которое вдруг помчалось. – Извини, но все это и порождает «Сон разума…» там, где ты побывал уже, или на полпути туда… - Нет, я не собираюсь запрещать тебе даже заблуждаться, и она бы не стала, думаю, но лишь могла бы возразить, потому тебе все равно надо к нам, - миролюбиво сказал знакомый, осторожно вдыхая сладковатый дым. – Я про другое хочу сказать… Думаешь, меня потому и выпустили, чтобы посмотреть, что же с ним будет? - Нет! – ответил Андрей, поражаясь, как мелькают последние кварталы, шоссе под ногами. – В тебе же его, ты сказал, убили… - Не знаю, не уверен, - хмуро сказал тот, пряча глаза в дыму, - но все нормальные желания, как бы ты сказал, инстинкты – точно убили. Пусто там, понимаешь, ничего нет. Но ничего и не надо, вообще ничего, я даже есть никогда не хочу – так, если есть… Что еще? А, женщины - женщин я не вижу, женщин… И она для меня – не женщина! И в этом я ничего не хочу, не жду… для себя лично. Странная личность, да? Хочется, сильно хочется воли вокруг, везде, от всего, куда бы вырваться и навсегда! Но кому вырваться, для чего, зачем – не знаю, правда, совсем не знаю. Знаю, что не хочу в прошлое, в клетку, почему и хочу разрушить ее, все там порушить, что знаю, даже тот Книжный мир, но тот лишь… А тут - не знаю, поэтому и легче, наверно… Ты прячешься в мысли, а я - нет, не могу, боюсь… - Потому и выпустили, зная, что тебе ничего не надо, как самому Троянскому коню - в Трое, - сказал Андрей, закрыв глаза от странной легкости, когда они оказались под широким мостом через канал. – Самый надежный, проверенный Аттрактор Хаоса... - Да, трактор? Его железный конь? Точно! – воскликнул тот. – Я так, скачущим, волю и представлял! Хотя больше всего влечет к себе река. По ней бежит живая вода, хотя здесь она заключена в каменные стены, но не лишающие ее общения с небом. Живая вода им неподвластна! Хотя в каменных туннелях Неглинки и она как в одиночке... - Вот именно, - сказал Андрей, тоже представив себя на коне, но крылатом, пытаясь понять случившееся, промелькнувшее мимо. - Почему нам, изучающим камень, поручили создать язык, систему из наиболее материализованных в нашем сознании слов, терминов, кирпичей башни? Может, опыты Иосифа с живым языком не дали результата? Да, ведь он языком занимался! Откуда у сына сапожника из Колхиды, как и у сына перчаточника, такая тяга к языку? Он индустриализирует, материализует страну, но в это время тайно, как алхимик в пещере, занимается словом. И успешно, ведь его незамысловатое, вроде, слово правит! Мы, скорее, были следующим этапом, работали на его учеников. Первые слова в мире вырезались на глине, на камне, мы должны были их сделать камнем, мертвой материей, будто бы вечной, без моральных потуг, обязательств. Вечной, не бренной! Как злу стать вечным в этом мире после приговора Творца? Перестать зваться злом, грехом! Не в виде безмолвных истуканов, а в виде живого языка, который сам за себя говорит то, что… лишь разум-переводчик переиначит согласно истине... все равно переиначит… - Ага, и вдруг такой удар под дых! - мстительно воскликнул знакомый, последнее уже не воспринимая, проскальзывая... - То есть? - не понял и его Андрей, прохаживаясь под мостом. - Ну, перестройка эта, Гласность, съезд, - пожал тот плечами неуверенно, собирая щепки, хворост. - Ведь это же все вразрез? - Не уверен в том после Гласности, словом изменившей наше видение, восприятие прошлого, превратив в «черный лист», - сказал Андрей. – Холсты для картин и грунтуют черным или белым. И тут, не меняя картины будущего, решили просто подменить грунт… - Как ты все усложняешь! – воскликнул знакомый. – У нее все просто, ясно: свобода слова, право, парламент... Эти, новые, все объясняют на пальцах... Истина же проста? А в твоем понимании можно заблудиться, как в лабиринте! Не боишься сам сойти с ума? - На трех пальцах? - усмехнулся Андрей. – Истина проста - путь к ней не прост... Сойти с ума, скатиться с вершины, особо, идеальной горы, можно по любой тропке, идейке… - Подняться - тоже по одной, любой! – радостно воскликнул тот. - Да, - кивнул Андрей, - но сходишь от одного к одной из множества случайностей, то есть, никуда, что не учли Заратустра, Моисей, возвращаясь вниз, где Канатоходца, скрижали пришлось разбить... Вишну не сходил, а воплощался в Аватара: Раму, Кришну, Будду... Но поднимаешься всегда к одной единственной вершине, где нет причин и для шизофрении! - А Христос? Он тоже сходил с горы! – возразил знакомый. – Мне там один… говорил, от чего его и лечили. Наука лечила веру! - Он, воплощение Бога, взошел с дьяволом, ничего не взял вниз, отвергнув, как искушение, и путь с крыши храма, - усмехнулся Андрей, – и вознесся в конце пути земного! Возврата Его и ждут уже как кару, и зря! Это - не путь богов, а путь смертных: возврат в прах! - Ты, ученый, и так серьезно это говоришь, словно веришь? – усмехнулся тот, разжигая костерок. – Я – псих - и-то… не верю! - Во что? Многое я узнал от физика, на краю зияющей вершины вулкана, - рассмеялся Андрей – Он, хоть и адвентист, правда, верил в то, что знал! Он сверху видел всю гору, что любой внизу счел бы сумасшествием, как и Ломброзо - был такой оценщик гениев снизу, из подсознания. Это как если бы Минотавр рисовал Пикассо, а нижняя половина Карамазова судила Достоевского, хотя было такое… - Карамазова? Не намек ли на убийство, судилище отца народов, алхимика твоего, его же созданиями, ну, и на Гласность, на съезд чревовещателей? Не подумай, я не о себе, но такое высокомерие даже истины никто не воспримет внизу, - вполне добродушно заметил тот. – Одно дело – ученики, идущие вверх, а совсем другое – бывшие школяры, потребители и знаний, свалившие навсегда с предгорий, разочарованные жизнью в наивности учителей, все то считая прошлым, азбукой! Я и про тебя! Если б ты жевал более смачно, заражая их, подогревая аппетит, как те и делают, кстати, но ты предлагаешь то, что им не по зубам, набивающее оскомину, что никто не примет! Зачем им? И я не знаю, почему принимаю. Твой мозг, вообще мозг похож на лабиринт – я и хочу потому с него съехать, с твоей горы - туда! - Вас тоже меньшинство, сам говорил, по Ломброзо наполовину гениальных, - усмехнулся Андрей, присев у костерка. – Толпа же последователей, как и логическая куча, часто вводят в заблуждение, особенно идущих впереди, спиной к ней, слепых поводырей. - А река? Похоже, ведь? – задумчиво спросил тот, погрузив взор в воду. – Не курил давно, повело… Странные папиросы, но к месту… - Река - то, что мы видим, привыкли видеть, но чего нет, вообще-то, - отвечал Андрей, глядя, но с закрытыми глазами поверх канала с красной водой. - В детстве я видел иное воду. Эта и похожа на вены Франкенштейна... Не смотри, ты видишь лишь себя, свой лабиринт, тупики своей памяти. Да, как и Сиддхартха - свой, другой лишь, им самим создаваемый. Ты прав, наверно, он - в голове, и в голове тоже, как прообраз… Но это, впрямь, никому не нужно, все давно привыкли жить, обжились в нем, в них, созданных по его образу и подобию, в каменных Лабиринтах, как и ты жил в своей Library, находя тут Labor, даже свою Liberty – все, кроме себя, наверно… Афганцы же его называют Варта, почти Врата, сразу и выход из него... - Как можно найти самому самого себя? – спросил тот. - В нас есть и кого, и кому искать. Мы, может, и сами – чьи-то Аварарки, - ответил Андрей. - Ты ошибся, он – не в слове, слово, Word – лишь Ворота туда, в другие миры, какие - не знаю... - А мосты на что? – спросил тот. – Сидоров, кстати! - Англичане называют Лабиринт Maze. Мосты? Крылья Музы, - отвечал Андрей, и того видя сейчас женщиной, бросающей на него пылкие взоры. – Связи системы, как и почта, телеграф, которые Ленин и брал, хотя разрушал систему, порядок, причем задолго до Пригожина, Манна с их теорией и управляемого хаоса! Мы трижды в истории смогли его преодолеть, а, вот, французы уже пятый раз не могут! Да и весь мир туда ныне катится, раз Хаос уже стал теорией политики, их свободой... Но наша трагедия в другом: у этой революции нет Музы – лишь Мужи, но женоподобные, и мужеподобные женщины, словно в том и революция. Слова ее мертвы, банальны: звон копыт Золотого Тельца! Это – даже не Минотавр, а целиком зверь, с нового Скотного двора, но уже буквально, как раз после «1984»! Отвратительное пророчество Оруэлла, рвота мозга, блевотина ора, но сбывшаяся… - Зачем ты так сказал? – с досадой спросила та голосом Сидорова, отпрянув. – Мне вдруг показалось, что у меня опять появились,.. ну, только одно, но такое сильное… Там еще появилось, но лишь сейчас я поняла, вспомнил… Вспомнила… Я ведь потому испугался тогда, что он за мной гнался, хотел меня, как… Нет! Я себя испугался, ее, кого он увидел во мне, кто… хотела там остаться. Она сразу узнала его в тебе, только я не понял, не мог вспомнить, они ее так глубоко в меня загнали… Вот, туда!.. Это все папиросы. Забудь, прошу тебя? - Забыл, - кивнул он. – То все - папиросы, план ли Петровича… - Петровича? План? Мари дона Хуана? - бормотал Сидоров, засыпая под мешковиной, которую Андрей и спутал с платьем той… - Да, и море га шишей! Маскировка, мистика, мастика, масть, мост, Maze, - бормотал он, прохаживаясь под мостом через канал… Нет, то была уже не Москва… Взгляд его парил над зелеными полями обширной долины реки, обрамленной хребтом с заснеженной двуглавой вершиной вулкана. Чем-то он напоминал ему Камчатку, но взгляд был прикован к берегу реки, где на плоском холме раскинулся странный городок, похожий на горные деревни Кавказа. Нигде не было улиц, проулков, это был город-дом, обнесенный со всех сторон высокими внешними, кирпичными стенами множества домов, словно детские кубики, сливающихся внутренними стенами в одно целое, в громадные, но лишь квадратные соты, закрытые сверху одной, ступенчатой крышей, где со ступени на ступень, с крыши на крышу можно было переступить, перебраться ли по приставным лестницам. Крыша каждого дома была и двориком, где странно одетые люди занимались хозяйственными делами, копошась словно пчелы, порой ныряя вниз, внутрь своих жилищ, тоже по деревянным лестницам через проемы дверей, прикрытых сверху самыми разными навесами, загородками. Навстречу им из некоторых дверей в небо вздымался дымок, наверняка, из очагов. Среди мужчин было много камнетесов, мастерящих из сверкающего на солнце обсидиана наконечники, ножи, ложки, даже вилки. Рядом работали гончары, лепящие, разрисовывающие всевозможную глиняную посуду замысловатым, цветным орнаментом. Не мог он не заметить и художников, толкущих, смешивающих в чашках краски, скульпторов, а, особенно, как ему показалось, таксидермистов, занятых выделкой, обработкой голов быков, которые паслись недалеко от города. Перед некоторыми на тронах сидели дородные матроны. С края каменщики занимались кладкой внешней стены нового дома на месте разрушенного старого. Плотники перекрывали длинными бревнами его крышу, мостили будущий двор… Ощущение полета было странным, словно он шел, скользил по стеклянному, как голубая радуга, мосту, держа равновесие с помощью едва осязаемых крыльев, сложив которые, вдруг нырнул в одну из дверей, как в нору, сквозь сизый дым, поднимавшийся из округлого очага, обмазанного, как и почти все поверхности, стены в просторном зале, белым гипсом, из-за чего внутри было довольно светло. Он даже растерялся сперва, заметив на стене крылатую тень грифа… Но это была не тень, их там было несколько, огромных черных птиц с надломленными, как на гербах, крыльями и уродливыми головами грифов, разинувших клювы на тщедушные, мечущиеся по стене человеческие фигурки без голов, что с грифами, видно, и символизировало смерть для жильцов, как, и для него, и себя воспринимавшего со стороны, из кинозала черепа, особенно, в памяти, в детстве… Но голов тут было много. На внутренней стене, вокруг подобия лепного алтаря, повсюду были муляжи, чучела бычьих голов с острыми, отполированными рогами, главными тут украшениями. Они и просто торчали в стороны из каменных постаментов посреди зала, символизируя хозяина, божество дома, в черепе которого были порой сокрыты и человеческие. На полке, выступе стены стояло множество статуэток, чаще дородных телесами мадонн, запечатленных на креслах с младенцами, порой хвостатыми - на руках, и в момент родов, но не только сынов человеческих, сложивших будто в молитве ручки, словно ныряя ли в этот мир из чрева, но... и тельцов! - Пасифая, Пасифая… - бормотал он озадачено, потрогав рукой один из гладких рогов, торчащих из символичной женской груди, и тут же проскользнув сквозь округлую дверь в небольшое, явно подсобное помещение, кладовую, и далее, сквозь другую стену, в зал смежного дома. Там боковая стена была расписана многолюдной сценой, посреди который алел огромный бык. Фигурки людей вновь были тщедушными, примитивными, едва обозначенными краской силуэтами, как и в пещерах, но порой с лихо торчащими фаллосами. У некоторых были подобия хвостов или крупов на слабых ножках, как у символических кентавров. Потрогав вновь гладкий, смазанный чем-то, рог, торчавший из невысокого, по... пояс, постамента, он вновь проскальзывал сквозь стену в другой дом и далее. Везде его встречали их головы с распахнутыми объятиями рогов… В одном из залов стена над невысоким каменным ложем, застеленным шкурами, была расписана темными квадратами с полуокруглыми белыми… экранами, как у телевизоров… с белыми же круглыми ручками настройки по краям. Панно, широкая ли полоса тех квадратов в несколько рядов, конечно, напоминали собой и символичный план этого города, составленного из таких квадратных сот, но он видел все и по своему, заметив здесь много символов из будущего, узнав, наконец, сквозь пелену памяти кое-что из описания самого древнего города на земле Трои, в Анатолии, ровесника, как он читал, уже иных, особых стен Иерихона, разрушенных все же Музыкой… Услышал ее он, столкнувшись в одном из залов со стройной, юной красавицей, скинувшей с себя на рога постамента белое платье и обмахивавшейся крылом лебедя – так здесь было, стало ли вдруг жарко. Она стояла перед алтарем с тремя украшенными бычьими головами, стена под которыми была облеплена множеством отпечатков ладоней, изумленно, но без испуга разглядывая его миндалинами загадочно сверкающих глаз. Напевая что-то, она взяла с постамента второе крыло, медленно подошла к нему и обняла его крыльями, увлекая за собой на подножие алтаря, устеленное шкурами леопарда. Она явно ждала его. Смуглая кожа ее благоухала ароматом каких-то трав, от которого кружилась голова, а кровь внутри закипала, переполняя его силой и негой. Помогая ему разоблачиться, красавица и его умастила настоем тех трав, водрузила ему на голову, будто корону, череп с мощными рогами и, тоже сгорая от нетерпения, забыв что-то из ритуала, приняла его в себя, как быка, обагрив первой, кричащей от страсти кровью. Но и замутненным, полубезумным взглядом ему хотелось видеть ее лицо, так оно было красиво, так страстно сверкали ее глаза и пылали чувственные губы, не знавшие даже на словах поцелуев, раскрывшиеся словно цветок навстречу первому, переполнившему ее неутолимой жаждой... Все для них было первым, незнакомым, даже для него, не узнававшего себя, прежде существовавшего отдельно от своей страсти, вдруг переполнившей его невероятно буйной, но отчетливо осознающей себя силой, мощью, не просто ищущей выход, а жаждущей поглотить, познать весь мир красоты, любви, стать с ним единым целым, достигнув его вершины, откуда и воспарить… - Куда-то бегал? – спросил Сидоров, с неохотой выбираясь из своей норки и насторожено озираясь. – Губу прикусил даже… - В Чатал-Хуюк, - тоже удивленно глядя вокруг себя, ответил Андрей, чувствуя соленый привкус во рту и сдерживая дыхание… - Читал ху... Кому? – переспросил тот, ежась от утренней прохлады и зевая. – Тоже торкнуло? Я просыпался, но тебя не было… - На его родине был, наверно, - рассеяно отвечал Андрей, пытаясь вспомнить детали странного, радужного видения, особенно ее лицо, так не похожее на другие, но память стремительно гасла в нем, словно вспышка света, прячась и закатываясь, как солнце, вместе с волнительными, яркими ощущениями куда-то под сердце, оставив след только там, где он еще помнил ее горячую, пьянящую влагу… - На Крите? – осведомился тот, словно обшарив его взглядом. - Нет… То был не лабиринт, а наоборот. Я раньше думал, что в том городе-сотах культ пчелы и, понятно, матки, мадонны, как считал археолог Джеймс. Думал, что понял и смысл восковых крыльев Икара. Миф же о нем терялся среди случайностей лабиринта Крита. Но там, в первом известном городе, был именно его культ, был его дом, его и матери Пасифаи город. Человеческое тело лишь считалось смертным, его хоронили, а смерть – потерей головы. Но сами головы – нет, они увековечивались, причем в голове быка, под ней. Да, бык был первым, главным домашним зверем или, как мы самонадеянно говорим, скотом, близким, дорогим для человека, еще не забывшего своей родословной, но… Дело не в быке, не в бытовом прагматизме – в самом человеке, его самосознании: кем он себя считал, чьим образом и подобием, Аватаром, наоборот ли? Почему творец, художник... страдал комплексом неполноценности, был телесно принижен в своих глазах, не болея каким-либо антропоцентризмом в искусстве? В том городе я не заметил обычных и для стада, политических разделений - кроме гендерных. Равенство во всем, как в сотах, где почиталась матка. И безголовых мертвых хоронили в доме, рядом. Оттуда, может, возникли и независимые амазонки, демократия, чуждые Востоку... Но я о другом! Египет с более грандиозной культурой, зодчеством лишь усилил то видение, восприятие человека-зверя, но уже с головой... зверя, причем в храмах звероголовых богов, в пирамидах бритых фараонов... - Может, он других так и видел, как мы, не видя? – предположил Сидоров. - Наши достоинства – всегда чужие недостатки... - Может быть. Но там другие просто жили в других домах, - продолжал Андрей. – Физические достоинства, недостатки их в картинах никак не отмечены, словно они не в счет, судя, наоборот, по обильным, ценимым телесам мадонн. А то было чистое, не замутненное идеологией, образованием мышление, мировоззрение, ценившее, видевшее, умевшее передать красоту и полезность природы и почему-то, наоборот, воспринимавшее себя, мужчину-творца, начиная с пещерной живописи, словно глазами первобытных Босха, Брейгеля, ну, как самых никчемных ее созданий, что не подтверждают ни реконструкции Герасимова, ни изображения бритых фараонов. Не знаю, может, первые художники и были из таких уродцев, как Микель, и творили от противного, выплескивая, сублимируя на стены пещер невостребованное красавицами либидо. Может, такие и награждаются сим даром, чтобы не разменяли его в похоти и первобытных гаремов, где достаточно силы и палки – вместо кисти Микеля и пера Пушкина. Но, скорее, первый Человек-мужчина разумный, точнее, Искусный и объявился, и сформировался в стаде полу-зверя именно как ценитель самого Творчества, созидания Красоты, Совершенства – да, по образу и подобию самого Творца, - но не самого себя, Его, чужого творения, одной из тварей ли с Ковчега... Те плодят лишь себе подобных, для чего и нужны... Творец же создал Мир из одного лишь Слова, кем и Сам был как бы... Всего лишь... Нет, Сидоров, не морщись, хотя и это так... Но то Слово – это, во-первых, и наша ДНК, длинною и смыслом с Библию, но, главное, это тот же Солнечный(Звездный) Свет, спектр которого несет в себе не меньше информации – уж поверь... - Причем тут Минотавр? – спросил слегка ошалело Сидоров. – Ну, про него я все же прочитал потом... Сын Пасифаи и якобы царя Крита Миноса, но, вроде, быка Посейдона или самого... Залезла в муляж коровы, бык ее того, взял... Запутаешься! Я больше читал про сам Лабиринт, построенный Дедалом, чтобы спрятать, скрыть чудовище от людей, поскольку я сам блуждал в подземных лабиринтах... Что касается Слова – я же был только читателем, я же тебе сказал, что и воспринимал его как,.. ну, вообще Библиотеку... Понимаешь? Не мог оттуда выбраться... Самый волшебный Лабиринт – куда загадочней всех этих улочек, проулков городов, дорог, троп всего мира, где я не был и не хочу быть после того. Почему и был убежден, что он – там, почему, может, там и нашел его однажды. Да, может, в том твоем Слове. Но, как псих, я потом лишь Фрейду верил, да и они по нему убивали его там, в моем подсознании, якобы... Но кто он на самом деле? - Не знаю, но сам хочу понять, - заметил Андрей, - ну, и в себе разобраться, понятно... Кто тут Аватар и чей... Глава 6 Явка была на окраине столицы, мало напоминающей сердцевину внешней хаотичностью застройки, просторами пустырей, газонов, отсутствием сплошных галерей и незапоминаемостью пути, особенно, если тебя ведут с запрограммированной осторожностью. Заблудиться здесь проще, и утверждать, что это - не лабиринт, Андрей бы не стал после часа блужданий без Беломора, съедающего время... - Как и в природе: поле хаоса вокруг ядра порядка. Но в ядре лабиринта – смерть! – размышлял он попутно. - Странно? В сердце городов жизнь изначала пряталась от смерти, пребывая там в первобытном страхе. Жизни проходили, а страх копился в виде каменных изваяний. Страх загонял в себя, внутрь лабиринта, к сердцу, откуда деться некуда – лишь в подземелье или в небо - стрелой башен, симбиоза последней стены и лестницы, позвоночника городов, ведущего и к звонницам. В пирамиде лестница снаружи – идеальный симбиоз стены-лестницы, уводящей в никуда, но и хозяину оставляя лишь подземелье кротовых нор. Москва – идеальный лабиринт, из геометрически идеального порядка которого нельзя, никому и не хочется выбираться, приходится лишь бежать, что понял Петр, могли сказать Дмитрий, Наполеон... Киев, Питер, Нью-Йорк – иные, хаотичнее... Никуда они и пришли. Квартира была нежилой, явно изначала чьей-то явочной, где кроме конторского стола и топчана на кирпичах, да кип газет, пахнувших типографией, ничего не было. В одной из таких андроповские гебешки учили, благословляли их продавать родину, менять на информацию во время международного научного конгресса. Но здесь пустота была заполнена одинаково изможденными людьми неопределенного возраста, в изношенной одежде, в основном с длинными патлами, путаными бородами и воспаленными взорами, но чистых, ясных глаз монахов, так контрастирующих с окружением, за исключением, может, бело-голубых листов газеты, сворачиваемых и разворачиваемых в разных углах квартиры, пачки которых то и дело исчезали в рюкзаках, сумках, авоськах, а потом и из квартиры вместе с быстро меняющимися посетителями, почтальонами, вестниками перемен, которых было трудно различить, почему все казалось таким статичным, замершим, хорошо организованным… Разговоры шли вокруг количества, номеров, адресов, времени следующей встречи, что несколько раз повторялось, дотошно переспрашивалось, записывалось. На Андрея все бросали редкие, искоса взгляды, как на нечто чуждое, не понятно зачем здесь объявившееся. Сидоров сразу куда-то юркнул, и он вначале путался у всех под ногами, переходя с одного освободившегося места на другое. Наконец один из них, тощий и больной мужчина, постоянно покашливающий в край замызганного шарфа, уделил ему внимание и, расспросив: кто, откуда – будто обнюхав, настойчиво поманил на балкон, перекурить. Взгляд его остроносого лица был таким же цепким, как у институтского вахтера из бывших чекистов, не поднявшегося по скользкой от крови лестнице, поскользнувшегося на той в оттепель, но мечтавшего отыграться на каком-либо умнике, кандидатике, кому все от роду было дано – только рот разевай! «Ну-ка, разинь! Ну-ка, портфель – давай, давай разевай, выворачивай!».. И этот вцепился в него глазками, словно ощупывал сердечные клапаны, как карманы, хотя сам был весь на виду, в этом взоре подозрения… На балконе он вел себя как-то суетливо, шныряя с одного конца на другой, отчего Андрею приходилось постоянно поворачиваться вслед, рассматривая одновременно красоты ландшафта и настороженные окна соседних домов. Устав вертеться, он встал в самый конец длинного балкона, отчего парню пришлось непросто. Он даже пытался втиснуться между ним и балконной решеткой, но, натолкнувшись на удивленное непонимание Андрея, наконец-то успокоился и тоже расслабился, пожав снисходительно плечами... - Главное, создать сеть, ну, типа сетевого маркетинга – потом, кстати, пригодится, - говорил он попутно, не меняя выражения лица, словно не вдаваясь в смысл слов или чересчур заученно, - ну, разбить, расчленить город на ячейки, клетки, сектора, распределить меж распространителями, составить их список, график работы, прислать нам... Само «Свободное слово» сделает остальное. Главное - дать его людям, продать, ну, донести до них, и оно прорастет, пробьет их закостенелость, разбудит от спячки, заставит мыслить, не даст заснуть. Потом сами придут на площадь, на митинги, в партию, пополнят списки, которые надо будет тоже прислать мне... Ряды свободных людей должны расти, и вы только должны дать им эту возможность... - Встать в ряды? – уточнил Андрей, но тот не обратил внимания на иронию, смотря все время мимо него, сквозь ли… - Что? – только и переспросил он, продолжая свое. - У свободы не может быть иной цели, кроме нее самой, разве это не понятно? Поэтому не стоит уточнять. Слово говорит само за себя… Нет, давайте еще по одной? Там душно, тяжелый воздух – астма. Увы, каторга, да-с, ваша Сибирь, но с изнанки. Нет, спасибо, курю только «Астру»! А свободе нужны лишь носители, распространители, равно как и она - им. И, конечно же, нужно с первого дня продумать и организовывать постоянные, по любому поводу акции протеста, неповиновения и тому подобное. Люди должны увидеть, осознать, что протест против чего-то – естественное состояние пробуждающейся свободы. Да, ведь очень легко согласиться с тем, что им постараются подсунуть, уже подсунули, как «куклу», а они уже съели. Они же должны быть готовы и к возможности общего протеста, готовы выйти на площадь в свой назначенный час, который вы узнаете вовремя… - А потом? – спросил Андрей, тоже закуривая, но сигарету, купив по дороге. - Потом? – удивленно спросил тот, опешив, словно вынырнул из норки на поверхность неожиданно для себя. – Ну, про сетевой маркетинг я говорил – а еще куда, кому мы?.. Ах, вообще... Вообще потом – свобода! Разве в тюрьме этого мало? Не знали? Сочувствую… - Но Освободителя за свободу и взорвали, - усмехнулся Андрей, - и тогда, наверно, не то ожидая, как и оказалось в итоге… - Для меня свобода – это сама революция, бунт, протест, а не подачка, - хмуро заметил тот, но, услышав трезвон телефона, юркнул в комнату, обронив, - не обольщался бы я и на вашем месте... - Так, ее здесь не будет, и никого из штаба тоже не будет сегодня, поэтому надо ехать на другую явку, в штаб, к ней, то есть, - сказал Сидоров, возвратившись с кухни с кружкой горячего чая. - Погрейся. Поесть бы неплохо, но тут только грузинский чай, прямо из Тбилиси, как и газеты – с Таллинна. Где ты был? Я заходил пару раз… На балконе? Ночью не намерзся? Покурить можно и на кухне… - Килограмм десять «Свободного слова» возьмете с собой, - деловито спросил его тот мужчина, - или у вас совсем не во что?.. Да, сюда войдет немного. Грамм сто, двести... Авоськи же у нас закончились... Но запишите здесь адрес, и мы сразу вышлем. А это, вот, партбилет… Да, поздравляю, конечно… - Ладно, записывай скорей, и пойдем, - с довольной улыбкой пожимая ему руку, обронил Сидоров, - тут делать нечего, ее нет... - Тут целая анкета, - усмехнулся Андрей, разглядывая синий партбилет с эпиграфом Галича, которого в школе слышал иначе. За два года до того он отказался вступать в комсомол, переполошив всех: школу, горком комсомола, отца, ярого кухонного протестанта. Испугался, заставил, убедил. Отец! Нет, он не сдался, просто махнул рукой и спрятался в себя – от всех, не веря больше никому! На него после горкома комсомола вышли даже двое местных диссидентов, шестидесятников, таких же изможденных, с такими же глазами, как эти, как все изгои, но он помнил лишь, с каким восторгом дворовые приятели слушали их непонятный диалог, и добрую улыбку одного из тех. Улыбку! Наверное, нес чушь. Тот стоял перед ним, сидевшим на куче песка среди пацанов, и улыбался. Они были на равных. На равных он был больше года назад и с коллегами американцами, с такими же почти улыбками поднимавшими стаканы с виски за Горби, миротворца, избавившего их от ядерного страха. Один из них, Джон, правда, сомневался, полезно ли будет для большинства избавиться совсем от страха, выйти из лабиринта привычных подземелий наружу, на слепящий свет мало кому известной истины… - Что их еще сдержит, зверей? - спрашивал бывший хиппи, лишь переодевшийся, поминая в тот день Ангелов Керуака. – Кроме страха смерти – ничего. Не суди по элите о всех, и мы – среди лишь откормленного, заржавшегося скота с заплывшими от спячки глазами и золочеными рогами. Выпусти-ка его? Я помню, что было недавно, после войны, как он разнуздался, потеряв шоры страха. Думаешь, зря у нас, среди пышной, сытной пасторали столько шизо, не буйных пока?.. Над Джоном посмеивались там, в высоких кругах ученых, людей разума, не спускавшихся вниз, имевших возможность обустроить свой мирок у вершины, охотно делясь радостями свободного времени. А они, крепко поддав на банкете, отправились вдвоем в неоновую клоаку Фриско, где у Джона было немало старых знакомых, почему они и вернулись живыми утром, хотя, как Андрею показалось, пробыли там с неделю – не меньше, обойдя с десяток притонов, кабаков, вплоть до курилок Китайского квартала и нор-малолеток, наглотавшись до рвоты свободы от всего, от самих себя. Был 1988… Там тот впервые пробудился, видно, узнав своих! Но забыл… - Мы тут словно чужие, - сказал Андрей, когда они вышли. - Не обижайся на них, - уговаривал его Сидоров, ежась от холода, - но ты для них, правда, чужой, точнее, они для вас были всегда чужими, словно их не было. Вы были несогласными, разумно несогласными, но разум и не давал вам совершать бессмысленных поступков. В своем же вы мыслили свободно, раз не понятно для других! - Но что чужие могут сделать - для всех? – спрашивал тот. - Но лишь мы и можем совершать безумные поступки, но поступки! – возражал Сидоров. - Вы - нет! Несвободные от разума! - Но плодами безумств и воспользуются звери, безумные от голода, алчности, похоти, - негодовал Андрей, с трудом скрывая разочарование. - Что даст безумство храбрых, но злых, подозревающих всех, да, почти так же, как и их бывшие враги, чекисты? Что и тогда - повод для песни? Но какие песни, если речь-то о собственности, бизнесе? - Но кто еще мог все это начать - не безумные ли, не мы ли? –негодовал и Сидоров, нахохлившись, пока они шли по пустырям. - И Адам сам догадался, и вы сами начали, - усмехался Андрей, - выборы, съезд в кремлевском дворце, меньше чем за год создав сотню несогласных, неизвестных доселе, кроме одного-двух? Ты из психушки сам вышел, Сталин бежал сам из Сибири? Смех! - А другая возможность была, бывает? Плод и рвут, когда сам просится в рот! – кричал оскаленно Сидоров. – Глупо – не сорвать! - В деловом Шумере, нашем прототипе, каждый плод был на учете, как и у Творца в раю, в тех же краях, - смеялся Андрей. – Съел? - Я? Мы? Вы, разумные, проглотили их бюллетени, индульгенции и мирно поплелись к свободе, как на убой, но на водопой сперва! – Сидоров даже показал - как. - Не так? По тем же улочкам лабиринтов, где отцов, дедов увозили по ночам, вы сами пошли днем! Вы пытаетесь говорить правду через те же микрофоны, на которых еще не высохла смердящая слюна лжи от их сосисок сраных!.. - Так нет же иного выхода – ты сам сказал? – перебил его Андрей. – Вот мы и в тупике… Увы, кроме рационального Шумера вторым полюсом цивилизации был мистический Египет с его человеко-зверем! Золотой Телец Синая, религиозный идол бизнеса и был порожден обоими, в два пленительных приема, Исхода… - Но при чем тут он? – передернулся даже Сидоров. - А кого мы под трепетный марш Свобод запускаем в наш огород, – спросил Андрей, - к нашей дойной корове, к ее материалистическому муляжу? Кто там, чья - внутри - Пасифая? - Ты опять все свел к Минотавру! – негодовал Сидоров, но не так громко, подходя уже к метро, откуда дохнуло холодом. – Бред! - Семьдесят лет наша философия насаждала тут человека, как дарвинского разумного зверя, Сфинкса с человеческой головой, но с психикой, инстинктами, рефлексами скота, да, с рефлексией тоже, поднятой с земли рукой, лапой, вместе с палкой! Думаешь, зря старались, натаскивая три поколения? – не без труда остановил его Андрей перед входом. – Подпусти-ка к толпе, к стаду таких, раз подвернулась возможность, Золотого Тельца – что выйдет, кем станут они, обретя вновь и голову зверя? Или думаешь, что философия, мифы – все это ложь, сказки, но лишь с намеком? Да, но чтобы вы не поняли! Эти египетские, троянские сказки – предшественники Эллады, Рима, из того же горшка Фрейда! И архетипы его – не чушь, а правда, суть, заложенные в нас программы, алгоритмы действия, жизни, борьбы за... - Слышал, насмотрелся там типов, по утрам, до обхода, - буркнул Сидоров. – Но они – люди! Люди! Это для вас они, мы… - Мы, вы! Не передергивай! Неприкасаемые! Психология одна для всех, - остановил его Андрей, положив руку на плечо. – Я и про себя, по себе говорю. Он лишь по другую сторону разума, во тьме, во сне сознания, куда и я иногда попадаю, спасаясь от того лишь памятью… Потому и представляю, что будет, выпусти его оттуда днем, убери стенки, барьеры совести, стыда, страха - страха более всего! Да, когда ни тут, ни здесь, в сердце, нет ни души, ни бога, ничего внутреннего, святого. Нет Музы, которая все, и скотское, зверское, может очеловечить, увидеть и рассказать о том красиво. Да, Сидоров, соцреализм был прикрасой, маскировкой, но он и оберегал неприкаянные души от ужаса правды, от реальной сути нашей философии, философии мяса в тряпках, чем Пешков в одном из стихов назвал даже любимую. Проговорился буревестник, козырнул! Ненавижу! Соцреализм был теми розовыми очками масс, которые Гласность уже сдернула с них, втоптала в грязь, не подумав о последствиях, наоборот ли, сознательно! Она ослепила всех, голая правда! Это и нужно было кому-то из палачей, их ли внукам. Слепым любые поводыри сойдут… - Но ты.., ты, правда, чужой!.. – не сдержался Сидоров. – Соцреализм, гласность – все вывернул наизнанку, извратил, что всем ясно, даже им, даже они молчат... Как можно все мешать в одну кучу? - А кто был ее глашатаем – святые? – усмехнулся Андрей. – Или прочтя «Скотный двор» с удовольствием, а не отвращением, мы стали другими? Поковырявшись в словесном навозе желчного писаки, мы стали чище? А после Шарикова не хочется подвыть Моське Крылова, еще одного пасквилянта, мифотворца наоборот, творящего тварей, даже музицирующих? Да, в Элладе, зверь буквально делал людей, но все же полу-богов, а эти человека в скотину обращают одним взмахом пера, походя всех, но возносясь тем сами и с окружением таких же сук до высот якобы Парнаса, где, конечно, тоже есть отхожие места и для лавровых листьев, но вчерашних, из их чечевичной похлебки! - Да это ты – сумасшедший! – закричал Сидоров, не обращая внимания на прохожих, но которым было не до них: все зло косились, шипели, даже плевались в сторону офицерика с блестящей боевой медалью, отчего тот, краснея, вдруг отвернувшись, снял ту и как сквозь землю провалился от стыда, что заметил и Свиридов, даже зубы оскалив в довольной усмешке. – Еще полчаса назад я бы отвел тебя к ней, но теперь… Ты все видишь навыворот, ты и ее так же… - Да, еще минуту назад и я бы пошел, - отрезал Андрей, - но передумал. Предпочитаю свои заблуждения очевидной реальности… - Да пошел ты!.. – рявкнул Сидоров, но вдруг стих, нахохлившись. – Извини, я не прав. Я сам тоже против, но другого, просто я не знаю – за что я. Но по тебе вижу, что думать обо всем самому – быть вообще против всех, а это, наверно, труднее. Она такая же… почти. Но у нас с ней один враг, а кто он для тебя – не понятно вообще… - Ты только что видел, кто из недавних героев стал врагом всего за день, хотя провокаторы этого из комитета остались невидимыми, ну, по уши в дерьме после Гласности, но там и спрятавшись, - заметил сокрушенно Андрей. - Вы ничем не лучше тех депутатов, кому после выборов уже никто не нужен для их победы. Но в обществе так называемых свободных личностей(ОСэЛ) это и естественно. Только где они, свободные, личности? Откуда они вдруг взялись? Кого те, вы представляете? Толпу?.. Никого! - И что, безвыходная ситуация? – с горечью буркнул тот. – Но ты все же должен встретиться с ней, хотя я и против... Пошли!.. - Господи, как она некрасива! - воскликнул про себя Андрей, подавая руку хозяйке квартиры, удивленно раскрывшей ему навстречу из-под мощных линз очков припухлые веки прищуренных глаз. - Молодой человек, вы на меня смотрите так, словно свою прабабушку в раю встретили? - усмехнулась она, обозначив складками одутловатые щеки. - Но здесь далеко не рай, не заблуждайтесь... Сказав это, она провела его в обычную московскую квартирку, тесную и уютную, без намеков на европейский модерн, увиденный им недавно на госдаче. Вряд бы он описал его иначе, чем это уже делали писатели начала этого, а может и прошлого веков... - Да, родившись здесь, вольный дух обязательно захочет вырваться наружу, страшно захочет, вырастет с этим желанием, если не прирастет корнями к этой чисто московской мещанской убогости, - думал он про себя, разгуливая одиноко по квартире, пока его новые знакомые рассаживались вокруг круглого стола заседания. Все его запросто приняли, демократично представившись: «Саша, Эдик, Игорь, тезка...» - позволив оставаться самим собой сколь угодно. - Это тоже особенность москвичей, для кого мы, пришлые, - никто... Познакомился с ним даже толстый и важный кот, минут пять посидевший у него на коленях, пока он держал в руках чашку с непременным чаем. Его не приглашали к разговору, где обсуждались нудные оргвопросы: во сколько и куда пойти, с какими плакатами, кому, с кем встать рядом, кого проигнорировать, кого поддержать, что, кому написать в листовках, в следующем номере газеты и тому подобное... Никаких идейных споров, дискуссий, что, конечно, вряд бы могло смириться с круглым столом и чаем с пряниками. Да, не без категоричности и принципиальности в тонах, но по отношению к уже сформированным образам друзей и врагов, ситуации... - Чисто прорабская летучка по текущим вопросам строительства светлого здания будущего капитализма, - словно оправдывалась она, вставая из-за стола, - что вы хотите. Революции происходят не здесь, где у них нет врагов, а там, на площади! Да, и не на съездах, как решили вдруг наши нар-депики, увлекшиеся идеями, точнее, фразами, но забыв про банальные оргвопросы, где мастера того, орговики КПСС, уже задвинули их в пыльный угол умеющей только ползать эволюции. Но что поделать, они не рассчитали силы, но их холостой словесный выстрел был настоль усилен микрофонами, что разорвало дуло орудия и теле-Авроры, из которого они теперь вряд ли сумеют по настоящему выстрелить боевыми... Разве что, фейерверком? - На это и был расчет, - согласился с ней его тезка. - Но сразу превратить это в банальную пехотную атаку на Зимний, без прекрасной, громоподобной артподготовки, - заметил несколько лениво, но романтично Эдуард, - это так скучно, что не разбудит и ночных сторожей. Зря ли Аврору и тогда придумали?.. - Ну, а зачем их вообще-то будить в таком случае? - снисходительно удивилась она. - Лишь для того, чтоб после громогласных аплодисментов они рванули занимать очередь в буфет, а-то и в гардероб, поскольку вряд их пьеса имеет более одного акта? Нет, сцен, конечно, они могут придумать много и надолго, но, судя по старту, финал был озвучен в самом начале, в предисловии автора, и так, чтоб опоздавшие могли спокойно ожидать его до бесконечности, не подозревая даже о том. Ты, Эдик, конечно, эстет, точнее, эсдек, но нельзя быть такими эгоистами, получая удовольствие лишь от самого процесса, забывая о миллионах, ожидающих только результата, финала, поскольку им-то возвращаться не в гримерную, не за кулисы, а к себе домой, где что-то меняется лишь в телевизоре, по ту сторону экранов, кулис... - Лерочка, но ведь и ты свои первые эксцентрические поступки предпочитала совершать в театрах, хоть и с галерки, - подметил с улыбкой Эдуард, - не избегая и некой театральности? - Просто энные лица, как и зрители, ожидали поступков со сцены, а не с галерки, почему только там это и можно было сделать, что-либо сделать, - спокойно отреагировала она. - Но ради только этого я бы и пальцем не пошевелила, поскольку рождена была не артисткой, а бомбисткой. Озвучивать чужую роль не стала бы в жизни... - Но зато ты превосходно можешь озвучить свою, - с полупоклоном отметил Саша, лицо которого само походило на комплимент. - Не тебе, Сашенька, завидовать, - ответила она ему тем же, - но для самовыражения следует искать другую арену – не баррикады. Наши нар-депики здесь что-то перепутали. Не удивлюсь, если вскоре демократией станет их собственное сборище и только, если появятся партии, в названии которых будет не средство, не цель, а их имя собственное, наличное. Как вы считаете, молодой человек? - С последним согласен... Но, если не театр, хотя не уверен, то и не... квартира, не кухня опять, - робко произнес Андрей, не желая ее обидеть, - то есть, не жилплощадь, а просто площадь... - А если все остальное - театр, а ныне - теле-театр, то где же тогда? Не в миллионах ли подобных квартир? - парировала она, совсем не умея обижаться, поскольку была чересчур для этого умна. - Все это может происходить сейчас либо по одну сторону телеэкранов, либо по другую, как жизнь или как нескончаемый сериал, где, простите, оказаться лишь актером, неким Аватарчиком не хочется... - Эффективнее по ту сторону, - краснея говорил Андрей, совсем не желая с ней спорить, но не умея и соглашаться, - иначе они там превратят в телесериал и все остальное: и перестройку, и рынок, и частную собственность, и свободу, и даже их новую жизнь... - Эффектнее, вы хотите сказать, - сказала она, поглаживая своего кота против шерсти. - Этой игрой слов они и воспользовались. Проверенная практика: разделяй и властвуй. Теперь разделили телеэкраном... на две уже абсолютно мнимые теле-реальности. И, поскольку для меня слово эффектность пусто, я никогда не променяю ни площадь, ни жилплощадь на ту сторону. Здесь я, по крайней мере, сама свободна и могу слышать то, что говорю для других... - Но игра слов и прочее... не исключает их самих из игры, - подметил Андрей, не удержавшись от соблазна сделать ей комплимент за мысль, в которой сам еще не был уверен, - тем более, что вы бы легко могли добиться и того, и другого – и там... - Но только не мнимого! – воскликнул Игорь, с царской почти фамилией. – Хотя он прав: они все не стоят и твоего междометия! - Что с вами, молодые люди? - снисходительно рассердилась она, - решили меня по-настоящему свести с ума, что не удалось профессиональным психоаналитикам союза? Ну, нет, уж во что бы я не смогла поверить никогда, так в то, что кто-нибудь искренне влюбится в меня! И то, что вы тут наперебой лжете, еще больше убеждает меня в правильности выбора. Да, Сашенька, нашего выбора... Только гражданский путь, только не соучастие во зле и во лжи... с самого их Рая! Нет, конечно, я чересчур много, но чрезвычайно мало знаю для того, чтобы верить, но слово святость, чистота убеждений и помыслов у меня вызывает уважение. Я бы пошла в их логово, но лишь с одной целью: вонзить кинжал в их сердца, в сердце их системы, но ни в коем случае не для того, чтобы сфотографироваться с ними на память на фоне одной шестой мира, став одним из их обличий! Я бы, скорее, стала грязно выражаться, а, может, даже разделась перед камерой прямо на трибуне, чтобы у телезрителей появилось страшное, нестерпимое желание выключить телевизор и никогда его больше не включать во время прямой трансляции с этого объединенного шабаша, куда в качестве сладких Аватарчиков были приглашены даже святые из-под Горького, а не наоборот!.. - Лерочка, я думаю, ты бы только резко увеличила аудиторию за счет мужского населения планеты, - весело сказал Эдуард, даже чуть выйдя из присущего ему задумчивого оцепенения. - О чем мы говорим! - уже вполне серьезно возмутилась она, - неужели весна действительно умеет вас превращать в абсолютных... животных? Но ведь настоящие быки, увидев красное, бросаются на матадоров, на него, по крайней мере, а не носятся по полу арены в поисках противоположного пола? Странно предположить, но мне кажется, что именно ваше появление, молодой человек, совратило нашу кампанию с истинного пути. Что-то в вас есть такое, вы не замечали? Но тогда вы зря связались с революцией, поскольку эта барышня жаждет крови, ненависти, и если ваша любовь не настоль сильна, чтобы стать им подобной, то лучше поискать другую партнершу... - Я думаю, что бывшие революционеры навряд позволят изменить ей, своей жене, теперь вдове, даже если сильно захотят получить наследника, - отпарировал Андрей, задетый на удивление ее словами, словами женщины... впервые. - Здесь - да, увы, но у вас, вдали от этого гарема, думаю, она вполне могла бы позволить себе и это, - немного мягче сказала она, - ведь у вас стражей-кастратов не столь много, как здесь. Гораздо меньше и профессиональных соблазнителей, согласна, но эту барышню, скорее, и увлекут искренние, наивные чувства. Как вы считаете? - Думаю, что ей бы стоило к нам приехать, - смутился Андрей. - И самой вас соблазнить? - рассмеялась она. - А увезти, похитить ее, как истинные кавказцы, грузины, не хотите, боитесь или не сможете? Может, вы, как и нынешние нар-депики, сами мечтаете перебраться сюда, в гарем, согласившись даже на роль кастрата? - На роль может быть, но вряд ли на участие в массовке, - рассмешил ее Андрей, сняв возникшее между ними напряжение... - Вот и хорошо, - спокойно вздохнула и она, вновь взяв кота на руки, - больше всего я опасалась, что борьба за освобождение колоний ограничится границами метрополии, закончившись лишь очередной чисткой и перестановкой мест слагаемых. А память людей несбывшиеся надежды не прощает гораздо дольше, чем даже сбывшееся зло... - Каких людей? – хотел было он спросить, но уже за дверью... - И как она? Прозрел? - с затаенной гордостью, ревностью или тревогой спросил Сидоров, дождавшийся его на скамейке у подъезда. - Полная противоположность первому впечатлению, - ответил он, скрывая смутное разочарование и вспоминая взгляды тех собеседников, которые вскоре тоже покинут ее, уйдут с гражданского пути неучастия... ни в чем, поскольку все ведь и было ложью... - Вот видишь! Она и не хочет, чтоб люди восприняли революцию в ее лице, поскольку истинное лицо той можно увидеть лишь в зеркале, в самом себе, уже уставшем от своего собственного, несменного отражения! - говорил тот, сперва воспрянув, но все более угасая к концу разговора - а иначе все это блеф, телепостановка... Ты скоро уезжаешь? Жаль. Многое потеряешь, да и я, кстати, тоже - понял вдруг... Мне так тебя будет не хватать... Не знаю – почему. Плюнул бы, сейчас все равно все пойдет в тартарары? Все равно ты и в свое прошлое не вернешься, его нет уже... А какая разница, где начинать новое?.. Да, где оно и начинается, надеюсь, я все же надеюсь... - Здесь больше и тупиков, ложных тупиков, где легко затеряться... Пока! - покачал головой Андрей, тоже как бы огорчаясь от необходимости разлуки, а, скорее, от неотвратимости грядущих перемен, где даже этот случайный знакомый казался чем-то... Да, похоже, только казался, вскоре растаяв как призрак в сумерках... И там, впереди все было смутно и непонятно, и не только ему... Все говорили только о путях, о неких долгожданных выходах из тупика лабиринта, но в который они все, его дети, и не входили, здесь и став ими... Глава 7 Он не стал спускаться в метро вслед за тенью и побрел по улицам, куда глаза глядят. А глядели они в небо, хотя дороги туда он нигде не видел. Ему вдруг ужасно захотелось обратно, к Аделаиде, но он забыл взять адрес или хотя бы телефон. Сейчас только она и была его прошлым, тем прошлым, куда хотелось вернуться, куда можно было вернуться. Остальные адреса он знал, но там ничего не было. Никого не было в детстве, в юности, не было и отчего дома, который сгорел во время бури. Удивляться было нечему, поскольку только так, теряя, он и жил до сих пор. И сейчас у него был лишь дипломат с проектами рухнувших планов, да с несколькими листами набросков... А вокруг лежал абсолютно чуждый город, совершенно незнакомый, словно бы перевернутый с ног на голову той еще мартовской бурей, где сейчас было некуда пойти, а тратить деньги на гостиницу не хотелось... Хотелось плакать, но некому было жаловаться в этом мире. Раньше над этим он или не задумывался, или все было не так, или в этом не было необходимости, но сейчас вдруг все стало чужим, враждебным, искусственным, хотя декорации не изменились, даже афиши на тумбах были почти те же, но действующие лица, герои, сценарий и в целом жанр постановки стали вдруг совершенно другими, как и он, одинокий зритель, невольный свидетель внезапной подмены... - Не позволите пару ласковых произнесть в ваш микрофончик? -предложил ему, пошло хихикая, обрюзглый мужчина рядом с Большим театром. Андрея стошнило, едва он увидел неровный ряд изъеденных молчанием кривых зубов, цедящих склизкие, соленые словца о незабываемом наслаждении. Дыхание того еще долго чувствовалось, будто так дышали подворотни, темные дворы и переулки каменного, замершего словно перед прыжком лабиринта, зазывающего всех в свои темные тупики, где еще несколько раз к нему пытались пристать неискренние, страждущие люди, может быть, тоже страдающие от одиночества и растерянности перед тем, что в тайных, подспудных желаниях вдруг становилось пугающей, незнакомой явью … На красной от звезд и стыда площади вульгарно одетые женщины уже открыто интересовались у него наличием валюты, оценивающе разглядывая его прищуренными глазками, сквозь щелки которых пробивался алчный блеск... его ненасытного взгляда. Лица их были безжизненными греческими масками, прикрывавшими тысячелетний прах его, весь состоящий из месива пожирающих самих себя червей смерти. Его даже испугала одна из них, которая, выйдя из-за мавзолея, миновав спокойно пост, предложила облагодетельствовать задаром, в честь какого-то праздника. Он едва вырвался из цепких лап ее красно-зеленого взгляда, ощетинившегося отсветом рубиновых звезд... - Ну что ты, мальчик! - тяжело и хрипло шептала она сзади, - ты многое потеряешь в жизни, не познав это. Ты бы смог взглянуть на самое дно величайшей бездны удовольствия и счастья и парить над ней без усилий и заботы. Тебе не надо было бы самому чего-то искать, добиваться, платить - все бы ты получил даром. Вы, молодые, такие глупые, желаете, но боитесь тех, кто вам это даст сам, хочет вам дать и может дать то, что сами вы никогда не сможете взять, у вас просто не хватит сил это получить самим. Хоть бы разок попробовал и потом бы уже никогда не смог отказаться от непрекращающегося, вечного удовольствия брать… Тебе б и рая стало не надо, ты б познал его здесь и уже никогда б не отказался от него. Только попробуй, маль... Сволочь жадная, дурак, скотина неотесанная, гад! - рычала она под конец, не успевая за ним из-за хромоты и потерявшись, наконец, во тьме одного из переулков, куда он свернул с Ильинки, откровенно ведущей от мраморного мавзолея на Лубянку, пытаясь оторваться от преследовательницы, которая, видно, заболела тем в восьмидесятом, в год страстной дружбы народов, по-черному изнасиловавшей любовь, заразив всех другой, неизлечимой ничем страстью, бешенством ли... Фиолетовая крыша лабиринта упруго пульсировала, словно тонкая оболочка воздушного шара, наполненного черной жидкостью, материей, а не пустотой, как порой кажется. Мегатонны ее бурлили, перекатывались, обтекая крыши домов, пытаясь продавить тонкую пленку, прорвать на острых выступах стен, на иглах фонарей, свет с которых под ее давлением вяло стекал на брусчатую мостовую, на пузырчатую поверхность тротуара и изогнутые спины скамеек, томно потягивающихся в предчувствии сладкого забытья ночи. Мало чем приметный переулок носил на удивление большое название, хотя вначале он прочел на табличке лишь «Боль…», поспешив в том разувериться. Стены домов здесь, наоборот, были невысокими, и небо, провисая между ними, едва не касалось головы. В одном из его тупиков, загороженном металлической решеткой и обитым мягким черным бархатом юной листвы, заполняющей тупичок наподобие толстых, воздушных подушек огромного дивана, ему вдруг так захотелось прислонить к ним голову и отдаться во власть беспробудного сна. Весна практически закончилась, ночь была не слишком холодна, и где-то ее нужно было провести... Но едва он зашел за решетчатую ограду и углубился в черный уют дворика, как оттуда раздался дикий вопль и хруст ветвей. Казалось, что весь дворик ходил ходуном, раскрывая и тут же в страхе захлопывая створки окон. Неведомая сила толкнула Андрея в дебри палисадника, откуда навстречу сквозь хруст ветвей рванулась темная, расплывчатая тень, обдав его издали смрадным, знакомым дыханием берлоги, на которую он однажды набрел ночью в тайге, к счастью оказавшейся уже пустой… Может, по инерции, но Андрей не остановился, и тень, на миг замерев, зыркнув отсветом фонарей в мутной черноте глаз и оскале клыков, прыгнула в сторону и исчезла во тьме. На черном бархате газона копошилось светлое пятно тела и нижней одежды насмерть перепуганной женщины, которую тот словно специально бросил к его ногам... - Сволочь, сволочь, - бормотала она сквозь невидимые слезы, дрожащими руками запахивая верхнюю одежду и тут же растворяясь в темноте. Вскоре только белое, заострившееся от страха лицо и светилось среди черноты, поблескивая отсветом золотых фонарей. - Вызвать ментов? - крикнуло осмелевшее окно, но тут же надежно захлопнулось створками. - Кто он? - спросил Андрей, помогая молодой, гибкой, но дрожащей всем телом, женщине добраться до скамейки, поскольку она, в страхе оглядываясь по сторонам, ничего не видела вокруг. - Не знаю, - плакала она, морща заостренное личико, собираясь и с мыслями, - он шел за мной... я слышала... хотела здесь спрятаться… он вдруг набросился из тьмы... но его же здесь не было... Скотина, как он вонял! Я просто задохнулась и… потеряла все… Он словно хотел забраться в меня, понимаете? - Вы здесь живете? - спросил Андрей, не зная, как решать следующую, вполне очевидную проблему. - Нет, - жалобно ответила она, держась за него, - в том-то и дело, что нет. Я бы так не испугалась. Нигде я не живу, в том и дело. Меня они выгнали, и я теперь нигде не живу. Он как будто знал это и преследовал меня. И он... не ушел, я думаю. Я чувствую его... запах. Скотский такой запах, фу! Нет, нет - не от вас... А вы здесь живете? - Нет, - огорченно ответил и Андрей, не зная, что ей даже посоветовать, потому что все это было бы только отговоркой. - Но, может, вы бы могли туда вернуться? Нельзя же вот так просто взять и выгнать... Теперь же все иначе? Теперь ведь… - Так они мне и сказали: теперь все иначе, - всхлипнула она обречено, жалобно поджав губы, словно боясь отпустить его от себя. Она была слишком молода, чтобы рассчитывать на себя. - Я ведь здесь даже не прописана, поэтому мне надо куда-то срочно уйти, уехать, то есть, а он все у меня отобрал... Там были и документы, и немного денег тоже было. А их еще не отменили… А где вы живете? - Да тоже так... - неуверенно произнес он. - Нет, я не прошусь к вам, - оправдывалась она. – Просто… - Честно, нигде, тоже надо уезжать, - оправдывался и он. - Но вам есть куда? - доверчиво спрашивала она, заботливо оправляя его одежду. - Есть, я вижу. Это лучше... Вы не уйдете? - Нет, - усмехнулся Андрей, смущенный таким вниманием, - я вообще-то хотел здесь переждать ночь, даже поспать... - Так переждите? - с надеждой воскликнула она. - Они, надеюсь, не вызвали милицию - кому это надо. А на вокзал я не хочу идти - там одни такие шныряют. Там он меня, наверное, и приметил. Боже, какая у нас огромная страна, а уйти некуда. Нет, я знаю, что огромная. Я ведь совсем издалека. Да, он привез меня из стройотряда, обещал, в общем... Но я же не знала, что у них здесь все иначе? Совсем иначе! Нет, он бы не выгнал так, но он уехал.., специально уехал, чтобы это сделали они... А им плевать, что мне некуда... Для них здесь, это как в соседний двор сходить. Они же не представляют даже, какая эта страна огромная, и что здесь некуда деваться. Я им пыталась объяснить, но бесполезно: они хотели скорее меня спровадить, пока он не вернулся... Ему-то есть куда вернуться, а мне вот теперь - некуда. Ведь теперь все изменилось. Я поняла это. А он мне последнее платье разорвал почти напополам, вы видели же. Извините.., я не хотела, но это же он разорвал все на мне. А я ведь к нему вот так и приехала - в одном платье. Он говорил, что здесь нужно одеваться по другому, и я ничего больше не взяла. Конечно, я сама виновата, но я же поверила. Я всегда верила мужчинам, хотя у нас они никогда ничего не обещали. Поэтому и верила, наверно… А он, он… не лучше этого… - У меня совсем немного денег осталось, но возьмите, - суетливо произнес Андрей, доставая из кармана смятые бумажки. - Может, купите платье хотя бы. До Сахалина тут не хватит, конечно. Но я вам оставлю адрес, хотя не уверен и в нем теперь... Вот... - А как я их вам отдам? - удивленно воскликнула она, прижимая деньги к груди, всколыхнувшейся под теплым не по сезону пальтецом. - Может, я вам…, я вас тогда от... благо... дарю? - Нет, что вы! - покраснел Андрей от догадки и от своего внутреннего согласия с нею. - Это же совсем малость... - Но вы такой добрый и я бы сама хотела, правда, - проговорила нерешительно она, уронив голову ему на плечо, чтобы скрыть слезы, - и поехать туда с вами. Только бы отсюда. Ведь там у меня уже никого нет, да и не было уже тогда. Только бы отсюда поскорее уехать. Обнимите меня, пожалуйста, мне так еще страшно и холодно. Вот привязалась, думаете вы, наверное. Случайная встречная, а лезет обниматься. Но я не поэтому, поверьте! Мне ведь даже не к кому теперь прислониться. А так бы вот я сидела вечно и никуда бы не уходила. Я ведь не такая уж страшная или даже некрасивая, правда ведь? Вы бы ведь не выгнали меня? Неужели меня вот так просто можно прогнать и не пожалеть даже? Разве я не могу понравиться вам, как мужчине? Я чувствую, что могу. Я чувствую, что я вам нравлюсь, что вы даже хотите меня, просто не знаете, что со мной делать потом. Не думайте об этом. Подумайте лишь о том, что я вам нравлюсь, как женщина - и все. Я ведь и есть только женщина. Погладьте меня пожалуйста, как будто я вам нравлюсь. Это совсем ни к чему не обязывает, к счастью... Вы гладите меня, как отец. Он любил меня гладить так... Не уходите только, если я усну... Никуда!.. Через мгновение она уже спала, спрятав лицо у него на груди, под полой пиджака, и слабо вздрагивая от сновидений, шуршащих в ожившей вдруг листве, поглаживаемой легким весенним еще ветерком, прилетающим из распахнувшегося вдруг небосвода, усеянного мириадами ярких звезд, с изумлением разглядывающих происходящее на земле, словно видя все это впервые... - Да ничего здесь особенного! - мысленно кричал Андрей в глубокий, бездонный колодец неба, не желая верить в это и словно ожидая опровержения своих слов. Ему не хотелось этого особенного, страшившего своей неизведанностью и непредсказуемостью, нарушающего все его наметившиеся планы и начавшийся будто бы устанавливаться порядок жизни. Не здесь, не в каменном и мертвом лабиринте, а там далеко, на самом краю земли, где он с третьего раза обрел свое место, нашел даже себя, как ему показалось, где еще виделся себе таковым и сейчас, отсюда… Это было не так просто с его характером, слишком неуживчивым, как считали многие, для кого главным была не жизнь сама, а ее внешние атрибуты, отношения субординации, полов… – всякая мертвечина по его мнению! Днем он жил самой земной, хотя и в этом глобальной наукой, а ночами уходил, улетал и от нее на необитаемые острова воображения… Конечно, главной причиной была его ошибка, халатность ли в выборе профессии, хотя для независимых натур таковых, возможно, тогда и не было. Даже друзья художники, сутками пропадавшие в одиночестве в своих мастерских, в главном зависели от незримых цензоров, контролеров, даже коллег, именно из-за неуловимости, неконкретности оценок и страдая от произвола тупиц, ремесленников, особенно собирающихся толпами, союзами. На краю земли толпа их даже геометрически обусловлено стала в два раза меньше и численно. Там можно было стать на самый край, где ее не было даже видно, хотя многие и там предпочитали стоять спиной к тому, запредельному… Но столица всегда у него ассоциировалась с потерей себя. Еще в детстве, когда они с семьей проезжали мимо нее, делали здесь пересадку, он в первый же день потерялся в метро, с удивлением и без страха наблюдая, как поезд уносил в черную пещеру отца и мать, мечущихся вдоль окон. А он просто выскочил за монеткой, которую обронил в толкучке и за которой не мог не вернуться, так как вез ее с самого дома и должен был бросить в самом волшебном месте нового мира, чтобы потом туда вернуться. Но он не нашел ее и потому вошел в следующий вагон, так похожий на предыдущий - только без родителей. Их уже проглотила пещера, хотя все остальные пассажиры были вроде те же. Но ни монетки, ни их не было, сколько бы он ни вглядывался в грохочущую тьму подземелья, в ее обнаженное тело, увитое толстыми жилами и венами, по которым бежала такая же, как у него, незримая, но живая кровь. Тьма словно смеялась над ним, над его внезапным одиночеством, совсем не желая глотать и его маленькое тельце, вдруг ставшее крохотной пылинкой изумления. Мимо окон мелькали разные, непохожие друг на друга миры подземелья, полные суетящихся, потерянных, как и он, людей, толкающихся к выходу. Но он не знал, где настоящий выход, поскольку нигде не видел неба. Он словно бы и сам вдруг стал обиталищем, оболочкой этой тьмы... Как они нашли его, он не помнит, поскольку еще долго в мыслях не мог освободиться, вырваться ли из той черной бездны, полной обманчивых, разноцветных картинок, так похожих на реальность, но слишком красивых и вычурных для одного дня. Он не понимал, и что говорят ему, в голове, внутри него стоял несмолкаемый грохот, лязг черной пасти, перемалывающей толпы людей, по ошибке попавших сюда сверху, где их, наверное, было слишком много. Он не сразу и поверил, что они выбрались из подземелья, ведь поздним вечером улицы наверху тоже были похожи на то, что было в нем, но с более ярко раскрашенным потолком неба, забрызганным кровью заката... Он давно забыл то, но новое неизбежно ассоциировалось с теми впечатлениями детства, всегда располагаясь в пространстве где-то внизу, в подземелье, в страшном реве громадного зверя, могущего проглотить даже такой огромный город, а не только его... Тем более и эти яркие, кровавые звезды так же напоминали ему те несущиеся мимо и вдруг останавливающиеся в ожидании огни подземки... Сейчас он вспомнил это, но представляя не себя, а ее в чреве подземки, но потерянной и беспомощной. Он боялся отпускать ее в жизнь, где ее повсюду ожидал тот зверь, из лап которого он успел вырвать ее, но уберечь от которого вряд бы смог, поскольку тот был везде и был гораздо сильнее его, сильнее тем хотя бы, что ему не надо было ничего решать, ничего менять, искать выхода и для себя самого. Даже эти внезапно нагрянувшие перемены вряд ли что изменят у него, но крайне усложняют и без того неопределенную ситуацию, в которой пребывал Андрей. Неужели он хоть чем-то мог бы помочь ей, если не знал даже, как сможет сам добраться до аэропорта, отдав последние деньги. У него не осталось их даже на подземку. Как бы пригодилась сейчас та потерянная монетка, хотя возможно она и привела его сюда, заставила вновь вернуться в исходную ситуацию потерь... Да, она пригодилась бы ему тем, что он не потерял бы ее тогда… Она, словно почувствовав его настроение, вдруг отпрянула от него, склонив голову и обняв свою большую, но полупустую, легкую сумку, вместившую в себя все, что осталось от жизни, с чего было так тяжело начинать все снова. При этом она улыбнулась ему во сне и махнула легонько рукой, словно отпуская с миром. Он не хотел, но так должно было быть! И скрепя сердце, скрипя ли им, как визгливой, несмазанной калиткой, он медленно, предательски тихо встал и ушел, вяло ругая себя за жестокость и трусость. В кустах у железных ворот он запнулся о… ее, явно, сумочку, где что-то было. Это заставило его вернуться, требовало вернуть, разбудить… Но он просто положил ту на лавку и ушел. Он не мог сделать иначе, что-то внутри толкало его вперед, бесцеремонно подавляя возражения, сопротивление чувств. Он перестал быть хозяином себе, как то казалось ранее. Как марионетка, он едва передвигал затекшими и окоченевшими ногами, но все быстрее и увереннее удаляясь по пустынным улицам в такое же пустое и безлюдное будущее, уже не принадлежавшее ему… Машинально он поднимал руку только перед теми машинами, что останавливались, как заколдованные, и ехали именно в нужном направлении. Через какое-то время водители их словно просыпались от наваждения и меняли свои планы, высаживая его на обочине, где его вскоре подбирали другие, неизвестно зачем и куда мчавшиеся по пустым тоннелям каменного лабиринта... Он не удивился, и когда едущая по встречной полосе машина вдруг затормозила, резко развернулась на пустынном шоссе, разрывая испуганные тормоза, и, вяло сопротивляясь своей безумной выходке, помчала его к уже видневшимся вдали огонькам аэропорта. - Счастливый ты, парень, однако, - только и бросил ему на прощание седой водитель, угостив сигаретой из пачки, которую купил в киоске, за чем и вернулся, прихватив Андрея. Чем-то он походил на его сына, которого тот только что проводил в полет и вдруг увидел стоящим на обочине. – Не потеряй и это!.. Сейчас то – единственный компас в этом... бардаке... Глава 8 - Неужели, чтобы так везло, нужно предать, солгать? - спросил себя равнодушно Андрей, не имея ни сил, ни желания осуждать, возражать себе. Вырваться из лап вцепившегося в него мертвой хваткой, опутавшего его своей липкой паутиной проспектов, улиц, переулков, города - было само по себе удачей, почему он и оправдывал свое равнодушие, казавшееся ему просто усталостью от неравной, но выигранной в конце концов схватки. И говорила в нем скорее не совесть, не жалость, а недремлющий все это время разум, холодно и трезво наблюдавший со стороны за ним самим, за его поступками, из которых он бездумно складывал пирамиду своей жизни, куда сам же и восходил, порой как на голгофу - только с самой маленькой буквы. Город или случай словно бы отпускали его, а, может, изгоняли таким образом... Впервые он зарегистрировался без всякой очереди, прошел сквозь подкову без осложнений - в нем не было никакого металла. Впервые и самолет вылетел без каких-либо задержек. Впервые он летел один на всем ряду, никто не пихался локтями, не дышал в ухо нечищеным ртом, не приставал с глупыми вопросами или воспоминаниями. Стюардессы впервые были прохладно, освежающе, но пристально вежливы и предусмотрительно внимательны, не спешили убежать к зовущим их вечно зеленым огням проблем. Самолет впервые казался пустым, словно никто из пассажиров, кроме него, не смог вырваться из города, остался там навсегда, выжидал ли что-то… Будто та подземка, он опять глухим рокотом несся сквозь черное чрево тьмы, утыканной фонарями тусклых звезд... Стюардессы были странно знакомые и поэтому казались ему призраками встречавшихся уже однажды людей, а, может, просто ангелами, чем он лишь и мог объяснить их прохладную вежливость и внимательные, пронизывающие насквозь взгляды бездонно голубых глаз, копошащихся в его неспокойной, мятущейся душе тонкими, бледными пальцами лучиков. Они были как будто абсолютно не уверены в себе и в том, что вообще здесь происходило, кроме одного него. И поэтому столь часто они подходили к нему по очереди, чтобы убедиться или уверить себя в реальности происходящего, для чего им обязательно нужно было услышать его голос. Особенно он убедился в этом, когда вдруг неожиданно проснулся и увидел над собой низко склонившуюся стюардессу, ощутил ее дыхание, аромат духов, услышал прохладное шуршание накрахмаленной кофточки и ее мягкий голос, которым она слегка испуганно, словно он застал ее врасплох, предложила что-то, от чего он машинально отказался, но, не желая отпускать ее, коснулся руки, на что она ответила сорвавшейся с губ, неожиданной и для нее самой улыбкой... - Можно у вас спросить? - шепнул он и поманил ее к себе, но лишь затем, чтобы не упустить эту улыбку... - Да, конечно, - тихо шепнула она и склонилась над ним еще ниже, вздрогнув от ожидаемого поцелуя и покачав слегка головой. - Да, она - точно призрак, - сказал он себе, оставшись вновь в тоскливом, безвыходном одиночестве. Он отчетливо помнил, что она в самый первый миг показалась ему... Аделаидой, чье темное тело склонялось над ним той ночью... Еще больше он убедился в этом, когда она, возвращаясь назад, незаметно подмигнула ему голубым, как небо, глазом со столь знакомым вырезом густых ресниц. - Аделаида? - шепнул он ей вслед, но она не могла выдать себя никому и в пустом самолете, где никого кроме них двоих не было. Но потом она пришла вместе с той второй, кого он бросил на скамейке, но теперь уже одетой в небесные одежды, с таким же ослепительно голубым нимбом над головой. Та вторая села рядом с ним и ласково взяла за руку, словно простила предательство. Тело ее горячо дышало, словно разогрелось от бега по мрачным застенкам лабиринта от того... преследователя... или от прикосновения к нему. - Нет, это вы горячий, словно долго-долго бежали… - Я не хотел, но ведь так будет лучше, - шептал он виновато, едва сдерживая слезинки, с шипением скатывающиеся по щекам. - Да, я понимаю, - мягко говорила она, - это все пройдет и очень скоро - мы не успеем даже долететь до дома. - У нас нет его, - пытался он возразить и оправдать этим свое предательство, - мне некуда забрать тебя с собой, прости… Я даже не знаю, как тебя зовут... - Ну что вы, у нас у всех он есть, - мягко не соглашалась она, гладя его лоб и промокая платком взмокшие волосы, - надо только верить в это. Куда мы возвращаемся, это и есть наш дом. - Ты не бросишь меня, как.., - ему стыдно было продолжить, но он пересилил себя, - ну, как я тебя? Но там, под звездами, он бы и не посмел! Я оставил тебя под их охраной. И вот видишь, мы вновь вместе, как она и говорила. А где она,.. Аделаида? Почему она ушла? Она так и не сказала, что же я оставил ей… - Она придет, - успокаивала его она, чьего имени он так и не спросил тогда, торопливо исправив свою ошибку. - Меня зовут... Надежда. Очень просто. И это так неважно сейчас... и вообще. - Нет, это очень важно! - не согласился с радостью он, наконец, найдя точку опоры в безвоздушном пространстве, куда постоянно проваливался, словно на бесконечных качелях, все это время летящих вниз, - это только и важно, что я сейчас только и понял!.. Странно, здесь не видно солнца, но так жарко. Так, наверное, пылает любовь. Ты, правда, так любишь, что хочется сгореть?.. - Правда - это тоже ничто для любви, - мягко поправила его она, - но сейчас главное успокоиться и спокойно в это верить. Верить. Вы должны уснуть и дождаться, когда мы будем дома... - Мы? Но ты, правда, не бросишь меня во сне, как я - тебя? - с надеждой опять спросил он, закрывая глаза. - Нет, конечно, - твердо заверила она мягким, мелодичным голосом ангела, в котором не было ни одной земной, знакомой ноты, - мы никогда никого не можем бросить – такая у нас работа. Разве можно кого-нибудь бросить, особенно здесь, отсюда, с таких высот? Это нам даже запрещено правилами. В нашем воздушном корабле есть спасательные средства только на случай приводнения в море… ваших слов тоже. Только там, внизу, на земле, и бросают, особенно, сейчас, особенно, с Олимпов, считая это, видимо, безопасным, порой и спасительным, иногда необходимым… Не знаю, может быть, это из-за нашей неосуществимой мечты летать, из желания дать хотя бы другим испытать это? Бросить – вдруг полетит, вспомнит? А наш самолет, действительно, похож чем-то на крылатого Пегаса рыцарей Слова. И я здесь, наверно, только поэтому, и вы, возможно, тоже. Иначе ведь никак не получается, в той жизни не получается, там, где ничего и не жаль бросить, оно там все равно не летает, разве что во сне памяти, в озарении заблуждений или… Да, иногда и так, вдруг воспылав, став похожим на огонь, обретя крылья Музы, как вы сказали, сев ли на самолет, на железного Пегаса и улетев на край Земли, навстречу Солнцу. Вот, мы и летим туда. А теперь засыпайте. Мы здесь обе. Муза тоже здесь. Вы не обознались, наверно… Да, так, умница. Боже, ты сам горишь, как твое солнце... Вокруг тебя так светло… Странно… Только не сгори! Спи. Я здесь… Мне тоже там некуда, не к кому, как ни странно… Они правы… Они всегда были правы, придумывая, решая все за нас, а уже неправыми, виноватыми оказывались мы, кому приходилось этим жить, уж как получится, жить как судьбой, порой и роком, но чаще чередой случайностей… Хорошо, когда они вот такие, нежданные, но чаще они бывают неизбежными… Не у всех же есть сила, воля – идти и по их минному полю своей, прямой дорогой, не у всех при этом попутчицей бывает удача, особенно счастье… У большинства первая, чаще случайная встреча с ними бывает последней, ведь им, особенно, счастью просто попутчики не нужны… Они, да и мы бы сами хотели быть вашими попутчицами… Но тут и счастью не всегда везет, чего уж там, особенно, в пустыне этого самого громадного океана, большего, чем и сама Земля, а, тем более, во времена перемен, когда мы изменяем даже своему счастью, даже самим себе, не думая, не зная просто – измены ли это, те ли самые перемены, которые от нас совсем не зависят… Ты даже не представляешь, как я понимаю тебя: ты летишь со мной лишь второй раз, возвращаясь никуда... Возвращался! Но сколько раз я до тебя улетала и возвращалась тоже никуда? И я так понимаю твою радость, словно свою! Не представляешь, что же это такое – быть чьей-то надеждой, без которой кто-то в этом огромном и пустом мире не может жить, не может дождаться даже следующего дня... Не представляешь, что же это такое, когда тебя кто-то ждет каждый день, каждый час, каждый миг, из которых и состоит наша вечность ожидания, похожая ли на него жизнь! Представь лишь, что это такое для Надежды, когда ее никто не ждет, когда она никому не нужна... Милый мой, я боюсь даже говорить о любви, хоть она еще более случайна, чем наша встреча, и ее просто невозможно представить, понять, хотя сказать о ней можно невероятно много, и ты уже сказал о ней почти все. Но теперь, наверно, я тоже понимаю, что о любви нельзя лишь сказать: моя, наша... Я просто увидела твою любовь, точнее, увидела эту любовь в тебе, может быть, и не твою тоже... Просто любовь! И она мне вдруг показалась тем миром, тем океаном, где мы сейчас и летим, просто полетом, когда приземляться совсем не обязательно... Дай бог и тебе понять это!.. - Надя, ты что, влюбилась? – с улыбкой спросила ее та, первая, попутно потрогав его лоб и чуть не отдернув руку. – Просто огонь! Он ведь сожжет тебя, ведь нам сказали же?.. Хотя... - Не знаю, возможно, - вздохнув, отвечала ей та сдержано, - но, похоже, опять... в прошлое. Ну, ты же сама знаешь... Поэтому и не хочется с ним тоже расставаться, наверное… - С ним или с прошлым? – усмехнулась первая, направляясь дальше. – Но зачем тогда расставаться?.. - Иначе бы не встретилась... Нет, с прошлым! С прошлым и встречаешься, чтобы опять расстаться, ну, или наоборот… Странно, но он так похож на него, как будто он и есть – мое прошлое, так похож... Все Ок, Любонька! - кивнула она той и вновь обернулась к нему. - Боже, неужели и ты такой же, так же думаешь, чувствуешь?.. Но как быть надеждой в прошлом, даже... в настоящем, которого уже нет, не будет?.. Прости! Я же не знала,.. мне этого не сказали... А ведь я бы могла все это... сама... и без их указаний... Но я устала возвращаться только в прошлое! Прости... Мы летим в твое... Бу-ду-щее!!! Хотя, я не уверена, потому и прости... Глава 9. И она не обманула... Когда он проснулся, она вновь была рядом, только во всем белом. И вокруг все было ослепительно белым, светлым, только ее небесно-голубая одежда с крылатым значком слегка просвечивала сквозь облачко тонкого халата, и в лучах солнца ярко сияли аквамарины ее добрых и внимательных глаз. - Господи, наконец-то! - радостно воскликнула она, присев на край белого облака, на котором и лежал он, раскинув.., - а-то мне уже скоро нужно... улетать назад. - Почему? - удивился он именно этому, совсем не обращая внимания на все остальное, прижав ее руку к груди. - Вы посмотрите на него! - весело воскликнула она, - он уже и здесь как дома, а что говорил? Да-да, ты был прав, я позвонила туда и потому пришла сюда, наверное. Ты там больше не живешь почему-то. И я тебе принесла ключ, а ты уже... размечтался! Вот здесь лежит с адресом. Я туда редко залетаю, сам понимаешь, поэтому ты временно можешь пожить. Вре-мен-но, слышишь? Ну, пока не найдешь... Как ты нас испугал. Хорошо, начальник аэропорта дал свою машину… Да, и я удивилась! Твой земляк оказался... Ты слышишь? Не надо, прошу тебя... Я не смогу сама так жить, я ведь все время только прощаюсь, у меня такая работа, такая жизнь, и я люблю ее. Нет, не просто люблю все новое, сегодняшнее, новых, незнакомых людей и прочее. Нет, я наоборот ужасно люблю свое прошлое, да, может, детство, люблю в него возвращаться, хочу иметь возможность возвращаться, всегда возвращаться, постоянно его бросая, что делают все, но без всяких надежд. А ты так не сможешь, ты бросаешь без сожаления, без желания вернуться... Не смотри так, словно я к тебе с неба спустилась! Ты же не во сне, ты в настоящей жизни, где надо еще и жить, а не мечтать... Прекрати, прошу тебя. Я - не она, не та, про которую ты только и говорил… Да, еще и про Аду столько наговорил, что теперь все с тобой понятно. А я-то за тебя переживаю, а для тебя это так привычно: бросать нас пачками, на каждом шагу и не возвращаться! Да-да, не притворяйся! Шучу! Сама иначе не умею. Боюсь будущего, понимаешь… А здесь я всегда лечу, лечу, но лечу всегда... в знакомое прошлое. Аэропорт! И мне опять нужно туда и теперь надолго – меня переводят на другую линию. Через три часа мы должны быть в воздухе. Зачем я пришла сюда, сама не знаю. Проснулся бы сейчас и забыл все, как очередной сон. А я сама тебя к себе привязываю этим ключом. Может тебе все же есть куда пойти?.. Нет, это глупость, я ведь даже рада этому! У меня теперь есть не только куда, но и к кому возвращаться... Родители недавно уехали, туда, насовсем, а я осталась, вот, из-за работы осталась… Ну, не молчи только! Твои руки хуже всяких слов, негодник! Ты же заразишь меня этим… Я сестру позову! Но он чувствовал, что и она не хотела вырываться из его суматошных и неловких объятий, из облака его жарких поцелуев, в которых было все: и любовь, и надежда, и вера, и простая радость пробуждения из небытия, радость новой жизни, опять новой... - Ты не можешь так уйти, ведь я ничего не успел тебе даже сказать, - бормотал он, пытаясь удержать ее за руку. - Ты столько всего наговорил в самолете, что можешь теперь всю остальную жизнь молчать. Мне никто никогда так в любви не объяснялся, почему я, наверное, не могу, ну, не хочу от тебя сбегать. Мне ведь кажется по глупости, наивности, что все то ты говорил мне, - погрустнев сказала она, крепко сжав его пальцы, - и говорил ты… - Но ему…, нет, мне больше и некому это сказать, - очень серьезно произнес он, целуя ее руки, пахнущие спелыми яблоками. - Странно, верю, но если я, вернувшись, застану это некому у себя в квартире, - грозно прошептала она ему на ухо и, поцеловав, вырвалась из его рук и пошла к двери, - я тебя брошу на самой одинокой в мире скамейке в его логове, ты знаешь, чьей... Пока! С этими словами она вышла из палаты, в дверях резко обернувшись и бросив ему большое красное яблоко, которое он едва поймал, упустив из-за этого ее последний взгляд… Яблоко еще было теплым, и он, прикасаясь к нему губами, явно ощущал прикосновения ее мягких губ и щек. Ключ с адресом лежал на тумбочке, и ему от этого хотелось жить и совсем не хотелось болеть, хотя в больнице было светло, тепло, уютно. Молоденькая врачиха, тоже в одежде ангела, искренне удивилась такому скорому выздоровлению еще недавно безнадежного пациента со странными симптомами, и с неохотой выписала его на домашний режим, поскольку знала, что Муза его улетела, и за ним, кроме нее, некому будет присмотреть… - Но если вдруг температура, например, вновь поднимется, вы сразу звоните, - произнесла она нерешительно, еще раз тщательно осмотрев и прослушав его, подав в конце белый клочок бумаги с телефоном, записанным крупными буквами под тоненькой строчкой с ее именем и отчеством, - домой. Я за вас лично отвечаю, я ей обещала... - не подведите меня... - Ни за что! - Андрей резко поцеловал ее маленькую ручку, пахнущую теплом и лекарствами, и быстро ушел, словно сбегал... Город в его краткое отсутствие тоже неузнаваемо изменился, посвежел, ржавые, словно медные купола древних храмов, сопки покрылись яркой малахитовой зеленью, стекающей с них бурными, пенящимися потоками проулков, скверов, ручьями газонов в серое, поблекшее на фоне этого, хитросплетение асфальтовых улиц… Он совсем не огорчился, наоборот, тепло, благодарно попрощался с прежними хозяевами, демонстративно выставившими его чемоданы в коридор. Это их сильно смутило, они до подъезда плелись за ним, наперебой с лающим, как дитя, пекинесом, его подругой, оправдываясь нежданными приездами родственников, детей, перебрав все возможные варианты, пока спускались вниз. - Нет, мы не из-за звонка… Какого зво?.. Я сам там работал! Из-за детей главное… Гав-гав-гав! Но все меняется, и мы решили хоть что-то изменить… Что еще изменить? Наоборот, твердым курсом, с чистыми руками. Дети хотят… Тяф-тяф-тяф! Дочка… Сын, то есть, внук!.. Вау-у-у! Съезд, сами знаете, Собчак… Сво… Лай-ай-ай! - он видел, что они ждали, хотели услышать что-то резкое, неблагодарное, что могло бы снять камень с души, которой, хоть ее не было, было так обидно, что с ней расстаются без огорчения, с радостью. А он был признателен им за это и спешил съехать быстрей в свой новый дом… Там недавно была она, и аромат ее духов, тепло ее дыхания еще не выветрились сквозняками времени. Он ощущал ее прикосновения в каждой вещице, чувствовал ее тело в углублении дивана, слышал легкую, порхающую поступь шагов, переставляя руками ее бархатные тапочки с серебряными пряжками по ковру. Ему никуда не хотелось уходить, а только ждать и ждать ее возвращения, словно вместе с ней должно было вернуться и все потерянное. Но ее не было. Она уже парила высоко в небе и возвращалась в тот страшный город, возвращалась, чтобы потом вновь вернуться сюда - и так до бесконечности… - Может, так и лучше: всегда куда-нибудь возвращаться? - думал он, представляя ее в строгой, небесного цвета форме, парящей по бесконечному салону пустого самолета, изящно склоняющейся над пустыми креслами, где всюду ей виделся только он, бесцельно слоняющийся по пустой квартире. Нет, ждать ее было невыносимо... Это самое нетерпимое и всепожирающее чувство - ожидание! К вечеру он готов был бежать отсюда куда глаза глядят, только бы не прислушиваться к шорохам, к любому шуму за дверью. Ему было страшно представить ее одну в этих бездонных небесах, над пропастью холодной планеты, готовой в любой момент поймать вас длинными, цепкими щупальцами силы тяжести и с размаху прижать к своей бесчувственной груди, навеки оставив его одного в ожидании... Со смехом он вдруг почувствовал, как у него начала подниматься температура, и, быстро одевшись, убежал от недвусмысленно, заботливо молчавшего белого телефона... В отсветах медного заката город опять изменился, остепенился, постарел, как-то разочаровано нахохлился, подсвеченная солнцем зелень листвы казалась искусственной патиной и металлически шелестела в струях вечернего бриза на окостенелых ветвях морщинистых вековых деревьев. Звук шагов гулко выпрыгивал из-под ног, ударялся в бессловесные, неприветливые стены и юркал в грубо отесанные заросли мелколистного кустарника, где тут же увязал в черной паутине колючих веток. Улицы на глазах переполнялись прохладой ночной тьмы, готовой вот-вот выплеснуться за края стен и разлиться по всему небосводу. Улицы были уныло длинны. Словно сонные змеи вились они вдоль склонов грудастых сопок, впиваясь в них точеными рогами переулков, сбегающих оттуда уже каньонами асфальтовых речек к заливу, полному плавленого золота солнечной лавы, остывающей под холодным дыханием бесчувственной, уличной ночи, весь день прятавшейся в черноте стрелок, цифр, в окнах домов... Он не узнавал город. На древних фотографиях тот, как и другие города, был полон еще не скованного камнем простора, расплесканного порой лужами под ногами никуда не спешащих, замерших в очаровании, незадачливых прохожих, не замечающих, как за их спинами мир схлопывается, обрастает каменными стенами с виду мертвого великолепия, все молодея и молодея, в отличие от них, за счет ли них, с каждым своим шагом теряющих, роняющих под ноги мгновения своей жизни, разбрасывая их, словно камни, главный строительный материал лабиринта. На новых фотографиях он еще краше, живее, но тех прохожих давно нет и на них… Кто же прах?! А ведь первой уроженкой города и была записана Надежда, с пламенной фамилией, хотя раньше нее родилась... Елена! И просвещенные первооткрыватели, словно новые аргонавты, раздавали имена с размахом, от героев Эллады, до Японии, Америки и Алеут, дивного вулканического ожерелья двух великих материков! Красный Октябрь выжег, вымарал многие из них своими кровавыми метками, клеймами, не посмев коснуться лишь Золотого Рога истинного хозяина города, порожденного самим Посейдоном, так и замершим в порыве страсти в водах Босфора Восточного в образе каменного быка, а, может, и самого Минотавра, растопырившего мощные задние ноги полуостровов, рогом поддев чей-то мощный, брюхатый торс. Из раны на острие рога мощной струей стекала мутная, горячая и солоноватая кровь города. Многое тут и своими очертаниями берегов напоминало Элладу с соседним Критом, и Андрей уже не мог избавиться от наваждения, видя город иначе, не только по секретным у нас космическим снимкам американцев, но и в каком-то ином, внутреннем свете, вспоминая и мощные двери подземелий в скалистых склонах сопок… И город, словно в отместку, демонстративно не узнавал его, равнодушно наблюдая черными глазницами за его бессмысленным шараханьем по пустым мостовым и тротуарам, чисто выметенным ветрами. Он словно затаился, пряча за серой вуалью стен свое истинное лицо. Лишь изредка встречались обрывки портретов, настенных аватарок, смотрящих на него одним, двумя или вообще безглазыми лицами и пытающихся сказать ему что-то деланно улыбающимися ртами. Иногда от лиц оставались только ухо или клочки кожи, волос, намертво приклеенных к шероховатым стенам, напоминая о совсем еще недавних, совершенно невероятных для города событиях, все еще кажущихся туманными миражами далеких миров, призраками слухов, смутных желаний, надежд, занесенных в эту каменную пустыню миражами, оптическими эффектами, иллюзорностью самой земной атмосферы, перемешанной, искривленной пертурбациями весенних штормов, не знающих границ, режимов… Что-то явно произошло. Город стал настороженно чуждым, пугливо отстраненным. Стены, дома, улицы - все казалось трехмерным изображением, проецируемым откуда-то из глубины на огромный экран неба, единственно реальный во времени. Это изображение казалось живым, светилось изнутри желтым золотом окон, не проникающим далее их плоских прямоугольных рамок с нарисованными внутри светящейся гуашью интерьерами и даже живыми, двигающимися картинками внутреннего быта. Их строгие ряды, столбцы, как и квадраты на панно того дома в Чатал-Хуюке, тянулись вдоль бесконечных стен огромной, ужасно однообразной галереи, словно весь город и был грандиозной выставкой одного живописца и одного жанра – все еще соцреала в крайнем, ортодоксальном варианте, допускающем лишь частные композиционные вольности, которые были так же шаблонны, хотя никто бы там, за окнами, так про себя не подумал... На всех картинках - одна и та же стандартная мебель, одинаковые плафоны и люстры, слабо варьирующий блеклый фон внутренних стен и мало чем отличные темные силуэты, тени фигур на похожих тюлевых занавесях множества театров теней, райков жизни, на экранах которых повсюду шел один и тот же, да еще и немой спектакль одного режиссера, по одному вечернему сценарию… Вскоре большинство окон и засветилось не теплым светом искусственных солнц, а светло-фиолетовым, холодным сиянием телеэкранов, какой исходит и от горелок с денатуратом. И даже тени их исчезли, растворились в искусственных садах параллельного телемира... В городе сразу похолодало, стало страшно неуютно, и Андрей торопливо поспешил к заливу, гладь которого была рассечена надвое теплым, серебристым светом лунной тропинки, начало которой всегда у ваших ног, сколь бы вы ни пытались уйти от него вдоль берега. И именно это почему-то и мешает вам ступить на ту дорогу - слишком уж она открыта для вас, слишком настойчиво зазывает, навязывает себя, хотя ничем не пытается доказать свою реальность при этом. Только Бальмонт мог шагнуть на нее и даже пройтись, но сейчас она была так тонка, призрачна, как и сам серп луны, бумерангом летящий на запад… Нет, это все были оправдания, он не смог бы вырваться из лабиринта, даже пойдя по той, самой короткой и верной дороге до конца – не ради жеста, жести ли! А больше ему идти было некуда – весь берег позади был лабиринтом… И тот тоже знал это! Но ее квартира не походила на один из тупиков, он ощущал в ней какой-то скрытый простор, может, из-за отсутствия громоздких стенок, ковров мрачных цветов на стенах, сжирающих крохотное жизненное пространство наших клеток, куда нас все равно тянет из чужого, не нашего простора, от «воли» которого мы сами прячемся – никто не заставляет! Сами! С Ами! Не сами лишь строим, проектируем те клети, раза в три лишь большие, чем та… последняя! «Всего в три! На троих! – он содрогнулся от такой арифметики. - Так ты нас приучаешь?! Нет, не ты - сами, наша тяга к своему, к частному, к части, Party! Пока еще личному...» Но здесь тупика не было, почему, может, и было так одиноко от свободы… И он заснул... Часть вторая. Аттракцион «Аттракторов»... Глава 10. В тупик он попал утром, придя в просторный, с высоким потолком кабинет в Президиуме Дальних Наук, арендовавшем крыло старинного здания старинного же географического общества, ныне тоже однокрылого, ютившегося над первым этажом, занятым «Лен-Кино». Своего здания Президиум, при строительстве Академгородка одним из представителей Капищ обворованный по копейке, по капельке более хитро-мудрыми местными властями, не заслужил. В этом же, где знали больше, чем нужно, его встретили с натянутым, как бы обычным чиновничьим, деловым равнодушием, чему он был рад, на сей раз приехав из столицы без сувениров, сладостей, которые могли скрасить кислый вид хотя бы сотрудниц, преобладавших тут, в отличие от института. Несколько раз он пытался поделиться впечатлениями, но коллеги, чьи разделы планов тоже рухнули, сразу погружались с головой в работу, отгораживались горой обесценившихся уже бумаг или деловито убегали по срочно вспоминаемым делам. Он тому не удивился, хотя и его дела, ради чего его пригласили временно в Администрацию Наук, потеряли для него всякий интерес, смысл, и он бесцельно слонялся по зданию, подспудно чувствуя, что и его сейчас кто-то разыскивает с иском за пазухой... - Вас тут ищут, кажется, - обезличено заметил начальник спец-части Хорьков, не здороваясь, пряча глазки за толстыми линзами очков, придававших его простецкому лицу ужасно умное выражение, - у меня в кабинете, - уточнив все же, он вдруг хлопнул себя по лбу, вспомнив что-то важное, и пустился вниз по лестнице в подвал, странно подгребая под себя локтями и виляя тощей задницей… Искал его, сидя за столом и привычно глядя в стенку, их куратор из комитета, высокий, белокурый мужчина в неизменно черном, со странно маленькой, птичьей головкой, с кем они не раз пересекались на различных международных симпозиумах, в тех самых явочных квартирах или в подобных спец-номерах гостиниц. Как и большинство граждан, не зная языков, но из конспиративных, ясно, соображений, он сам не общался с иностранцами и сутками сидел там за пустым столом с телефоном, выстукивая пальцами Морзянку на столешнице и глядя в стену, словно сквозь нее, через паутину тонких, невидимых проводов контролируя все происходящее в далеких залах заседаний и в их кулуарах. При любом выражении бледного, бескровного лица, взгляд его серо-голубых глаз всегда оставался холодным, настороженным, словно он видел в тебе и то, что там и было на самом деле. С иностранцами общались, как он заметил, спецы чаще с карими, блестящими, ничего не выражающими глазками, при близком знакомстве оказывавшиеся циниками, но с забойным юморком, как другой их куратор Виталик, самый приветливый и общительный... - Привет, - настороженно и сухо сказал тот, суетливо сунув ему руку лопатой и сразу отдернув, но пошарив для приличия по карманам, ничего там не найдя. Глаза его словно выглядывали из другого совсем мира, и даже хозяин был им чужим, так тот неуютно себя чувствовал тут. Наверняка в детстве он долго был маленького роста, а потом вдруг вымахал. – Пойдем… покурим, на лестницу? - Ведущую никуда… Быстро вы, - заторможено усмехнулся Андрей, догадываясь о причинах визита. Ему вдруг стало скучно… - Такая у нас работа: знать все... заранее, - ответил тот заносчиво, хотя без санкции шефа Ментурова вряд бы ушел от микрофонов, которые всегда с собой. Забравшись на верхнюю площадку черного хода, он, закурив и словно не зная, с чего начать, пошарил вновь по карманам и достал фотографию, на которой Андрей позировал посреди облезлого балкона, заслонив того… - Знать все свое, - уточнил Андрей, похолодев внутри, словно глотнул ледяного дыма. Не испугался, а, наоборот, перешагнул будто некий барьер и лишь удивился своей готовности к чему-то, своему ли странному безразличию. – Профессиональное фото. Подаришь? - Для мемуаров, начиная с комсомола?.. А как ты думал? Знать все! - не ваш ли девиз? Увы, вещь-док! – спрятал тот фотку. Ему не хотелось говорить об официальном, что он уже передал другим. С ним они понимали друг друга с полуслова, ведь он давно курировал его, и по работе, и по натуре легко общавшегося с иностранцами, что комитетчики, в отличие от разведчиков, сразу воспринимали подозрительно, с какой-то даже завистью, но к чему интерес комитета резко возрос после введения Западом эмбарго на научную информацию, технологии, касающиеся той же информатики и прочего, особенно, после перекрытия кислорода, доступа даже в библиотеки нашим разведчикам. Ломать же комедию не хотелось, ее сейчас и в комитете так ломали, что голова пухла. - Скажи, Андрюха, неужели вы на самом деле решили покончить с нами, с нашей структурой? Такие ж службы есть везде, даже в ваших самых демократических странах? - Мы?.. С вами? - Андрей не ожидал такого поворота, хотя Володя мог спросить и не такое, буквально огорошив... Гебешки, не знавшие сути его попутных занятий со словом, пытались прокачивать и его, включая почти джойсовский, но по балдински мутный «поток сознания», точнее, карусель трепа, на которую простачкам так хотелось запрыгнуть на ходу, вставить словцо, когда те уже говорили, якобы, о другом, ловя чертей как раз на попутках, в мутной воде, какой та стала в восьмидесятых для них самих. Андрею не на чем было ловиться, он не принял и их игры в якобы «продавцов родины», как банальной низости, рассчитанной на их стереотип хитрована-ученого, как любого выездного гражданина-барахольщика, дипломата-фарцовщика, своих коллег из числа перпомов капитана, с кем Андрей пересекался в научных рейсах, редко встречая там бессребреников. Некоторые знакомые воспользовались карт-бланшем, сразу после собеседований устремляясь с «испытующим» взором в залы заседаний в поисках покупателей «родины». И небезуспешно, хотя гебешки вряд могли понять истинные мотивы ученых, у которых были совсем иные «товары», ценности, иное понимание и самой «Родины», чем у тех же юрких чекистов-перебежчиков, первыми буквально и продававших ее с самыми потайными потрохами и коллегами... Но без их, а, значит, официального «одобрямс» он сразу бы стал невыездным, как его институтский завлаб, лишившийся визы за «Архипелаг…», найденный у него при досмотре, ясно, по доносу. Потому он, как все контактные, «сдался», написал на явочной квартире им с Ментуровым, со странным любопытством рассматривающим его, требуемые расписки, придумал себе подпольную кличку «Шаманаев», потом писал тому отчеты о контактах, о «купленной» информации - из западных журналов. Но и заграничные коллеги по тем же моральным соображениям не требовали с него за ту ни пяди родной земли, щедро делясь и ее новейшими снимками из космоса, тут же исчезавшими в сейфах спец-части, взять откуда их и он мог лишь по допуску к секретным материалам. А штатовцы расстилали перед ними панорамы сонарных съемок дна даже пограничного Берингова моря, лишь бы услышать комментарии, мнения с другой стороны, даже просто заметить взгляд восхищения их работой. Те были край нужны и нашим подводникам, почему наши армии и финансировали щедро даже чисто научные рейсы в океанах. Не могли лишь не считать их чертяками, мстя подозрениями той же прокачкой... Они же не играли, точнее, Володя, не болтун по натуре, если мог играть, то в молчанку, и сейчас говорил, но опять словно не сам, а кого-то озвучивая. Но Андрея озадачило не это, а отношение комитета к ним, к его, кстати, роли в этом, им еще не осознанной... - Разве, нет? После такой мощной артподготовки Гласности ведь ясно, - нахохлившись, продолжал Володя, - кого вы били... - Мы? – усмехнулся уклончиво Андрей. – Как и на двадцатом съезде? Или только вы не учли его застенчивые уроки? Бери и... учи! - Уроки Берии? Его партия сделала втихую, - возразил тот, - боясь новых чисток, испугавшись их вновь и при Юре... де-факто! - Под марш не Скорпионов, но Жуков, однако! – заметил Андрей, даже уверенно себя почувствовав. – Почему Юра и пришел к власти не втихую, а под грохот танков на Варшавке, что сам слышал, поминая в Москве Леню другими лишь словами, нежели телик. Потому армию и опустили, вывели из строя загодя в Афгане, потом ее же лопатками в родной земле Сталина, Берии? Не вы ли? Но кто?! - Ну, тут-то все просто, - пояснял тот, явно, по своим политинформациям, - столько боевых частей, лихих генералов вернулось из Афгана обиженными, недовоевавшими,.. не победителями, но на танках – обычная профилактика. У них же свои понятия о перестройке, строе и прочем… Могло бы такое начаться, сам понимаешь... - Как по плану: к съезду, но без триумфа! Чья чека была в гранате? Иначе и они бы вам напомнили кое-что из Гласности, но не микрофонами! – продолжал Андрей, усмехаясь над его озадаченным видом. – Понимаю. Вы – армию, партия – вас... Но вы и перестройку пытаетесь обратить в хаос, в абсурд, выпустив из психушек на площади хорошо подготовленных «революционеров», замутив, обратив все в бардак, где лишь вы – как рыба в воде? Вы же ненавидите Сахарова, так зачем пустили на трибуну, демонстрируя его пощечины на весь мир, по всем каналом? Не вы ли? Партия? Сама? Но чей табун на съезде Собчак и Ко погоняют, в табун топтунов и обратив? - Собчак и Ко? А кто этот Ко? – озадачено переспросил Володя, хотя тут ему, вроде, все было и так понятно... - Кто? Да, ты не знаешь, - сказал Андрей. – Кто-кто? Конь!.. - В пальто? – рассмеялся вдруг весело чекист. - В тройке, ну, Троянский, если помнишь, - усмехнулся и Андрей, но не весело, - исторический прием аргонавтов, авантюристов, разрушителей крепостей, мифологических воров, ну, и наследников каторжан... Его вы и запустили на площади, даже в Кремлевский дворец, в крепость, в логово самой Партии, но как бы от народа! - Ну, запустили, то есть, выпустили, но не сами же? Приказали сверху, твои перестройщики... и приказали, - тихо, озираясь, повинился тот, не вдаваясь в детали. – Но ты же – не псих, почему они там, кстати, и удивились твоему появлению у них. Хотя и ты был когда-то в шаге от психушки? Ну, да, сейчас-то это, вроде, можно, сейчас они – там, в теле-дурдоме!.. Но кто их туда выдвигал, избирал? Не мы же... - Конечно! Не вы и виноваты будете! Вы-то вообще ни при чем! – насмешливо заметил Андрей. – Вы все на сей раз, даже это предусмотрели: крайние уже есть, назначены... еще Юриком. - На, хотя балкон мало чем отличен от других, да и кому теперь это нужно, - достал тот вдруг фотографию из кармана, протянув ему. - Ты прав, ничем, - Андрей даже отпрянул и не взял фото. – Всю страну на дыбы поставили, как того конягу, армию, партию свою подставили, подставляете, но ни при чем! Ну, кто еще в нашей стране мог бы такое сделать втихую, какая еще сила? Нет другой! - Как хочешь, - буркнул тот, спрятав фотку, продолжив как-то уж слишком доверительно. - Но я о другом, ну, о том и говорю: куда и вы без нас? Во всех почти странах партии тасуют, меняют постоянно, но у наших служб разве что головы... того, меняют. Сам говоришь: другой такой силы нет у нас – на кого же еще-то вам опираться? Оперся Никита на партию, Жукова того же потом послал подальше – и где он, черно-белый кукурузник наш? Партия его и... - А Юрик ваш грозный где?.. Вот-вот, с таким здоровьем надо было с дела врачей начинать, а не с партии... Товар ищеек! Хотя согласен, если бы ваши службы постоянно меняли, тасовали, тогда бы они и меняли все в мире из страха, но обладая силой! – подметил Андрей, пытаясь отвлечься от мыслей болтовней. – Если, конечно, не найдется какой Макиавелли, Иосиф ли с их перманентными, профилактическими чистками и сапог, и штиблет! Да, работа, судьба у вас такая, у внутренних, самоочищающихся органов, не обессудь! Но кроме вас-то еще и лапти есть, которые чистить не надо – себе в убыток? А им-то или план давай, или полную свободу инициативы! Плана больше нет - сам с его похорон вернулся. И что осталось, что теперь будет стержнем экономики, государства? Банки, как Юрик венгерский надеялся? Нефтяная игла? Да, для нее такая огромная партия надзирателей, как и громадная толпа этих союзников-нахлебников не нужны, даже лишние, можно их и лопатками турнуть подальше. Хватит той, вполне достаточной, бригады лаптей, ну, и самих внутренних органов – для обслуживания, охраны трубы и переваривания всего этого, как, кстати, не только вы считаете! Да, еще и Маргариты с туманных Альбионов – почти на счетах фюрера! Считаете-считаете, в те времена еще так считали, не жалея и сотен миллионов ради революции, и не только теоретически! Разморил всех брежневский застой, нефтяной рог изобилия, баксовая халява, но которая с приходом Миши и закончилась, и Афган не помог! И теперь для ее работы, да и охраны, конечно, нужна еще более мощная, сильная армия и сапог, да, и ваших штиблет, но, главное, лаптей, а вы... всех остальных: партию, армию, науку, а главное, лапти сочли лишними, взаимно, правда... - Стоп, стоп! – перебил его, тряся недоуменно головой, Владимир. – Я, конечно, не ученый, извините-с, что-то, может, и не понимаю, но кто все это и кому говорит сейчас про план, армию? Особенно про лапти! И о партии сожалеешь, ну, будешь сожалеть, если что?.. Но кто этот план и похерил там?.. Не ты, не ваши ли?! - И тут крайние! – рассмеялся Андрей, тоже словно очнувшись. – Не ученый, понимаю, но считать-то умеешь? И что, ваш красный табун не мог подавляющим большинством проголосовать и за план, и за пятилетку, если б хотел, пастух ли дал команду, поставил бы на голосование, что все главное остается в силе, пока не нашли замену? А сейчас что – опять ни войны, ни мира, как у проститутки Троцкого? Ни плана, ни рынка! Что тогда? Хаос? Извини, дело-то не в ораторах, не в актерах, даже мастерски исполняющих роли, а в режиссерах, сценаристах, кредиторах этого телешоу, Съезда могильщиков!.. - Ничего не пойму! – уже почти возмущался чекист. – Ты, с самого детства антикоммунист, антисоветчик, а теперь уже и с партбилетом Демсоюза в кармане, меня, нас, то есть, во всем этом обвиняешь, прямо как патриот? А Родину кто продавал?.. Шучу! - Вот, и дошутились! Страна была и до коммунистов, и до чекистов, еще и поболе была, - заметил холодно Андрей, - да и будет! Ее, как оказалось, продать невозможно! Понял, благодаря вам... - Не знаю, что, кто там будет, - растеряно как-то начал тот, но продолжил мстительно, хотя и с извиняющимся нотками, - но насчет тебя, увы, Андрей, уже приказ поступил, ну, распоряжение... Но я - только исполнитель... Сам ничего не пойму пока... - Все понятно: настоящих буйных много – не хватает вожаков! – напомнил Андрей равнодушно. – Но насчет какого меня приказ? У кого ты про судьбу свою спрашивал? Зачем я вам... там, кстати? - Ты меня спрашиваешь? – засуетился тот, не зная, подать руку, нет. – Но что тебе расстраиваться: денег теперь и армия вам не даст – самой бы выжить! Ты, может, вовремя сориентировался. Умники нужней на площади, а тут и мешать будут! Нашим... только там, на Западе, свои верят, а тут после Гласности, увы... Тебе же поверят! Шеф так считает... Привет, кстати! Так что, не пропадешь! Ну, пока?.. Выходя с лестничной клетки, Андрей столкнулся с москвичом Авосиным, выскочившим из кабинета географического общества. - О, привет, - растеряно улыбаясь под пышными усами и озираясь, сказал тот, увлекая его за руку обратно и прикрыв за собой дверь поплотней. – Андрюха, ты чего вытворяешь, зачем это тебе? - Сложно пока сказать, - пожал Андрей плечами, с удивлением разглядывая огромный кабинет, увешанный картами… - Наслышан, - сочувственно произнес тот тихим голосом, хотя в кабинете… никого не было. – Знаешь, я ведь хотел стать историком, но не прошел, к счастью, врать тогда еще не умел, не знал, сколько и тут вранья. Но я все же хорошо знал историю партии, революции – меня она даже вдохновляла, как и Маяковского поначалу, но и… пугала своим Хаосом... Не был еще циником, без чего там делать нечего. Это такая грязь, кровавая грязь! Что тебе там лично надо? - Мне? – Андрей даже удивился такому вопросу. - Вот-вот! – усмехнулся тот с горечью. – Там лишь те, кому, кроме борьбы, а, главное, карьеры на ней и бабок, ничего не надо! Да, в мутной воде не только черти водятся, но и рыбка ловится! - Ничего и не получится тогда! – сердито буркнул Андрей. – А Балда и рад стараться, свою же лодку раскачивать – как на заказ! - Тебе-то что, если знаешь? Или изменишь что? Но это, не мое, меня не волнует. Зачем с... этими ссориться? Они ж в этом Хаосе, тоже надеясь им управлять, открыли для нас врата международного сотрудничества, но со своими – с их-то бабками, техникой, что ты знаешь, почему тебя к планам и привлекли, надеясь все изменить и тут... - После Москвы, Госплана я что-то засомневался и в их планах, - усмехнулся Андрей, – да и самих, наших нет уже… - Наших, планов... Я сам хочу, по своему плану, но с помощью тех, ясно, кто за интерес – а у нас-то, у науки он общий - готов платить! – с загоревшимися глазами перебил Авосин. – Реформы - реформами, а в том у всех интерес, и эти сами нас на то толкали... Черное золото Арктики! А черные алмазы? Клондайк! Где? Найдем! Раньше меня старперы-академики, делившие бабки, рейсы, не подпустили бы до кормила до старости! А в Хаосе, да, не нами, не для нас созданном, они со своими абстрактными идеями, без ясных целей – никто! И те мне поверят – не им! Не зря, хи-хи, торговали... воздухом! Поэтому потеряешь лишь время, дай бог… Извини, спешу, мое время – уже деньги! Подумай! Жду! Мне-то спецы нужны!.. Но только!.. - Ясно, Леша! – сказал Андрей, вспоминая, как лет пять назад их собирали перед конгрессом, где комитетские кураторы даже не стеснялись слов «продажа, change», и Алексей поверил. И не зря!.. - Нам тут надо кой-какие формальности завершить, - сказал ему Хорьков, тяжело поднимавшийся навстречу из подвала, внимательно разглядывая каждую ступеньку и опять виляя задом, словно волочил за собой солидный хвост, - ну, по спец-допуску. Он же вам теперь и не нужен для работы, раз с планами все кончено? Или нет?.. Бросьте, это же формальность, нас ваша научная работа никак не касается: сидите себе, изобретайте, - словно оправдывался тот. - Спасибо, лучше постою, - усмехнулся Андрей, расписываясь, - к тому же тут наукой и не занимаются – только планируют... - Чуть не забыл, вас шеф просил зайти потом, - хлопнул тот себя по лбу, когда они уже прощались, - ну, сейчас, то есть... - Он, что, тоже там, в подвале? – с серьезным видом спросил Андрей, словно в ответ и услышав снизу какой-то раскатистый гул. - Нет, что вы, там просто архив… переезжает, - ответил тот машинально, но осекся, окрысился было, но прикусил губу, пытаясь скрыть оплошность насчет их, еще энкэвэдэшного архива, даже сняв вспотевшие вдруг очки, оголив маленькие, подслеповатые глазки... - Уже? – не удивился Андрей, вместо ответа вновь услышав снизу какой-то скрежет и визг..., вслед за которыми по ступенькам прокатился грохот чего-то тяжелого, железного… Старинное здание содрогнулось, из некоторых дверей тут же выглянули испуганные лица, но мигом скрылись, заметив в коридоре Андрея, неспешно бредущего в приемную, будто его шаги и были причиной того… Возразить было некому, да ему и самому так показалось вдруг… К вечеру он покинул здание, да и науку в целом... Председатель был одновременно и директором института, и Андрей не хотел его ставить в неудобное положение, выслушивать ли вымученный отказ. Независимый академик был еще и чиновником, отвечавшим за всех и за все. Поэтому он сразу написал и заявление об уходе, облегчив тому задачу, но оставив его все же в неудобном положении. Пять лет назад он без сомнений принял в свой институт Андрея, тайком сбежавшего от своего бывшего научного руководителя, его влиятельного друга, бывшего покровителя, потом пригласил и сюда. Странно, но сейчас Андрею почему-то было жаль его… Умный, деловой технарь, похожий и ныне на очкарика-отличника, впервые выглядел таким растерянным, виноватым за что-то, неподвластное ему, чуждое, далекое от его науки, от истины, но до жути реальное, всесильное именно своей бессмыслицей, лживостью, непостижимостью для разума! Увы, разум, логика объективно не могут сделать ничего из лжи – только обличить, не принять ее. Истину легко обратить в ложь, переврать, ума для этого много не надо – даже наоборот, делается это не от большого ума. Но ложь обратить в истину невозможно. Дело даже не в семидесяти или более годах, в веках ли ее господства, не в отсутствии гения – это просто невозможно, таков закон нашей Логики, сорванной с Древа Познания еще Адамом... Олицетворением ее и был комитет, скопище обученных, образованных, свято уверенных в своей правоте, но моральных тупиц, что, конечно, унижало, оскорбляло разум, хотя дело было и не в них – в самой лжи, воцарившейся на земле изначала, как непременная спутница созидания и чего-то Нового! Андрей чувствовал, догадывался смутно об этом, даже думая сейчас о другом, потому, может, был более спокоен... Академик думал сейчас о нем, о его судьбе, об их науке – и он был потерян, не находя ни единого варианта разрешения безвыходной ситуации, что для него, несомненного лидера, было унизительно… Увы, он сейчас сам уже хватался за соломинку: через год-другой и его наука будет унижена, окажется на самой огромной паперти мира нищенкой, побирушкой, а он изберет самый простой выход оттуда, последний, куда проводить его Андрей еще придет… Сам он сейчас предпочел иной: обычную, хотя и дубовую, блестящую лаком и позолотой ручек и замков, дверь… ...Благие намерения, и надеющиеся сделать лучше, по-доброму, из зла - добро, из лжи – истину, потому и ведут в ад предрешенного результата, с коим невероятно трудно согласиться чрезмерным ожиданиям, не готовым загодя смириться с невозможностью этого! Нет, Андрей сейчас вряд осознавал это, думал о том, ведь у него никогда и не было каких-либо определенных намерений относительно личной жизни. Все в ней, начиная с придуманного старшего брата, было некой абстракцией, сном на ходу, чтобы глубоко сожалеть о потерях чего-либо конкретного, реального, как и эта работа не по призванию, в котором он так и не определился, из-за какого-то внутреннего протеста избрав тогда профессию и судьбу скитальца. Он был дитем своего, не признанного реальностью, песочного времени – больше ничьим! Мать слишком рано, наверное, родила его, сильно ли любила отца, чтобы делиться этой любовью еще с кем-то. Этого он не замечал тогда, но сразу реагировал на нелюбовь других, как и сейчас, почему и сам постарался исполнить все формальности за день, чтобы больше сюда не возвращаться – таким очевидным было всеобщее напряженное отчуждение, словно он вдруг стал изгоем, скрытым врагом каждого, даже молча сочувствующих. Под несмолкающий уже грохот из подвала он сбежал с лестницы, оставил пропуск вахтеру и… закрыл за собой дверь, за которой вдруг воцарилась тишина. Лишь на тротуаре, среди спешащих куда-то прохожих, он остановился, словно выбирая, не зная ли - куда идти дальше. Еще недавно определенное, богатое выбором будущее, осталось за дверью, за спиной, куда у него уже не было пропуска… Не было ни зла, ни обиды, даже огорчения, может, потому что он не очень и представлял – за что, почему его вдруг лишили этого, именно сейчас, когда нечто подобное стало буквально публичным, официальным, вещалось с самого высшего уровня? Системные причины он пока смутно, только интуитивно осознавал, не владея всей информацией, вспомнив и Сидорова, но они были слишком примитивны, банальны, чтобы задумываться, теша себя, оправдывая, наоборот ли опускаясь на дно, куда они его и вышвырнули с его планами, знаниями, да и не только его, что он уже понял... Вряд кто из них, исполнителей, мог представить, что истинная причина была еще ниже, в подвале, под ногами, асфальт под которыми сейчас, словно от хохота, сотрясался катящимся под горку трамваем, устрашающе, предупредительно трезвонящим кому-то: «Прочь с дороги!»… Он не стал смотреть – кому, это было и не важно: любому случайному событию можно найти реальное объяснение, но не цепочке таких случайностей, последовательность которых часто и кажется немыслимой, нелепой, чтобы обращать на нее внимание. Так ведь и себя, появившегося тут по невероятно счастливой случайности, небывалому везению, можно счесть лишь звеном какой-то абсурдной цепи - пусть без тебя той цепи и не будет? Вот если остальные… Но никто из усталых, унылых прохожих с потухшими за день взглядами, похожих на свои тени на таком же сером фоне, не осмелился бы и по глупости преградить путь железной махине, которая лишь согласно заведенного порядка служит им, пусть и за деньги доставляя их на работу и с работы. Но попробуй только встань у нее на пути, пренебреги на миг правилами, возомни себя невесть кем и чем, да и просто забудься на мгновение – и она сметет тебя с дороги, превратит в кусок мертвого мяса, в лучшем случае в калеку, лишенного и… Не важно, чего: само название, статус добровольного калеки, бесполезного в общем деле - уже клеймо, унизительно! Искалеченный, исключительный, исключенный… Никогда! И вот он опять несется, трезвоня, посреди асфальтовой улицы, разбрызгивая их тени по стенам домов, и никто и в мыслях не представит себя бунтующим против них, вставшим на их пути, если только не… Но его сейчас примерно таким все и считают, совсем не бунтарем, а именно тем самым неудачливым калекой... Кинотеатр уже переименовали из былого «Лен-Кино» в «Петь-Кино» - но лишь из-за плохо, наспех прибитой буквы «Р»... ...На берегу, на полу-вытащенной из воды лодке сидели двое, молча разбирая в полутьме спутанные снасти. - Есть огонек? - спросил один из них Андрея. - Да, кажется, есть... Поймали что-нибудь? - Друг друга в основном, - рассмеялся второй, жадно раскуривая подмокшую сигарету, - рыба как пропала вдруг куда-то. - Тоже, видать, съезд слушает, - усмехнулся первый, - молча… - Было б что слушать, - с сарказмом сказал второй, - не показывали бы на всю страну, на весь мир. Это ж понятно... - Не было б что, так не затаптывали бы так, - возразил первый. - Конечно, все это потом свернут, когда спохватятся, но пока вроде бы неудобно - никто же не заставлял его в гласность играть. Он сейчас не хуже нас: и хочется рыбку съесть и... - сам понимаешь... - Не верю я в такие случайности, - упрямо продолжал второй, - что-то здесь не так. Чтобы кто-то на их месте стал бы сознательно рисковать своей властью? Да никогда! Ведь если народ вдруг поднимется, то наш российский страшный бунт о-е-ей какой может быть... - Ну, какой? - едко спросил первый. - Если разрешат, то и будет ой какой, а если нет, то и вряд... Кому бунтовать-то? Пугачевы, Разины теперь тоже – лишь с микрофонами якшаются… - А что, ты бы сам не пошел бунтовать? - спросил второй. - Так пошли, - спокойно предложил Андрей. - Куда? - удивленно спросили те оба, слегка насторожившись. - Бунтовать, - усмехнулся Андрей. - В одиночку? - спросил первый. - Была бы партия... другая, то еще можно было бы, - сказал рассудительно второй, вернувшись к своему занятию, - а ворон смешить глупо. Всех их сознательно провоцируют, чтобы раскрылись... - Поодиночке, - поддержал его первый. - Так и надо партию создавать, - спокойно сказал Андрей, - чтоб не пропасть поодиночке. - На троих? - усмехнулся второй. - Так на троих что-нибудь другое и проще, и приятнее... - Это старая песня… Никто не пойдет, - поддерживал его и первый, - все съезд слушают. Там интереснее, безопаснее... - И привычней. От съездов всегда только и ждали что-нибудь такое, - продолжал тот, - новое. Даже сосиски… - Как и от юмористов, - подхватил первый, - что-нибудь новенькое. У нас тут ничего не решится, если сверху не скажут... - Тогда вообще ничего не решится, - возразил Андрей, - смысл всего этого как раз в том, что здесь должно все решаться. Там они, похоже, просто воюют меж собой - кто победит... - Ясно, кто, - насмешливо подметил второй. - А победить должно что-то, - продолжал Андрей, но слегка поправился, - каждый из нас, все... - Так не бывает, - усомнился второй, - если рыбы нет, тогда все поймают поровну. Если ж рыба есть, то кому-то повезет меньше. - А рыба, похоже, есть, - неуверенно произнес первый, - ну, там, раз столько рыбаков вдруг собралось... - Может, и придем, - дружелюбно сказал второй, - хотя мы привыкли сами рыбу ловить, а не ловиться в сети ловцов... - Человечков, - добавил первый, усмехнувшись в усы… Глава 11 На лестничной площадке Андрей чуть не запнулся о мужчину, задремавшего на ступеньках лестницы. - Андрей? - деловито спросил тот, когда он вставил ключ в скважину, и подскочил к нему с протянутой рукой. - Мне оттуда позвонили и все передали. Мы уже давно ждем… Говоря это, он суетливо пытался пройти в квартиру, обегая Андрея то с одной, то с другой стороны и даже злясь на его непонятливость. Когда же Андрей переступил порог, он вдруг в нерешительности замялся в дверях, жалостливо поглядывая на него. - От нее позвонили, вы понимаете? - зашептал он, оглядываясь по сторонам. - Я же не могу громко говорить, неужто не понятно… - И что? - удивленно спросил Андрей, стоя на пороге. - Так переговорить надо, - замялся тот, - какие будут установки, распоряжения. Партию надо создавать к тому же, мы давно ждем кого-нибудь оттуда с полномочиями, с мандатом. Вам ведь дали их? - Полномочия, мандаты? А они нужны? - спросил Андрей, жестом приглашая его войти. - Это же дело добровольное: никто никого не обязывает и, тем более, не запрещает сейчас, мне кажется… - Не запрещает? Как это, если нет официального разрешения? – недоверчиво переспросил тот, ища глазами тапки так настойчиво, что Андрею пришлось незаметно задвинуть ее тапочки под диван. Но гость нашел их и там, не поленившись опуститься на колени. - Ну, так нельзя, везде должен быть порядок, даже в хаосе, где без плана, программы никак нельзя! Так мы их не победим с их-то организованностью. Все как положено должно быть: билеты, учетные карточки, партвзносы... Против лома - только лом! Вы же Манна знаете?.. Странно... Ничего, познакомимся! Хорошая у вас квартирка... - Ну, она вообще-то не у меня, - зевая протяжно, подметил Андрей, демонстративно расстилая постель. - Времени, главное, мало, - торопливо продолжал тот, усевшись за стол и словно что-то ожидая, - нельзя терять ни минуты. Кто не успел – тот оппозиция! Вы уже многое успели сделать? - Чтобы успеть, надо завтра встать рано, - Андрей, хоть и чувствовал себя неудобно перед гостем, но не мог перебороть или сонливость, или еще что-то, мешающее разговору… - Вы понимаете, мы и так семьдесят лет уже проспали! - затараторил тот еще быстрее, вскочив со стула и забегав по комнате. - Все проспали! Оттепель проспали! Застой проспали! Ускорения и не заметили! Перестройку, Гласность досыпаем! А враг-то не дремлет, бдит! Он всегда на посту! Это возмутительно, что мы до сих пор не создали здесь партии, массовой партии - ничуть не хуже, чем у них! - И не лучше, - подметил Андрей, тяжело опускаясь на диван, - ну, если как у них... Зачем тогда? - Как сказать! - воскликнул тот, - если мы ее вооружим и сплотим, то будет и получше. А вы как думали? Мы же не в игрушки собрались играть! Не в лапту! Обезьяна и стала Политиком, едва взяла в руки Палку! Я как раз этим у нас и буду заниматься. Опыт есть. Небольшой, но все же... подпольной работы. Мы тут даже место под наши собрания обустраиваем… Казино! Не то что… - Может, завтра продолжим? - чуть не взмолился Андрей. - Голубчик, так уже - завтра! - воскликнул тот уже на кухне, - сейчас я кофейку соображу. Надо переходить на ночной образ деятельности. Днем они не дадут, такой партии не дадут. А по ночам они уже отвыкли работать, расслабились после него, тоже спать любят.., к счастью. Так бы вряд они проспали все это... А что, кофе нет, разве?! - Кофе? Завтра ж на работу? – машинально заметил Андрей. - Кому на работу?.. – переспросил тот, но мигом перебив себя. - Так уже завтра, посмотрите на часы, если не верите!.. И здесь нет. Ну, нет, без кофе революции не сделать. Хоть бы чай был, я уж не говорю о кокаине или кофеине, то есть… Хм, это вы зря, это деньги, большие деньги, голубчик. А без денег революции не сделать. Но не волнуйтесь, у меня каналы остались, но сам лишь не смогу их... - Нет, давайте все же завтра! - решительно сказал Андрей, пытаясь оттеснить его к двери. - Да у меня же Сейко, вы, что, не видите! - совал тот ему в лицо часы, приподнимаясь даже от усердия на цыпочках, - они не могут уйти вперед или отстать. Я давно на них перешел. Наши - дерьмо, все время врут. А завтра в каком смысле: насчет кофеина? Или кокаина? Хотя, вы правы, оружие вдвойне выгоднее. А как же? Партии ведь нужны будут большие деньги? Можно и экспроприацией... Аттракторы хаоса, теракты – из одной же оперы? А вы и не знали? Вы же сами этими, природными тер,.. ну, катастрофами, террасами занимались? Он вдруг вновь перешел на шепот, озираясь по сторонам. Андрея же зачем-то взял под руку, крепко сжимая локоть. - Причем здесь это? - удивился Андрей и потянул его в сторону к двери, безуспешно попытавшись освободить руку. - Мне, вообще-то, лучше бы здесь и остаться, - прошептал тот, упираясь, - для конспирации. Удивятся ведь - чего я так поздно от вас выхожу и что я вообще тут делал. Без конспирации мы и дня не выдержим. Только конспирация, тайное голосование. Но я думаю, что Манн с масонами нам помогут, поделятся опытом. Пушкина знаете? Тоже, да… Надо только мне побыстрее на них выйти, поскольку дорог каждый час. Как считаешь? Может, сейчас и позвоним? - Я не знаю телефона, - недоуменно тряс головой Андрей, держась рукой за косяк двери в коридор, - и причем здесь масоны? - Голубчик, вы откуда прилетели? Из Москвы! Масонов! Это все знают! В Метро-Политене были? И все еще сомневаетесь, где он? - смеялся тот дружелюбно. - И что, решили их в одиночку свалить? Двадцать миллионов к одному - ваши шансы... без меня! Ладно, завтра позвоним. Точнее утром, потому что Сейко мое - это не наше дерьмо, и не подводит никогда. А масоны на меня уже выходили, но сосед-козел их спугнул, наврав про меня с три короба. По пьяне наврал, подумав, что то кагбышки за мной пришли, мусора ли. Ослышался! А когда в другой раз пришли, так он им наоборот все наврал, козел, потому без вас никуда. Так я пойду, не возражаете? Значит, до завтра, точнее, до утра? Но вы бы все же позвонили сейчас. Ведь у них сейчас еще день, я надеюсь. А я вам перезвоню... Меня, кстати, Иваном зовут, Заточкиным... Вы ведь даже не спросили… - Думал про другого Ивана, - пробормотал Андрей. - Про Предтечу? – широко улыбнулся тот и шагнул в прихожую. - Про художника, - остановил его Андрей, зевая. - И я худой же никак, раз Иван, особенно карман, - буркнул тот, но ушел, несколько раз останавливаясь на лестнице. Но Андрей уже захлопнул дверь и нырнул в постель, сразу погружаясь в сладкий сон. - И чего суетятся, суетятся, чего-то хотят добиться, пустые пузыри, гоняемые его дыханием меж стенками бесконечных коридоров, попадая порой словно по своей воле в черные лузы дверей?.. - думал он уже почти во сне, но внезапно прояснившимися, хоть и быстро забываемыми мыслями, проносящимися, словно облака, за иллюминатором самолета, на котором он улетал к ней.., но который вдруг рухнул в бездну, словно попав в воздушную яму... - Уже ведь ясно, чем это все кончится. И опять просыпаться в этом? Эй, где ты?.. Но и там, внутри, была пустота… Как и впереди, в завтра, от которого, похоже, осталось только само слово, «To-morrow» Томаса Мора, и звучавшее как-то омертвело по-нашему. Занимаясь наукой, особенно информатикой, он тоже представлял будущее в невероятных, почти фантастических картинах, красках. Нет, он и сейчас бы думал так же, но уже не о своем собственном… У него его словно не стало, как будто сегодняшнее мгновение и остановилось, замерло вдруг, но не на том лишь месте, совершенно против его воли, да и не только его, как он уже понял, вспоминая знакомых, коллег… Сам он не ждал коммунизма, не верил, и считая его такой же скучной, безжизненной, примитивной утопией, какой она была у того же Мора, почти как библейский Рай неких бесчувственных бездельников, бессмертных бабочек... Но он ожидал большего, причем реального от научно-технического прогресса, особенно, после знакомства, хотя и со стороны, с работой, бытом западных коллег, кому, как казалось, не хватало для полного счастья лишь Мира, который и наступил вдруг меж их странами, радости от чего они не скрывали от него, не придавшего тому особого значения, как и большинство его земляков, помнивших, ясно, о той войне, но без какого-либо внутреннего страха, заставившего бы и нас рыть бомбоубежища… То, что сами коммунисты в 80-м вдруг забыли про него, про обещанное светлое будущее, насторожило его, не смотря и на войну в Афгане, начавшуюся, начатую ли как нельзя кстати, под самый Новый Год 1980, год его обещанного Хрущевым начала... Но реально он осознал, почувствовал это именно сейчас, на себе, а не только потому, что они вообще как бы отказывались от всего своего, ничего конкретного из прежде ожидаемого взамен не предлагая – вновь лишь перемены, перестройки, переходы невесть куда, никуда ли вообще… Да, как и эти.., их якобы оппоненты, не обещавшие ничего иного, конкретного, кроме нескольких словечек, новых, еще более абстрактных понятий - условий достижения чего-то совершенно неопределенного, неведомого и для них самих... Та же утопия, но лишь капитализма! Сегодня это «никуда» оказалось для него таким очевидным... Как будто кто-то вдруг выключил Свет впереди и в нем самом… Ночь за окном и не пыталась возразить, да и нечем было… Там не было ничего, кроме мрачного, мертвого лабиринта, с кем он остался теперь один на один... Даже мысль о Надежде стала такой неуловимой... Первая их встреча, действительно, хоть и невероятно, состоялась в первом «Казино», которых тогда, в 1989, просто не могло быть – даже создаваться, да еще и на улице «40 лет ВЛКСМ», одной из улочек, пожалуй, самого путанного и хаотичного угла лабиринта, застроенной обшарпанными домами, на вид того же возраста. Иван и привел их туда туманным вечером, до этого символично собрав на городском рынке, после чего долго водил по закоулкам, окружными путями, за время чего они успели и познакомиться, и даже заподозрить друг друга во всех смертных грехах, выясняя, кто есть кто и чей агент… На удивление, никто и вход не охранял, и они спокойно, лишь постучав, прошли в сквозной полуподвальный этаж жилого дома, где уже за вторыми, резными дверями с витражом их изумленному взору открылось просторное, вытянутое помещение с малиновой бархатно-плюшевой обивкой стен и потолка, украшенных всевозможными узорчатыми, витыми, резными, лепными финтифлюшками, амурными люстрами и светильниками. Вдоль стен двумя рядами стояли столы с зелено-суконной обивкой, игровые автоматы, барная стойка, а также стойки другого предназначения, с подобием кассовых аппаратов. Все это еще достраивалось, монтировалось, но уже контрастировало с их собственным плебейским на этом фоне обликом, что лишь вселяло в их сердца пылкие надежды и несколько недоуменный оптимизм... - Видите, а мы сомневались в наличие движущих сил буржуазной революции в стране неоднократно, в целом и по частям так и не победившего социализма! - пылко шептал один из членов новоявленной парторганизации «Демсоюза» Валерий, разглаживая замусоленные лацканы своего явно не смокинга, но который бы уже контрастировал с его изможденным долгим пребыванием в психушке лицом, с некогда выразительными чертами, пока Иван суетливо провожал их в один из отдельных кабинетов, огороженных резными, явно из фанеры, стенками. - А они просто тоже пока в подполье, произрастают на самых обочинах былого строя! А брось эти семена в плодородную почву даже нашей современности, освободи их от оков, кроме которых им уже есть, что терять, от удушающего гнета государства и его карающих органов?! Вы только взгляните, как вдохновенны взоры этих ребят, собственными руками лепящих в полуподвальном помещении и свое будущее, и будущее нашего многострадального народа, не имеющего нынче права даже поиграть, а не то что выиграть!.. А ребята эти, хоть и были крепки и мускулисты, но своими решительными, полными молчаливого интеллекта, открытыми лицами совсем не походили на запуганных теневиков с прячущимися взорами, на общаковских бандюков с рыскающими глазками, хоть и были также коротко стрижены. Взгляды их были уверенны, тверды и целеустремленны! В них просто светилась неугасимая, немигающая вера в правое дело, в необратимость перемен. Казалось, что они даже сквозь тебя видят свое тоже светлое, но уже иное, новое будущее... - Да, это главная надежда и опора, пионеры, но нашей перестройки, - вторил ему Иван, рассаживая их как-то по-своему на резных скамейках вокруг небольшого, явно закусочного столика, после чего куда-то удалился, словно не находя себе места от нетерпения… - Что ж, символично для нашего движения, хотя я бы начал путь с церкви, - неуверенно озираясь, заметил приятель Валерия, Петр, задумчиво улыбаясь своим почти апостольским лицом… - С какой? – язвительно спросил Валерий, лицом куда более похожий на соотечественников тех апостолов и даже Самого.., упредив тоже насмешливое замечание Андрея, который, ежась, странно рассматривал резные, круторогие фигурки на стенках… - Ну, пока что у нас одна, - пожал плечами Петр, который еще в психушке освоил амплуа одного из апостолов, попав ли туда за это, как всегда стесывая острые углы краеугольных камней, - хотя согласен, какая разница для нас, не веривших ни одной… - Именно, если уж свобода и совести! – кивнул Валерий, с ним все же иногда соглашаясь, щадя ли его, хотя сам в психушке побывал именно за диссидентство, и его взрывной, неукротимый норов мог проявиться и проявлялся по любому поводу, чем он весьма походил и на тех еще народовольцев, и на первых большевиков, эсеров ли, особенно, бородкой и усами Троцкого… Один из тех двоих рыбаков хотел было возразить, но в это время дверца открылась, и в кабинет вошел Виталик, невысокий, но, пожалуй, самый «взрослый» из тех «ребят», мельком глянув на Андрея, но тут же отведя глаза… - Господа, в нашем казино «Американа» вы можете чувствовать себя в полной безопасности! - с доброй, надежной улыбкой заверил он, ставя на столик поднос с кофейником, сахарницей и крошечными чашечками. - Как никто, мы знаем ваши трудности, почему готовы помочь, чем можем! Это наше общее дело, за которое вы боретесь на площадях, а мы - тут, в подполье будущей свободы, рыночной экономики, где теперь и вы можете это делать! Только вместе мы победим, потому что вас слишком мало, а мы на два фронта разрываемся!.. - Вот-вот, а его надо сделать единым, тогда и непобедимым.., - поддержал было его Валерий, но тот, сославшись на груду дел на своем фронте, ушел, чтобы и им не мешать… Вдохновленные братской поддержкой и крепким кофе, слегка польщенные новым сервисом, дээсовцы быстро порешали простые в организационном плане дела: создание парторганизации, план митингов, акций протеста, неповиновения - за исключением лишь выборов лидера, председателя из-за «неразберихи» с полномочиями, правомочиями и прочим у них у всех, как оказалось или казалось, на чем пытались настаивать только рыбаки, разочарованные слегка внутрипартийным фракционизмом… После этого, так и не дождавшись очередного визита хозяев, хотя бы без кофе, они с неохотой покинули уютное гнездышко капитализма, не дождавшись и Ивана… На улице была почти ночь, и из-за густого тумана, местами лишь позолоченного светом окон и редких машин, дорогу было едва видно, и приходилось идти почти наощупь… - Господа, а ведь мы победим! Я окончательно поверил в это сегодня! - с гордостью произнес Валерий, вдохновенно вздергивая свою внешне троцкистскую бородку над непроглядной тьмой комсомольской улицы. Ярый до умопомрачения враг большевистских вождей, он не мог придумать для себя лишь враждебного им имиджа. - Теперь никто меня в этом не переубедит! Это уже не какой-то там призрак капитализма где-то, по закоулкам бродит! Просто поражаюсь, где же они столько десятилетий скрывались от этого оболванивания, кто их научил такой конспирации, кто вселил в них такую уверенность сегодня, когда еще никто не уверен и даже не знает - в чем? Ведь даже мы с вами боремся всего лишь за свободу, в том числе и свободу предпринимательства, но не очень осознавая, не зная, а что же предпринимать в первую очередь, с чего начать и, главное, что делать? А в их глазах - ни тени сомнения! Кто они, наше будущее?.. - Могу сказать лишь одно, про одного ли, - неуверенно произнес Андрей, словно признавался в чем-то постыдном, ну, в чем они перед этим друг друга и подозревали, вспоминая и многозначительную улыбку Виталика, - этот их главный, с кофейником, на другом фронте был куратором нашего института... от КГБ. Он и сам окончил какой-то институт, иначе бы ему науку не доверили в такие годы курировать. У нас в такие годы только-только мэнээсами становятся, а он курировал даже академиков, хотя и не напрямую, конечно... - Не понял?! - озадачено произнес Валера, вытирая кепкой пот со лба, но тут же нашелся. - То есть, ты все же был связан с ГБ? А я-то думаю, чего это он на тебя зыркает, лишь подмигнуть не решается!.. - Валера, я ж не о том? Они курировали всех, кто хоть как-то был связан с загранкой, даже просто выезжал туда! - отвечал Андрей с досадой, уже устав от его подозрений. - Я о самом казино… - А что казино? Первый блин и, мне кажется, совсем не комом, вовсе не похоже на красный уголок! - бодрясь, упрямо продолжал тот свое в пику ему. - Потом будут и Лас-Вегасы, и Монте-Карлы, но только не Карлы Марксы!.. То есть, ты хотел сказать?.. - Да, именно это я и хотел сказать, - засунув руки в карманы, отвечал Андрей, ежась от внутреннего холода, вспоминая золоченые рога быка над выходом, - что вместе с ними мы точно победим! Они - тут, на деле, за игорным столом, мы - на площади, но в их же, в своем как бы окружении. Конечно, они не могли нас пригласить проводить партсобрания в Сером доме, под самой надежной крышей Железного Феликса. Но не для этого они и казино строят пока в полуподвале, а глядя в будущее с таким же немигающим оптимизмом... - А для чего тогда? - немного недоуменно и разочарованно спросил тот, нахлобучив кепку и подняв воротник. - Ну, не знаю... Может для того же, для чего тебя, Валерию и других выпустили из психушек... прямо на площадь, после чего уже никак не могут нас победить своими тысячекратно превосходящими силами? Словно разведчики на территории враждебного пока государства, они внедряются в наши жидкие ряды, ведут конспиративную работу, прослушивают телефоны, пытаются расколоть нас изнутри, беря на себя простую работу по распространению наших газет, листовок, ну, чтобы иметь возможность незаметно выкрасть экземпляр, - с легкой язвинкой отвечал Андрей своему внутрипартийному оппоненту, сразу заподозрившему именно его, а не Ивана. - Теперь они везде, на родине даже стали резидентами, осваивая и тут амплуа господина Бомзе, какое лишь наши славные разведчики могли занести на родину в виде полит-инфекции, но в холодных мозгах убежденных марксистов, принимающих капитализм исключительно материально, джинсово-тряпочно, но идеологически пока отвергая для виду. Игорный же бизнес - самый надежный способ легализации, отмывки резидентских, партийных и прочих капиталов, чье место встречи изменить нельзя, поскольку в этом доме, кстати, живут в основном их же погранцы... - Естественно, что они лучше всех знают запад изнутри, как и нас, диссидентов, - никак не мог согласиться с ним Валерий. - Еще бы! И Берия первым хотел повернуть нас лицом к западу, даже просился туда после смерти тирана, ну, и перед своей, - посмеивался Андрей, - как и Юрик, почти Рюрик, глава нашего западного авангарда, лучше всех знавший и передовых венгров, уже идущих своим путем в капитализм… Мы, вот, только каким, чьим идем? - Мы, в отличие от вас, заумников, идем своим, гражданским, – оборвал его Валерий, найдя, наконец, зацепку, – путем неучастия во лжи! Да, они везде, но мы никогда с ними не сотрудничали и не будем! И ты мог бы сразу сказать там, кстати, прямо ему в лицо… - Кофе был слишком хорош, - буркнул Андрей, - Иван, вот, жить без него не может! Любой урок надо досидеть до конца… - Можно подумать, что ты сидел! – рассмеялся тот уже довольно, наконец, поставив все на свои места. - Однако, ребята, мы ведь были первыми посетителями самого первого казино в нашем городе, может, и в стране! - мечтательно и с некоторым сожалением произнес вдруг Петр, пытаясь и здесь, среди ночного тумана, увидеть хоть какой-то просвет. – К тому же, и среди апостолов христиан были Его, их бывшие гонители… - Особо радостно сознавать, что эти крупье точно знают прикуп, – посмеиваясь, подхватил Валерий, - играя краплеными картами! - По крайней мере, руки у них хотя бы по определению чистые! - добавил Петр с добродушной ехидцей, скорее, в свой адрес, - что очень важно за карточным столом… - Тогда такое казино недолго продержится, господа, - уверенно опять заметил Валерий, - едва за стол не сядут настоящие игроки! - Шулеры? – уточнил Андрей. – Так их казино у нас всегда процветало, на любом южном курорте, в малине, о чем писал в свое время и невезучий в игре автор «Бесов»… - Да, забавная книжица, поучительная, - хмуро заметил один из рыбаков, уже державшихся от них в сторонке. Но на этом они и расстались, им всем было в разные стороны… Странно, но оставшись один, даже в непроглядном тумане, Андрей почувствовал себя менее одиноким, чем с новыми «попутчиками», хотя после Сидорова уже не удивлялся тому… Откуда еще могли появиться эти «свободные» личности в стране осознанной необходимости, сплошной коллективизации и морали, и менталитета, а не только собственности? Только из числа добровольных изгоев, отверженных, диссидентов, которых все остальные считали психами. Ведь и для него, свободного в мышлении, сама та свобода была той же осознанной необходимостью, даже слишком осознанной, ради которой он сносил некие несвободы, пусть даже в том, что для него не представляло никакой ценности. И та свобода мышления была сознательно дарована им, разрешена в Академии и даже в закрытых институтах, в почтовых ящиках, где ученые были «свободны» и от любых бытовых забот, сует – при их-то потребностях в том! Да, их зверь, подсознание, либидо могли нуждаться в гораздо большем, но разум, сознание предоставляли для их сублимации куда более обширные просторы самореализации, чем мог себе даже представить какой-либо миллиардер, прикованный цепями нулей к своему богатству, к Золотому Тельцу… - Вот именно! – пророкотал рядом гулкий, странно знакомый голос, шествующий где-то рядом, в тумане, неосязаемой тенью. – А сейчас, когда ты лишился всех былых цепей, стал изгоем, ты чувствуешь себя, можешь ли стать, быть абсолютно свободным от всего? И в чем, интересно знать? В новых узах, теперь, наконец-то, партийных, которые категорично отвергал прежде? В шествии по некоему гражданскому пути, но опять толпешкой, вслед за поводырями, может, и одним из них, кто и слышать не желает возражений? Да что юлить, скажи честно: ради чего и для чего тебя они сознательно обрекли на эту, якобы, свободу, вынуждая пойти совсем не твоим, чужим путем, может, и жертвенным, даже благородным, но ради чего? Или ты не осознаешь это, или же просто боишься признаться себе в этом, оправдывая свою новую неволю некими благородными целями – не твоими только? Но может ли жертва быть свободной? Я, может, потому и сбежал от тебя, чисто звериным инстинктом, интуитивно почувствовав эту новую неволю, клетку, куда меня совсем не тянет! Решил лишь посмотреть, что ты натворишь в одиночку со своим разумом, потеряв и нюх зверя, рожденного вольным! И пока не жалею. Тут, в полном тумане, мне гораздо привольнее, чем в путанице твоих мыслишек, боящихся принять решение, сделать свой собственный выбор, хотя его и нет... - Ты, Мен.., - начал было он, но тут прозвенел трамвай, и он спешно сошел с его пути, сейчас только заметив, что идет по двум параллельным кривым, пересечение с которыми бывает смертельно… Глава 12 Увидеть и понять город, праздно бродя по его улицам, вряд ли возможно, если не обладать чрезмерно абстрактным мышлением, зрением ли, способным ради непредсказуемости ощущений сбрасывать даже крылья собственного взгляда, постоянно цепляющиеся за множество притягательных мелочей, особенно, в кварталах старых построек, созидаемых посвященными в секреты своего мастерства каменщиками. Там мы до сих пор зачарованно вглядываемся в прекрасные барельефы тех же готических соборов, на которых арготическим языком, то есть, "жаргоном Аргонавтов", для потомков оставлены некие секретные послания, знания из прошлого, в котором, естественно, вопросов и секретов было гораздо больше, ведь прошлому есть что прятать и в настоящем. Взоры наши вязнут и в дивных фасадах соборов, и в магической геометрии храмов, церквей, и в обворожительных калейдоскопах их витражей, так или иначе напоминающих собой ловчие сети, форма которых со временем или усложнялась, или становилась совсем банальной, грубой... Последнее, кстати, ничуть не хуже справлялось с главной задачей: оно не просто ловило птиц наших взглядов в ловчие сети, а загоняло их в темные клетки безразличия, когда смотрящий все равно становился слепым - он не видел за деревьями леса, а в последнем случае – даже самих деревьев... Конечно, загнанный в тупик взор может начать искать выход, осмеливается мыслить независимо, о независимости ли, поэтому грубость и бесцеремонность архитектуры последней эпохи сполна компенсировалась внешней атрибутикой - той же разнообразной рекламой со всеми ее дешевыми, но красочными, легко и часто обновляемыми, мимикрическими деталями, не просто запутывающими наше осмысленное зрение, а обращающими его во взоры безвольного раба желудка, инстинкта продолжения рода, постоянного поиска выхода... О нет, тысячи этих творцов, ваятелей вряд стоит подозревать в чем-либо подобном, как и пытаться сравнивать, к примеру, каждую отдельную рабочую пчелу с пауком, который изначала содержит в себе весь целевой план собственного творения, плодами которого только он один и может воспользоваться, в отличие от пчел, конечный результат деятельности которых изначала не эгоистичен. Здесь и пчеловода нельзя сравнить с пауком, поскольку и осознанно создаваемая им система медосбора полностью открыта вовне, где и расположено ее основное целеполагание, даже цветополагание. Он, скорее, одна из рабочих пчел Природы и только, которым лишь и дано - ваять... Увы, в городе все иначе... Это можно заподозрить, взглянув лишь на план его, на котором плоды труда его творцов, тех же каменщиков, невозможно разглядеть, как и тончайшей структуры паутинок, в которой и вязнут ее невольные жертвы, не видевшие опасности в идеальном рисунке самой паутины. Трудно увидеть все то и на плане какого-либо города. Если, правда, не оказаться в нем в роли жертвы, этакой загнанной мухой, пытающейся найти выход из него, представляя его одновременно и цельной паутиной, и каждой паутинкой с множеством ее ловушек в отдельности. Непременно и цельной, какой ее видит и паук, контролирующий всю систему. Да, банальную кормушку, мухобойку, но и произведение искусства, и… желудка паука! Конечно, стоит говорить лишь о той мухе, которая имеет силы вырваться из плена отдельных паутинок, для которой важно знать, как далеко от нее находится враг. Мелким жертвам последнее не так важно, и паук для них, скорее, избавитель от мук, от ужаса, которые им доставляет неожиданный плен, собственное бессилие перед ним, они сами, их глупые представления, заблуждения о свободе, которых лучше бы и не было совсем, чтобы счесть ловушку очередной кельей. О да, для этих свободой, освобождением становится смерть. Они, к счастью, не имеют и разума, чтобы проклясть красоту паутины... Эти мысли пришли Андрею на ум, когда он вспомнил по аналогии один из далеких дней, когда ему с друзьями пришлось добираться на обязательную в те годы демонстрацию, но уже окольными путями, поскольку все подходы к центральной улице из переулков и поперечных улиц были перекрыты плотными рядами милиции и дружинников. Те их даже слушать не хотели, потому что они, наверно, мало напоминали внешне - по представлениям милиционеров - научных сотрудников, которым позарез надо было оказаться в колонне своего института, где их... ждал приятель с портфелем, полным закуски и выпивки, столь необходимой в такой праздничный, да еще и морозный денек. Весь смысл этого дня, этого праздника и заключался в содержании того портфеля, заменить которое было нечем: не было денег, да и магазины до конца демонстрации были закрыты. Выпивка же после демонстрации представлялась чем-то обыденным, банальным - не тем, к чему они в тот час так стремились. Посмеиваясь в душе, но с замиранием сердца, они пытались убедить постовых в обратном, в том, как им важно оказаться в общих рядах, в единой колонне. Ясно было, что те не верят, видят их насквозь, догадываются об истинных мотивах. Не верилось ведь и самим, что кто-то, по крайней мере, из институтских, за редким исключением, мог прорываться в ряды демонстрантов с серьезными намерениями, убежденно, не кривя душой, но опоздав. Не верилось, что и те в это могут верить! Тогда ни во что не верилось! Потому они и не винили милиционеров, а, наоборот, чуть ли не осязали спиной их подозрительные взгляды, а порой даже казалось, что кто-то их преследует, может преследовать… Сам город, в дебрях которого они и оказались, создавал, видимо, в них такое впечатление... Центр того города был весь рассечен почти идеально квадратной сеткой улиц. Три главные тянулись по вершинам длинных гряд, между которыми в сторону реки нисходили две широких низины, по дну которых раскинулись два просторных бульвара, засаженных деревьями, кустарниками. Все они в свою очередь были рассечены десятком поперечных улиц, то ныряющих вниз, то взлетающих вверх, прелесть чего можно было оценить лишь на такси, что пару раз в году они могли себе позволить, особенно, после возвращения из экспедиций. Но никогда он не задумывался над тем, что находится между этих улиц, в их сети, и как все это связано друг с другом. Нет, в некоторых дворах он успел побывать, встречаясь с местными девчонками, когда внимание отвлекается лишь на лавочки, кроны тенистых кленов, когда ищешь то, что позволяет спрятаться. В тот же раз, когда нужно было пройти город насквозь, пересекая улицы поперек, он впервые разглядел обратную его сторону. Темные дворы, со всех сторон огражденные домами, каменными или решетчатыми стенками, грудами мусора, завалившими арки, было не так просто пересечь, поскольку чаще всего в них был только один вход. Приходилось иногда обходить несколько дворов, чтобы найти, наконец, сквозной проход, лаз, чаще всего возвращаясь из тупиков. Ощущение некоторой игривой опасности, видимо, дополнительно придавало дворам еще более мрачный, запущенный вид. Внутренние стены домов были обшарпаны, грязны, поскольку их вообще никогда не подновляли, а, может, и при постройке домов отделывали кое-как, и поэтому изнутри город казался более древним, как бы своими собственными развалинами, каким он весь, возможно, и станет лет через тысячу. Развалины его словно жили в нем изначала, а, может, то были развалины города вообще, некоего исходного, абстрактного города, которые присутствуют в каждом, и совсем новом, что подтверждает, в частности, вид и дворов новостроек. Тогда ему сразу бросилось в глаза это, черты какого-то особенного города, чего-то, скорее, лишь напоминающего собой город - видимо, следами проживания здесь людей, горожан, куда-то вдруг исчезнувших... Сегодняшняя ситуация была сходна с той, но они пробирались задворками другого города и хоть на ту же демонстрацию, но своих нынешних врагов, точнее, врагами того большинства, гул голосов которого доносился со стороны главной улицы, уже запруженной серой и на слух людской толпой. Ее наигранно грозные, бодрящиеся выкрики ныне как-то растерянно, нестройно носились среди грязных, обтрепанных туч, чересчур старательно, с показной серьезностью заглядывая эхом в гулко-пустые колодцы и траншеи дворов, которые в этом городе были чаще всего сквозными, но уж слишком запутанными, как и в целом рисунок его улиц, переулков, где на первый взгляд не было вообще никакой системы, ни одного похожего на другой квартала. Даже одинаково мрачные, грязные, замусоренные дворы были совершенно несхожи меж собой, хотя уловить - в чем же оригинальность каждого – было почти невозможно. Это был какой-то странный хаос линий и плоскостей, испещренных пробоинами окон, дверей, рваными выбоинами стен, тротуаров и остатков внутренних дорог. Но хаос этот теперь ему казался строго спланированным теми, кто таким образом отгородил, защитил свою парадную центральную улицу и главную площадь от себе подобных, но чужих. Очевидно, из-за демонстрации «город людей» и казался совершенно вымершим, ведь и голоса толпы вполне могли доноситься из громкоговорителей, которые просто не успели, некому ли было выключить вместе с последними жизнями, последними событиями. Да, именно «город людей», поскольку сейчас он вдруг почудился ему заселенным какими-то другими, не ему подобными существами, присутствие которых там, за стенами, даже издалека явно ощущалось, как и исходившая оттуда смутная угроза… Конечно, самого себя представить врагом множеству и своих знакомых, былых приятелей, которые, наверняка, были сейчас по ту сторону этих мнимых развалин, он не мог в тот миг, хотя ощущение всесторонней угрозы так и подталкивало к этим выводам. В какое-то мгновение он предпочел просто представить ее беспредметной угрозой, исходившей от самих стен, из тесных щелей проулков, из зияющих дыр подвалов, откуда иногда до них вполне реально доносилось дыхание почти преисподней… Иначе трудно было назвать эти удушливые миазмы, которыми были пропитаны прогнившие подземелья центральной, самой старой части города, которая лишь сверху была слегка обновлена в последние десятилетия... Так было проще, ведь трудно, даже страшно совместить в своем воображении все то со знакомыми, живыми образами памяти. Проще было представить, что и этот гул ненависти доносился из древних подземелий, из мрачного лабиринта, который в этом городе-крепости был весьма обширным, может быть, даже превосходя сам город своими размерами и масштабами, к тому же увеличенными покрывающей его завесой таинственности. Почти везде, где дворы, дороги, подпорные стенки приближались к скалистым склонам сопок, на которых и покоился город, он замечал заброшенные, часто полу-заваленные камнем, неказистые входные двери в подземелье… Встречал он их в самых невероятных местах, где ранее не замечал ничего подобного, хотя возраст этих врат говорил сам за себя. Более всего странным казалось то, что люди, как и он ранее, совершенно не обращают на них внимания, словно их нет, словно это просто нарисованные на скалах дверки, за которыми нет ничего. Стена! В принципе, и многие тысячи обычных дверей домов мы тоже походя не замечаем, поскольку они ни с чем у нас не ассоциируются, тоже кажутся нарисованными... - Слушай! - вдруг хлопнул себя по лбу Петр, остановившись перед одной из таких дверей в подземелье, - а чего мы петли вьем, если спокойно можем пройти прямо к площади... тут? Я знаю, где эта галерея выходит - недалеко от Первой школы... Пошли? - А не заплутаем? Времени уже в обрез, - неуверенно проговорил Валерий, недоверчиво поглядывая на облезлую дверь, в проплешинах краски на которой отчетливо проглядывал вычурный, но крупный рисунок какого-то благородного дерева, скорее всего, дуба. - И как ты откроешь? - А ты, Андрей, не против? - с усмешкой спросил Петр, уже ковыряясь в замке, который вдруг сам собой открылся, словно разинув пасть в ожидании благодарности, как и подземелье. - Раньше мы не пробьемся сквозь заслоны ментов или до площади просто не дойдем, - согласился Андрей, с интересом заглядывая в черную, пахнувшую на него заплесневелым смрадом, бездну, раскрывающуюся за провалом двери. Она показалась ему размером, по крайней мере, с огромный холм, на котором расположился почти целиком один из районов города. - Как только, вот, без фонаря? - А, тут наверняка есть где-нибудь факел, - спокойно рассуждал Петр, шаря в темноте галереи, почти исчезнув из вида. - Точно, вот он! Я тут уже бывал несколько раз... и с диггерами. Пошли? Пропустив их вперед, Петр дал один из двух факелов Андрею, а сам прикрыл за ними дверь на проволочный крючок. Потом облил факел Андрея горючим из найденной бутылки и тоже подпалил... Золотистый свет факелов словно вырвал из мрака довольно просторную галерею с относительно ровными стенами, заканчивающуюся вдали опять же черным провалом выхода, тьма которого явно ощущалась и за тонким, шершавым холстом стен. Легкий треск пламени заглушил звенящую, давящую на уши тишину подземелья, в которой вязло даже эхо их поначалу осторожных шагов. - Я, конечно, особо дорогу не помню, хотя одно время почти полгода ходил здесь... в школу, - говорил Петр, идя впереди с факелом, - была необходимость... Меня местные пацаны прессовать начали, но сюда сунуться побаивались... А мне пришлось. Друзей тут у меня не было, школа ведь блатная. Ну, и когда у меня некоторые отклонения проявились в мировоззрении, то директриса решила меня выжить. Их путем не получилось, так что она выжила гораздо проще, за успеваемость якобы. Я ее устраивал, как социальное отклонение, служил этаким наглядным примером результатов плохой учебы, ну, быдла, но только не как исключение из правил. Здесь, кстати, я пару раз оставался ночевать... Вот где жуть была!.. Один раз я и увидел духа горы в виде женской… вагины с крыльями… Не-е, тогда я и сказал иначе, пришлось отмываться потом… С тех пор это для меня табу! В это время они подошли к одному из проемов в каменной стене галереи, за которым открылась довольно просторная ниша, пол которой был завален всевозможным мусором. Потолок ее был основательно закопчен, а стены расписаны множеством сочных фраз на ребячьем преимущественно жаргоне, сопровождаемых весьма откровенными рисунками, преимущественно того самого духа… - Искушения Святого Антония, - с усмешкой заметил Андрей. - В пещерной живописи эти темы тоже были весьма популярны... - Но здесь ночью и чувствуешь себя словно неандертальцем, спесь цивилизации мигом спадает, побудь лишь несколько часов в одиночестве темноты, - согласился с ним Петр, вдруг замерев. - Петр, ты что? – спросил Андрей, даже в свете факелов заметив, как тот побледнел от тоже, видимо, услышанного… - А-а, - махнул тот рукой, выйдя из оцепенения, - после психушки эти видения опять стали иногда возвращаться… Там вместо них приходил Хаос, в котором ничего нет. Видел опять ее или даже… - Такой клин только клином, но настоящим, выбивают, - пытался рассмеяться Андрей. – Может, видение Ариадны?.. - Нам, вообще-то некогда, - недовольным голосом заметил Валерий, напряженно думая о чем-то ином. О чем, стало ясно, когда они продолжили путь. - Когда мы отменим эти красные демонстрации, какие праздники останутся у русских? Что они будут делать? - Ты тоже, однако, - добродушно заметил ему Петр. - Не надо! Все, баста! Я больше - не русский! - решительно и громко продолжил Валерий, глубоко вздохнув перед этим, словно впервые тут и осмелился говорить на эту тему вслух. - И кто же ты? - искренно удивился и Андрей, не сразу вникнув в жизненный, а не в исторический смысл его слов. - Я? - удивился и Валерий, слегка даже растерявшись вначале, но потом твердо ответил. - Я - еврей, чистокровный еврей, и теперь буду им всегда! У меня в роду на памяти не было ни одного русского, хотя мы давно были ими по паспорту... Стеснялись словно... - И только сейчас вспомнил об этом? - рассмеялся Петр. - Тут не над чем смеяться! - резко оборвал его Валерий. - Да я не над этим, - отмахнулся Петр, - просто я сам, как ни смешно, себя впервые здесь, ну, тогда, вдруг почувствовал кем-то иным, как бы другим человеком... Ну да, когда остался тут на двое суток, еще и без света... Эти трусы узнали выходы и обложили с обеих сторон, посты даже выставили, мне и пришлось пережидать. А второй ночью вдруг понравилось, страх даже пропал. У меня фонарик был с собой, но я его берег, почему был почти в полной темноте, только костерок разводил иногда. Мне почему-то в темноте даже больше понравилось, как-то все стало понятнее, все мелочи словно погасли. Понимаете, из-за темноты снаружи у меня внутри будто вдруг включился свет, и я словно увидел, рассмотрел, понял, что во мне или для меня главное, хотя тогда я вдруг заблудился… До этого я был в какой-то коме, все время думал о пацанах, директрисе, о тех, кому что-то хотел доказать. А тут это само и стало главным, а не то, что это надо кому-то доказывать. Понимаете? Выход я нашел, попав в безвыходную ситуацию. Мне тогда вот так же весело вдруг и стало... - Счастливый! - вроде бы даже с завистью произнес Валерий, с нетерпением продолжая свое. - А меня все это совсем не веселит. Понимаешь, ведь это не совсем мое, чем я мог бы про себя тихо радоваться, наплевав на остальных. Это дело моей семьи, моего отца, который так и не дождался, который даже мне об этом стеснялся сказать, не хотел, наверно, чтоб я комплексовал... А что, разве не так?! Разве евреем у вас не зазорно быть, ну, было, то есть, быть? Тьфу ты, даже говорить по-русски трудно стало, а по-нашему еще не умею! - Здесь-то ты чего комплексуешь? - добродушно спросил Петр. - Мне, вот, до балды все это, потому что я даже не знаю, какой коктейль во мне намешан, запутаюсь перечислять. Меня все внешнее теперь вообще не волнует. Есть только я один, и я пока этим чувством не насытился, мне еще хватает этого. Началось это, когда я и ушел из той школы, сам ушел, но осознал то лишь недавно... Мать лишь было жаль, она ведь тоже училась в той школе, была на виду, на доске… - Зачем тогда тебе все это? - недоверчиво спросил Валерий. - Я, понятно, за что сейчас бьюсь, но тебе это что даст, что добавит? Одному, самому по себе можно быть всегда, в любой ситуации. - А я просто такой и оказался, - рассмеялся Петр. - Другой - это уже не я. После той ночи, двух, то есть, проведенных здесь, во мне словно что-то проснулось, и они стали меня бояться, и директриса, почему и выжила из школы, у нее даже тик на меня появился, моргать начинала, лишь увидит. Мне же стало плевать на всех, а это как раз для них и страшно, они как бы сразу ниже ростом стают, раз я их не вижу, как бы теряют свою значимость, да еще перед таким, как я… - Ну, понятно, но тебе-то какая разница до них былых, до всего теперь? - не мог понять его Валерий, отчего с нетерпением спрашивал, словно это мешало ему думать о своем. - Может ли быть тьма вокруг тебя разной: такой или иной? Это же просто тьма, которую ты не видишь? Пусть бы себе той и оставалась... - Чтобы это понять, надо нам погасить факелы, - усмехнулся Петр, но сделал успокаивающий жест рукой. - Не буду!.. У нас у всех тьма тут была бы разной, и свет внутри тоже... - у каждого свой! - Если бы у нас было время, я бы не возражал проверить, - буркнул Валерий, злясь, что его сбили с темы. - Но у нас мало времени, и я говорю не только про сегодня... Семнадцатый повторяется, и тем же кончится, здесь не может кончиться чем-то другим... - Как и семнадцатый век, начало.., - подметил было Андрей. - Нет, здесь может, - вдруг перебил его Петр, в сомнении остановившись перед развилкой, от которой брали начало две разные галереи: одна в светлом камне, гладко отесанном, а вторая - в сером, сыпучем. – Тут есть выбор… Так, кажется, нам все же вправо, по сыпучему полу... Эта же галерея, видимо, кончается в каналезке… - А вонь – как из конюшни, из стойла ли, - заметил Андрей, прислушиваясь к странным, каким-то булькающим, чавкающим звукам, доносившимся из тьмы… - Вот-вот, я и говорю про вас, эстетов! – усмехнулся Валерий. - Я бы туда никогда не пошел, даже если бы они тогда шли за мной целой толпой. Чувствуете, как потянуло? – добавил Петр, вздрагивая. - Значит, нам сюда... А почему ты так решил? - Ты меня? - вздрогнул Валерий, опять задумавшийся о чем-то своем. - А, ты про это... Потому что сами вы никогда ничего не начали бы. Это нам и тут терять нечего, как и везде почти - нечего. Мы ведь опять и все это начали. Валерия, вот, кстати, одна из первых, первая. И только мы можем пойти, пойдем до конца, не сворачивая, до полной победы. Вам это все, и правда, до балды. Да вы и не захотите, не сможете плохими показаться перед всеми, перед своими, вынуждены будете красоваться. Значит, кто опять виноват будет? Опять мы, как всегда, как везде. Во всем пойдем до конца, вот в чем беда. Ты, вот, уже как бы пришел, и тебе некуда больше спешить, а мне есть. Ты нашел прямо здесь, в себе, а я ищу в тысячелетиях, в крови... Лучше ли, если этот конец будет подальше, если больше пройдешь до него?.. - Не знаю, мне на остальных тоже наплевать, наплевать, и когда этот конец будет, ведь о нем думаешь тоже из-за других, - хмыкнув, ответил ему Петр, и вдруг спросил Андрея. - А почему ты молчишь? Ты не согласен? С ним, со мной? - А он не наш, - процедил Валерий. - Это еще там поняли, она сразу поняла, раскусила. Это даже Ленин в них видел, точнее, знал по себе их... суть. Он ведь и не с тобой, Петруха... - А с кем же я? – усмехнувшись, спросил Андрей. - Это я и не могу пока понять, почему мы и вместе... Пока вместе, хотя по той галерее, левой, ты никогда не пойдешь – бьюсь об заклад, - многозначительно поправился тот. - Нет, я не о чем-то таком! Ты сам уйдешь, потому что ты слишком хорошо, по-своему обо всем думаешь, а этого нет и не будет. Вы оба - чистоплюи, а ведь на самом деле, в жизни мы пойдем по той галерее, левой, где жутко воняет, где полный хаос, вот чего вы не осознаете. Нам это не впервой, мы и сорок лет можем идти там, зная даже, что не дойдем, а вы предпочтете сидеть на месте, если думаете, что с таким же результатом. Оно и правда, глупо торопиться, если идешь к могиле, но мы все равно побежим, а вы ее лучше дождетесь и, как Магомет, к горе не пойдете. Петр дождется, а ты... пока не пойму. Наверно, из гордыни, а, может, из знания, самоуверенности... Фиг ее знает, да мне и плевать, потому что нам все равно не по пути будет вскоре... Ну, когда дорогу опять за нас начнет выбирать кто-то, когда эти игры в поддавки закончатся… - Может, ты и прав, - неохотно отвечал Андрей, рассматривая с постепенно ослабевающим интересом почти не меняющиеся своды галереи, что должно было давно уже утомить взгляд. - Понимаешь, для меня загадка - где-то здесь, а для тебя - нет. Для тебя загадка там, где ты, она всегда с тобой, то есть, в тебе самом, где вы и все сразу, уже тысячи лет вместе, ну, как вода большого водяного пласта во всех колодцах и в каждом из них! Недаром вы с Фрейдом и придумали глубоко ковыряться в себе, в своем колодце, но находя там лишь общую воду, как на уровне подсознания, так и в сознании, тоже, в принципе, общественном, воспитанном, обученном, как и врожденном... - Но разве это плохо? Разве не верно? - насмешливо спросил Валерий. – Не осознавая этого, я и мучился постоянно жаждой, как Тантал, так и не узнавший, чем ее можно утолить… - В самом колодце воды - на пару, пяток ведер, а остальная - не в нем, но и себя никогда не исчерпать, - продолжал Андрей все более неуверенно, не зная, зачем. – Не удивительно для пустынь, где небесной водицы маловато, но у каждого источника оазис… - Можно подумать, тут не духовная пустыня! – усмехнулся тот. - У нас же, в краях озер, болот и громадных рек - не так, - не обращал на это внимания Андрей. – У нас каждый – как озерцо и с чистой ключевой, и с небесной водицей. Промчись буря с ливнем, перемешай, взбаламуть воды, затопи низины грозовой водой – и это уже страшный, бездонный омут! Застоится вода в нем – и вот уже непроходимое, топкое болото, куда и не сунешься. Охладей небеса – и все покроется непроницаемым, мертвым с виду льдом, питаясь лишь ключевой, неиссякаемой водой былого. Ходи по нему, топчи – его и нет словно. Но и снег, и лед растают, зажурчат весной ручейками… Да, слишком образно, но это лишь пересказ того, что разглядел в нас, обнаружил в страхе откровения Федор Михайлович, все же различая озерца от колодцев, от криниц ли, как лирикам чудится… - Согласен, общего в вас мало, но своего до черта, хотя сразу и не различишь! – впервые согласился Валерий. – Не зря и при Рюриках, и Романовых, и Сталиных жили, пировали… Бунтари! И сейчас им - о личной свободе, а они - на демонстрацию! Болото и есть! - Весна нужна настоящая, вселенский потоп, как, например, в 17-м, - заметил Андрей, - а не буря в стакане, в микрофоне, когда ораторы и сами не представляют, о чем говорят, зная то лишь понаслышке, по слухам. И кому верить? Адаму – раз не Карлу, тоже чужаку? - Где ж тогда выход? - спросил Петр, низко склоняясь, поскольку галерея вдруг резко стала ниже, скорее, из-за того, что пол ее присыпало, а, может, намыло водным потоком. - Сам пытаюсь разобраться, но без поспешных, чужих выводов, - неуверенно продолжил Андрей. – С одним лишь не могу согласиться, когда все огульно винят наш народ в тупости, безволии и прочем, если он не хочет, просто не воспринимает их, чужих пророков, судей, с чужих же слов. Да, Валера, чужих – ты сам только что сказал об этом! В 17-м не воспринял, вот и шла больше 30 лет война с ним… И, боюсь, не закончилась, начинается по новой, но как бы уже другая… - Для тебя же здесь где-то загадка, ты сказал? – напомнил Петр. - Да, загадка, - задумчиво говорил Андрей. - Перед тем, как войти сюда, я представлял здесь просто лабиринт... Теперь вижу не только галереи, тупики - не только их, его ли пустоту, по которой мы и ходим, да и создаем ее сами, для своей как бы жизни... - А что еще? - удивленно спросили оба, озираясь по сторонам. - На стенках выходит множество разных слоев, у каждого из которых мы видим лишь срез. Сами пласты уходят вглубь, во мрак, для нас непроницаемый. А мы считаем загадкой лабиринт, пустоту, в которой нет ничего, кроме нас, наших выдумок! А ответ, разгадка, скорее, за его пределами, за стенами. Хотя, тут я не уверен до конца… - Я и говорю, что нам не по пути, - прервал его насмешливо Валерий. - Для тебя и здесь нет, якобы, ответа, поэтому и здесь ты его не будешь искать, не пожертвуешь собой, чтобы попытаться хотя бы найти. Для тебя его нет и тут. Тебя интересует только сам поиск, у которого и не может быть ответа, иначе он бы потерял для тебя смысл. Если бы ты вдруг занялся таким, у которого есть ответ, давно известный, очевидный для всех ответ, то ты бы ушел с того пути на другой. Вот, скажи хотя бы, зачем ты сейчас идешь туда, с нами? Ты это понимаешь? Зачем идешь здесь, если мог бы пойти и там? - Зачем? - переспросил Андрей, вызвав у обоих смех. - Но там ведь мы тоже ходим только по пустоте, меж стен, за которыми для нас тоже пустота? Поэтому там все так банально и стало, надо было прокладывать, прорубать новую галерею, в другом месте - не ходить же по чужому лабиринту на сотый, тысячный раз в надежде найти тот, как ты говоришь, уже давно известный кому-то секрет, выход? - Какой секрет? – переспросил Петр. - Что его там нет, - усмехнулся Андрей, - что это лишь ловушка, головоломка для неуемных искателей пустоты… - Вот-вот! - насмешливо заметил Валерий. - А я, вот, знаю, куда иду, чем это обернется в итоге для меня, но с пути не сверну. Я знаю цель, которой хочу достигнуть и сегодня, а ты - нет, ты как раз и хочешь лишь искать эту всегда неведомую цель, она для тебя загадка, а не способ ее достижения, не путь борьбы за нее…Не свою... - Увы, через пару минут мы останемся с единственной пустотой, которая в нас самих, - со смешком прервал их Петр, погасив свой факел, который был уже не нужен, так как из широкой щели в двери, в которую упиралась галерея, вливался нестерпимо яркий и какой-то неестественный дневной свет. На двери, естественно, был нарисован тот самый дух с крылышками и еще с чем-то очевидным рядом… - Перевернутая пирамида, - заметил с усмешкой Андрей, доставая из кармана солнечные очки. - Ты чего? – удивился Петр. – Боишься на красное кинуться? - Нет, просто сразу… из тени, - отмахнулся Андрей, - глаза сильно режет… Болят в последнее время, глядя на все это… - Ясно, просто шифруешься, – не утерпел Валерий и здесь. – Там столько твоих знакомых, приятелей… Это мы - пока никому не известные узники твоей пустоты… Может, потому ты и нужен там... Андрею совсем не хотелось возражать, да в чем-то тот был и прав: он ведь на самом деле выходил сейчас в свой старый мир, но как бы с другой, обратной его стороны, да и другим человеком, трансформация которого началась еще там, в столице, в сердце их громадного, простирающегося и до сюда, лабиринта, весьма смутно ощущая себя словно бы выходящим на волю… Конечно, выходил он ничем не примечательным, как казалось, хоть и необычным путем, да и туда, где вряд что могло кардинально измениться за это время, что его и страшило слегка, словно в этом он и боялся убедиться: что и путь его, и нечто ожидаемое там окажутся лишь миражом, мифом, заблуждением, как и сам он, следовательно… Может, он просто боялся разочарования, поскольку пока что все его попутчики не пытались, да и не могли бы убедить его в обратном, не имея даже смутных представлений о том, куда они сами идут, во имя чего, зачем! И путь их невольно казался ему блужданиями по тупикам лабиринта, где выход лишь один, если нет, конечно, крыльев… Но тут бы и они не помогли! Глава 13 Легко открыв дверь, они вышли почти к самой площади, куда уже шла колонна демонстрантов, буквально полыхающая кумачовым пламенем, на этот раз почти не разбавленным никакими другими цветами, всякого рода пустыми шариками и прочими атрибутами праздника. Колонна шла как в последний бой. Смеющихся, как прежде, лиц не было. Они все были, казались ли каменными, с застывшими выражениями торжественной обреченности, ущемленной гордыни. Все шли как на эшафот, но еще не видя его впереди, еще надеясь, убеждая себя, что он в другом конце другой улицы и ждет он не их. Их уверенность трепало холодным, промозглым ветром, как и знамена, но показать это для них было бы непереносимым. Древки знамен для них были теми соломинками, отпустить которые было бы равносильно смерти. Угроза для них была пока что еще нереальной, абстрактной, она была скорее лишь в них самих, давно созрев там, в бутоне собственных сомнений, подозрений, догадок, почему они так старательно и делали уверенный вид, поскольку себя-то обмануть, избавиться от тревожных предчувствий было гораздо труднее... При виде этого у Валерия загорелись глаза, он заторопился, засуетился, словно осознав, почувствовав, кого демонстрантам так не хватало. Его мандраж передался и Петру. Проскользнув через плотную стенку зрителей и вклинившись между двумя квадратными колоннами, Петр с Валерием быстро развернули прихваченный с собой транспарант, Андрей же, не сняв черные, солнечные очки, вскинул на головой триколор на совсем коротком древке, и они бодро зашагали в направлении трибуны, откуда уже неслись натянуто оптимистичные, подчеркнуто жизнерадостные, но потерявшие уверенность призывы, которые вдруг стало плохо слышно, поскольку в идущей позади них колонне начал нарастать гул недовольства, озлобленности и смятения, нашедших наконец выход, увидевших перед собой реальное воплощение той еще абстрактной, лишь теле-угрозы. Андрей кожей ощущал на себе сотни стреляющих ненавистью взглядов, сердце учащенно заколотилось, мышцы слегка сковало, как то бывало порой перед дракой. Казалось, что две серо-красные колонны вот-вот сомкнутся и раздавят их, хотя крови на кумачовом фоне никто и не заметит. И он, как все, крепче вцепился в древко чуждого тут флага, знамени былой переломной эпохи, слишком многоцветной и смутной. Как все, он ощущал себя идущим в бой, но не осознавал - за что, с кем? То было трудно принять, ведь почти все остальные, идущие по улице в свой последний бой, последний раз все вместе, одним народом, были его врагами или просто равнодушными наблюдателями... Но, разве его, буквально «народные» идеи были достойны такого количества врагов? Разве у него вообще могли быть враги среди простых горожан, ранее тоже ходивших на демонстрации по привычке, с заначкой, из-за того ли, что надо? Неужели идеи могли делать врагами, если в них мало кто не верил, если их опровергала жизнь, а их дряхлые вожди сами давно от них отказались, предали их? То не было удивительным в столице, десятилетиями собиравшей со всего Союза единомышленников, официальных сторонников другой, враждебной ему идеологии, где одно публичное, разрешенное появление кучки иноверцев стало почти революцией, идеологическим взрывом... «Но здесь, где до всех этих событий, до нынешней демонстрации согласных с ним было намного больше, откуда здесь столько врагов? Неужели так силен сам по себе страх перемен? Или, - как он и раньше считал, - сама идея тех стала настолько непримиримой и враждебной всему остальному, что и сейчас, спустя столько пятилеток, легко раскалывает общество сограждан на врагов, вмиг становящихся убежденными, не смотря на все свои недавние сомнения?» По случайности, конечно, позади их троицы шла колонна их институтов, Президиума, где у него было множество знакомых, коллег, в том числе, знакомых и по ожесточенным дискуссиям, хотя их в первых рядах он, ясно, не заметил. Но, именно оттуда доносились угрозы и требования убрать их с дороги, именно спиной он ощущал жуткую враждебность, причем осмысленную. Что ж, там были люди науки, близкие к науке, для которых идеи были и работой, и смыслом жизни – и те идеи... Это его и смущало больше всего, но... Но они уже выходили на площадь, приближались к трибуне, телекамерам, отчего никто не рискнул нарушить ряды, даже не попытался приблизиться к ним, а, может, опять не дождался нужной команды... Чтец, выкрикивающий призывы, лишь на миг сбился, проглотил окончание одной из фраз про «победу комму...», но тут же восстановил и тембр, и ритм выступления, словно ничего не произошло. Смолкла и идущая сзади колонна, и только со стороны тротуаров, из толпы зрителей до них долетали угрожающие, злобные, удивленные и редкие восхищенные выкрики, начинающие уже перебивать друг друга, дискутировать между собой, порой даже заглушая громкоговорители. Впервые он вдруг почувствовал, что они все-таки не одиноки здесь, по обе стороны улицы мир был не таким однозначным и сплоченным, какой казались стенки лиц, спин впередиидущих. Стоящие на трибуне отреагировали на их появление частыми поворотами голов в разные стороны, обменом репликами, усмешками. Но в их взглядах он уже не видел откровенной ненависти, удивления - они словно знали, ожидали их, были готовы к этому, но только не подавали виду друг перед другом, разве что – перед людьми в погонах… Из-за их вызывающего триколора никто не обратил внимания даже на шестицветный флаг, переливающийся цветами радуги над головами небольшой группки молодых людей, обособлено стоявшей напротив трибуны в толпе зрителей, который, заметив их в колонне, еще выше поднял над собой Илья, местный эсдек, но как символ, ясно, политического плюрализма, поскольку о другом тут бы никто и не подумал. Кто б мог увидеть что-то этакое в радуге? И они, не смотря на поддержку, шли все же в полной пустоте, и опять впереди и позади них, а также поодаль с боков была лишь серая тьма, словно бы светом факелов озаряемая багровыми всполохами. Тьма эта вновь была готова в любой миг схлопнуться и поглотить, раздавить их, что наиболее отчетливо они стали осознавать после прохождения трибуны, когда колонны, потеряв шаг, строй, уже не слушая оратора, начали приближаться к окончанию улицы. Они четко различали шипение, нарастающее со всех сторон, видели, как все пристальнее и яростнее сверкают устремленные на их троицу взоры тысячеглазой толпы... Но им было все равно. Валерий даже ждал этой развязки. Он просто возмутился, когда накинувшаяся на них со всех сторон кучка милиционеров и оперов в штатском, среди которых Андрей заметил и Володю, держащегося поодаль, на самом деле спасла их от разъяренной толпы, дожидавшейся лишь призыва, примера, первого удара, разрешения, без чего никто бы из них, увы, не посмел... - Вот, за этим и шел! – усмехнувшись, ответил ему Андрей на тот вопрос, но Валерий не заметил этого, потому что уже сцепился с вязавшими его операми, вырывая у них свой транспарант, точнее, его обрывок... Праздничные лозунги сменились откровенным матом… К ним пытался пробиться и Илья со своим флагом и друзьями, но на них опять никто не обратил внимания – не было установки... В какой-то миг Андрею показалось, что весь гнев толпы был обращен не против них, и шумела она где-то далеко позади, может, уже в прошлом, где осталась и она сама... По крайней мере, всесокрушающий вал ее, напирающий сзади, оттуда, наткнувшись на неожиданное препятствие в виде их троицы и окруживших, суетящихся вокруг них двух-трех десятков ментов в форме, штатских, должен был как цунами все смести на своем пути, обратить в хаос, раздавить их, растоптать, разметать по перекрестку, причем буквально... И они были к этому готовы, да и шли сюда ради этого... Но волна ее словно бы застыла, застопорилась где-то на подступах, наткнувшись еще там, у трибун на некое непреодолимое препятствие, словно кто-то могучей десницей сдерживал ее в том же прошлом... Все эти весьма символичные образы лишь мельком пронеслись в его голове, поскольку он вдруг увидел Ее... С гитарой наперевес она вклинилась в сине-черную кучу милиционеров, гэбэшников и запела... Некоторые из тех даже испугались на миг ее невероятно громкого, зычного голоса, заглушающего даже усиленного много раз трибунного оратора. В ее голосе звучала сталь, хотя он был хрустально, небесно высок, долетая отдельными нотами до самых облаков, вдруг оказавшихся абсолютно белыми на фоне просто режущей глаз лазури, окровавленной снизу. Русые крылья ее волос развевало легким ветром почти в такт песни, словно бы он выступал тут в роли дирижера, а, может, пытался вырвать ее из рук блюстителей порядка, наверстывающих нечаянный испуг, простое ли изумление. Ее спутники, видимо, затерялись в толпе, хотя она ему сразу показалась чересчур одинокой.., и в итоге они лишь вчетвером оказались в тесном воронке, внутри которого Андрей уже снял чудом уцелевшие черные очки... - Девушка, и как же зовут нашу нежданную защитницу? - сразу же подсел к ней поближе Петр, не взирая на предупредительный окрик одного из сопровождающих лейтенантов. - Ну, это я для порядка, не принято как бы пересаживаться, - начал тот оправдываться, но перед ней, тоже с затаенным любопытством, а то и с ревностью поглядывая на нее, совсем не вписывающуюся в их преступную, как ему казалось, компанию, - еще не сев... - Муза, - спокойно ответила она Петру, усмехнувшись на дополнение лейтенантика и спокойно надевая чехол на гитару. - То, что вы - Муза, это мне и душа сейчас подсказывает, но я ведь спросил имя, - пытался удержать разговор Петр, пробиться через некую стенку детской почти отчужденности, задумчивости ли, которой она, казалось, была всегда отгорожена от остального мира. - Муза, - так же спокойно повторила она, даже не взглянув на него, вдруг протянув зачехленную гитару Андрею. - Подержите пока. Отдав ему гитару, она достала из кармашка своего легкого пуховика резинку и надела ее на волосы, словно бы сложив крылья за спиной и не собираясь никуда улетать. - О, боже, неужели есть и такое имя? - изумленно спросил Петр, слегка порозовев от досады. - Я и не подозревал… - Конечно, есть, - робко подтвердил лейтенантик с ликом романтика, словно в ладошки хлопая длинными ресницами. - Если бы вы всякой ерундой не занимались, то могли бы узнать и это... - Ну да, если бы и вас не вынуждали такой же ерундой заниматься, - язвительно заметил Валерий, посмотрев на того с легким презрением, продолжив тему и красуясь слегка. - Или вы думает, что ваше занятие более достойно - душить права человека? Право на свободное слово, хотя бы на ту же песню... - Почему же, мы не против официальной гласности, - покраснев, пояснял лейтенантик. – Но во всем должен быть порядок, который нельзя нарушать, иначе... - Небольшой сдвиг начальных условий – и начнется необратимый хаос, - заметил про себя Андрей, но его услышал лишь тот. - Небольшой диссонанс и,.. - подсказала Муза, - какофония! - Да-да, свобода слова полная, но вот порядок ее реализации крайне регламентирован! - довольно продолжал Валерий, даже подскакивая чуть на сиденье от нетерпения. - Сама же свобода этого свободного слова может быть или разрешена, или же запрещена! Прекрасно! Так же и с правами человека: они абсолютны, но их надо лишь получить в райотделе, сдав прежде и на эти права!.. - Нет, но у вас же не было разрешения на демонстрацию? - настаивал лейтенантик, бросая на нее вопросительные, ждущие поддержки, взгляды. - Если бы вы получили разрешение, к тому же не на права какие-то, а лишь на... - На способ их удовлетворения! - обрадовано закончил его фразу Валерий. - Ребята, неужели даже через пару лет, когда все будет иначе, вы, правоохранители, не осознаете даже, какую чушь вы сейчас несете? Неужели вам не станет смешно!.. - На любовь никто не спрашивает разрешения, а что касается свадьбы, женитьбы, взаимности - разве это имеет какое-либо значение, - равнодушно заметила Муза, не глядя ни на кого. - Вот у нас как раз это лишь и имеет значение! - воскликнул почти счастливо Валерий, пытаясь привлечь ее внимание всеми силами. - Ведь что касается партийности чувства любви, то у нас... - Зачем самим повторять этот абсурд? - осуждающе посмотрела она на него. - Ведь это почти признание его реальности. - Совершенно верно! - громко поддержал ее Петр. - Я просто рад наконец-то встретить единомышленника! - Извините, но я не мыслю, а тем более в унисон с кем-то - лишь пою, - никак не отреагировала она на его эмоциональный призыв. - Мысли порой все искажают, пытаясь построить слова, чувства, сделать из них своих солдат... - Ментов, - с усмешечкой подсказал Валерий. - Зачем так? Я вас не оскорблял, - обиженно произнес лейтенантик, кому его нынешняя роль была все же непривычна. - Ага, это я сам себе руки заламывал, - язвил Валерий, - сам орал: стоять, лежать! - Но мужчинам приходится иногда все же думать, мыслить, строить из слов... воздушные замки, - чуть сокрушенно вздохнув, признавался Петр. - Петь потом, возможно, будут про... них. - Серенады, - пряча улыбку, сказал Андрей. - Во, дает! - расхохотался второй милиционер, тоже лейтенант. - А вы ничего! Я думал, сейчас тут биться в истерике начнете, на нас бросаться, как нас предупреждали москвичи... - Это они при ней... такие, - хмуро произнес первый лейтнантик, поглядывая на них все же исподлобья из-за чего-то. - У нас одна муза - революция! - гордо, но со скрытым разочарованием в голосе произнес Валерий. - Во-во, вы сейчас с ней у майора познакомитесь! - самодовольно выпятив грудь, сказал второй лейтенант. - Он у нас с Афгана мастер по революциям всяким... Все, приехали! Первый лейтенантик открыл дверь воронка и, выпустив всех, тут же взбежал по лестнице райотдела и что-то сказал стоящему среди толпы милиционеров высокому майору. - Так, девушка, приносим вам свои извинения, но вынуждены вас отпустить. Это явная ошибка, мы задерживали только этих... граждан, - с игривой улыбочкой сказал Музе майор, когда они поднялись по лестнице в сопровождении уже четырех милиционеров. - Вы задержали их за что? - спросила она, не глядя на майора, и сама же ответила. - За участие в демонстрации. Я тоже, как и те, кстати, с флагом геев, в ней участвовала, значит, и меня тоже надо арестовать. Поэтому, извинения ваши преждевременны... К тому же, вы должны были арестовать вообще всех участников демонстрации, у которых тоже личного письменного разрешения на нее не было... - С флагом геев? Каких это, ну, с каким это еще?.. Это вы про кого, кстати?.. - растерянно переспросил майор, вдруг покраснев и не найдясь, что ответить ей. – А, ладно, я вас тоже задерживаю, ну, то есть, как свидетеля и прочее... Проходите... - Ты чуть нам все не сорвала, - зашептал Музе Валерий, когда они шли по тесному коридорчику в сопровождении нескольких милиционеров. - Вдруг они бы и нас отпустили? Логика-то есть... - Валера, тебе будто сам скандал и нужен? - добродушно спросил Петр уже в большом кабинете, скорее, в красном уголке... - А зачем тогда все это?! - возбужденно забурчал Валерий, нервно заходив по кабинету с заложенными за спину руками. - Ишь, вы с ними уже о геях, о любви начали дискуссии, чуть ли ни песенки хором запели! Или вы тоже на бархатную революцию надеетесь? Но бархатных не бывает, у нас, по крайней мере, не будет, это профанация, как и та февральская, потому что свободу не дарят, даром не дают! А вы в одной демонстрации с ними уже участвовали, их уже соратниками счесть готовы? С кем? С этими преступниками? С палачами, стукачами? Может, вы им и прошлые жертвы, миллионы жертв простите, если уже с будущими смирились? На меня тогда не рассчитывайте! И вообще я не понимаю, почему бы вам, Муза, действительно, не уйти? Мы все-таки не на концерте самодеятельности! - Хорошо, молчу, - ответила та и ушла в угол кабинета. - Когда музы молчат.., - с пафосом начал было Петр, но в это время в кабинет вошел майор в сопровождении более высокого и, особенно, более солидного телом милицейского чина. - Итак, не знаю даже, как к вам и обращаться теперь... Может, господа? - начал насмешливо тот высокий чин. – Ну, как и к тем, вашим адвокатам... с разноцветной пижамой на палке... - А почем бы и нет? - язвительно подметил Валерий. - Мы вам, по крайней мере, не товарищи! Не по тому товару... - Да, я это понимаю, - сказал тот, почесав затылок. - Хорошо. Тогда, господа-граждане, придется проехать с нами на суд... Да-да, на суд... Вы, оказывается, в нашей стране уже важными персонами стали, хотя, конечно... Стоит, видите ли, похулиганить, посквернословить, но только под каким-нибудь политическим лозунгом, как это уже гласностью становится, а не хулиганским проступком... - И, если бы это было с месяц назад, то с нами бы уже поступили иначе? - задиристо спросил Валерий, чуть ли не напирая на того. - Если бы это было год назад, то я бы.., - гневно сверкнув глазами, начал было высокий чин, но остановился, продолжив гораздо спокойнее. - Но пока мы вынуждены проехать с вами в суд... - И вы тоже?! - с показным изумлением спросил Петр, закончив чуть ли не заботливо, - и, может, в одном воронке? - То есть, вы от суда не отказываетесь? - холодно спросил сухощавый майор, глядя на них исподлобья, но с интересом. - Еще бы! - воскликнул горделиво Петр. - Естественно! - кивнул головой и Валерий, недоумевая. Когда милиционеры вышли, он был явно озадачен. - Может, там чего-то уже произошло за это время? Ничего не пойму... Или они издеваются? - Да, Валера, это просто они незаконно участвовали уже в нашей демонстрации, - с некоторым разочарованием пошутил Андрей, искоса поглядывая на Музу, которая молча смотрела перед собой своими большими, зелеными глазами... - Не нравится мне все это, не нравится! - бормотал под нос Валерий, опять нервно расхаживая по кабинету. – Революция – это путь борьбы, страданий, но не во имя искупления, а во имя освобождения, каким и идет она там... А тут какой-то балаган намечается, кто-то даже толпу остановил вовремя – та даже ничего не поняла… - Да, чуждый нам путь Верховенских, по верхам, но не тот, которым шел и Раскольников, совершив преступление тоже из протеста, но подсознательно даже, обреченно ли ради страдания, искупления страданием, а не корысти ради, алчности Золотого Тельца, коей у него не было в крови, в прошлом, да и в настоящем той еще России, - думал вслух Андрей. - Да и у кого она была тогда после трех почти веков крепостничества – разве что у мещан, купчиков с Охотного ряда, но которые тоже были не прочь бросить к ногам красоты все, даже свою жизнь - рогожей! Но то путь веры, подсознания, но не разума… А какая и вера сейчас, у третьих поколений атеистов? Во что?.. Зал заседания в суде, куда их ввели все еще как бы под конвоем из нескольких милиционеров, был чем-то похож на небольшую аудиторию для семинарских занятий. Напротив широкого стола лектора-судьи в зале хаотично было разбросано несколько обычных, ученических столов, за которыми и разместились, с одной стороны, они, а с другой стороны - милиция и несколько человек в штатском. Среди последних в коридоре Андрей мельком заметил и знакомые лица, но те… не вошли в зал, за исключением Ильи, первым оказавшимся там и по началу даже на их, подсудимых, месте, хотя то ничем не отличалось от столов и стульев обвинителей, судейских... Когда все расселись с независимым видом за своими столами, в зал через боковую дверь вошел высокий, плотный мужчина в... мягкой клетчатой рубашке и почти домашних брюках, который явно не походил на судью, в отличие от двух заседателей, одетых сугубо официально и держащихся весьма строго, нахмурено, но скованно... - Сидите, сидите!.. Прошу извинить за такой вид, но я даже не подозревал, что сегодня, в такой праздник, меня могут вызвать ради чего-то подобного, оторвав, так сказать, от грядущего праздничного застолья, - широко улыбаясь, оправдывался тот, усаживаясь за свой стол посреди заседателей, с готовностью разложивших перед собой на краях стола листки бумаги. - Но я надеюсь, что мы так же демократично разберем и наше дело. Возражений не будет? У меня тоже. Начнем? Прошу вас.., товарищ прокурор... - Итак, дорогие товарищи! - начал громко высокий, чернявый штатский в строгом костюме, с неправильными чертами лица, едва сдерживая недовольство, даже раздражение, но постепенно воодушевляясь. - Я, конечно, может быть, не совсем понимаю некоторых нюансов сложившихся обстоятельств и не совсем ориентируюсь в некоторых поворотах генеральной линии, но мы здесь все с вами, за некоторым, конечно, исключением, призваны и в подобных условиях неукоснительно блюсти букву закона, как бы то ни казалось кому... Что же произошло в реальности произошедшего? В тот ответственный момент, когда наши славные трудящиеся коллективы сплоченно вышли на свой великий праздник труда.., точнее, великой революции, то есть, чтобы в очередной раз продемонстрировать всему миру, в том числе, несгибаемость нашей линии нашей же партии и непримиримость к разного рода отщеплени.., то есть, к отщепенческим отклонениям и прочему, находящаяся перед вами жалкая кучка тех самых, прямо скажу, хулиганов - а иной статьи, слова, то есть, я подобрать не могу - предприняла чудовищную попытку осквернить весь пройденный нами путь, начиная с наших отцов и дедов... - Что, в буквальном смысле слова осквернить? Прямо среди площади? - язвительно спросил Валерий, привскочив даже со стула. - Я бы попросил вас все-таки сесть! - оборвал его прокурор, чье смуглое лицо даже позеленело от негодования. - Вы это в продолжение, в качестве уже приговора? - с чувством оскорбленного достоинства спросил Валерий. - Господин... Сосорин, уважайте суд, дайте обвинению закончить мысль, - с усмешкой заметил судья, поглядывая на часы. - Мысль, конченая вслух - это ложь! - торжествующе продекламировал Валерий и сел, вальяжно развалившись на стуле. - Видите, товарищ судья? - с пафосом произнес прокурор и продолжил, косо поглядывая в сторону обвиняемых. - А каково было терпеть подобное поведение рядовым.., то есть, простым трудящимся, когда эта кучка... хулиганов внедрилась в их стройные ряды с самыми низкими намерениями, посягая на наши святыни, на ум, честь и совесть нашей эпохи, прикрываясь вражескими полотнищами... - Извините! - громко возмутился Валерий, опять вскочив, - на чью это честь мы посягали? Где свидетели? - Это вы посягнули на нашу свободу митингов и демонстраций! – тут же отозвался Илья, тоже привскочив за своим столом. - И на вашу? – удивленно переспросил судья, взглянув в протокол задержания. – Чью? Вы – кто?.. - Геев, - с двусмысленной усмешкой подсказал тот ментовский высокий чин, доселе равнодушно восседавший рядом с прокурором. - Не геев... только, но и вообще... свободы... и афроамериканцев, кстати! – поправил, покраснев, Илья, заглянув в бумажку. - У них тоже свои демонстрации, ну, парады бывают, оказывается, - заметил сидевший рядом солидный в штатском и с твердым взглядом, даже не усмехнувшись. - О, нет! Нам пока и этой хватит! – категорично заявил судья! - Это вы извините! - насмешливо продолжил прокурор. - Незнание марксизма-ленинизма не освобождает от ответственности, хотя тут-то я вас ни в чем не обвиняю, конечно, даже сочувствую... - А в чем тогда? - изумленно спросил Валерий. - Если хотите узнать, то дайте договорить хотя бы! - сердито огрызнулся прокурор, недовольно и недоуменно поглядывая на судью, который безучастно чертил что-то на листке бумаги. - Так вот, я взываю к правосудию и требую наказать этих хулиганов, которые организовали несанкционированное шествие на чужой демонстрации наших трудящихся, а также, что самое главное, оказали нецензурное сопротивление действием нашим правоохранительным органам при попытке пресечения теми того шествия, что согласно статьи... - Хорошо, все понятно, детали опустим, - не поднимая глаз, остановил его судья. - Защищающаяся сторона имеет что сказать? - Позвольте! - гневно воскликнул Валерий и вскочил со стула. - Во-первых, почему это защищающаяся сторона? Нас тут только что дважды ложно обвинили, что я, мол, осквернил путь, по которому шли родственники этого гражданина, а также посягнул публично на чью-то честь, и все это посреди многолюдной демонстрации, и при этом я еще и обвиняемый!? Вы что нам шьете? Что я, мол, нецензурно пресек насильственные действия ваших правоохранителей, которые и помешали мне славно завершить демонстрацию?.. - Я не говорил, что вы, а это вы сами охарактеризовали свои деяния,.. – поправил было прокурор, подняв палец и выжидающе глядя почему-то на Андрея, как и его соседи, - признались... - Ясно, господин Сосорин, и, надеюсь, товарищ прокурор не будет возражать, что мешать славно завершить кому-то демонстрацию нельзя, и вы обвинения снимаете? - нетерпеливо перебил его судья, прочтя перед тем какую-то записку от секретаря. – Могу лишь посоветовать сторонам пожать друг другу руки в знак примирения и... - Нет!!! - завопил Валерий, поддержанный и Ильей, похоже, дожидавшимся своей очереди, даже что-то записывая. - Вы не дали мне договорить, а я хотел договорить совсем иное! Вы даже не дали договорить прокурору, какую статью он нам хотел пришить, ну, и... - Заседание суда объявляется закрытым! Извините, тут еще дело депутата Хочутуряна, который хотел проехать на новой бэушной япономарке почти перед трибунами, хоть и под красным флагом, но спеша в... больницу – срочно нужен диагноз, то есть, вердикт! Вопрос жизни и.., сами понимаете!.. - извинился судья и исчез за дверью. - Это нечестно! - в голос крикнули ему вдогонку Валерий с прокурором, даже благодарно, понимающе посмотрев друг на друга. - И вы говорите, что ваш суд – самый справедливый, а ваша система – правовая, - обличительно заметил и Илья, - если судят не по праву, даже вашему бесправному? Какой-то хачик Турян им важнее! - Не хачик, а композитор, вообще-то, - знающе поправил прокурор, но далее начал уже путаться, явно от неожиданности. - А вы будете утверждать, что ваша система будет правее, если первое явление ее народу было таким, неправым, слева? Кто от того выиграет? И что вы предлагаете? Игру, где победителей не будет? Ну, то есть, потому что не будет подсудимых... Или наоборот? - Слева? Композитор? Или депутат? Так тот сейчас должен быть в Карабахе! - поправил и его Валерий, но доверительно глядя в глаза. - В том и дело, что справа, но наоборот и нет - сразу!.. - Почему нет? – с усмешкой спросил Андрей, направляясь с остальными из зала. – Вы проиграли, а, вот, судья уже победил… - Судья?! – поразился такой безграмотности прокурор и даже рассмеялся, хлопнув себя по бокам руками, но смолк, заметив, что другие силовики его не поддержали, спешно уходя из зала… - Вы? А ты? – обличил его в свою очередь Валерий, но Андрей уже выходил с остальными в дверь, оставив их там двоих… - Да, ты не проиграл, это точно, - заметил ему тихо, но уважительно Илья, выходя следом. – Я и не знал, что ты такой.., ну, игрок! - Ребята, - сказала, едва они вышли на улицу, Муза, забирая гитару у Андрея, - мне надо идти... Я, может, что-то не так сделала? - Нет, все нормально! - пытался ее успокоить слегка опечаленный предстоящим расставанием Петр. - Просто получилось, что, если нас не осудили, то мы ничего предосудительного и не сделали против системы, то есть, ничего не сделали. Холостой выстрел Авроры! - Но так оно почти и есть, - неохотно произнес Андрей, не зная, что еще сказать. - Ведь мы не тогда и не на Красную площадь вышли? Сейчас это, похоже, разрешено, рекомендовано даже, иначе бы судья себя так не вел, зная партию на несколько ходов вперед… - А для вас это имеет большое значение? - слегка даже осуждающее, как им показалось, спросила Муза уже с полуоборота. - Абсолютно никакого! - спешно признался Петр, прощаясь. - Тогда пока! - махнула она рукой и, странно глянув на Андрея, побрела в сторону, видно, театра по улице, усыпанной красными бывшими шариками, флажками, полуживыми гвоздиками.., словно была забрызгана кровью какого-то растерзанного толпой титана... - Илья, у тебя, правда, что ли, флаг геев? – все же не удержался Андрей и спросил того, когда она ушла. - Сам только узнал. Из Москвы ж прислали, - став почти кумачового цвета, буркнул тот. – Вообще это флаг Свободы был, но с 79-го - уже флаг американских, а потом и всех геев.., ну да, и у нас, как и у фашистов угнетаемых. В Германии их после войны, оказывается, еще четверть века, до 69-го держали в тех же концлагерях, как самых опасных преступников... Такая она, оказывается, Свобода, о чем мы и не догадываемся, и не знаем еще ни черта... И откуда? - Не знаем, и что такое геи, хотя у нас и запрещены законом, - усмехнулся Андрей, - почему вас менты и не задержали, в отличие от нас, незапрещенных вроде. Нет, я с ними сталкивался, но там, наверху, среди элиты, политической тоже, которую трудно было назвать несвободной и тогда... Да, Илья, большинство из нас даже не представляет, в какую петлю мы все суем голову. Раньше даже мы, научники чувствовали себя, может, и неуютно в коллективах, но были в какой-то безопасности там. При Андропове стали бояться собираться и коллективчиками, особо по трое. Борьба за дисциплину, против алкоголизма? Увы, со стержнем, спайкой коллективов! С ними! А представь, если каждый, став свободной личностью, останется один на один с руководством, государством, его комитетами, органами, естественно, организованными, не говоря уж о кланах, той же бывшей номенклатуре, которая сейчас вдруг притихла, ушла в тень, за кулисы? Не думай о понятии «личность», а противопоставь себя лично, но не кому-то конкретному, а именно их кланам, комитетам, в целом, власти, с чем придется сталкиваться не только на выборах, а в жизни, но когда у тебя за спиной уже не будет никого и ничего... - Но вы же смогли сегодня? – возразил Илья. – Даже победили! - Победили? Сегодня мы пока нужны им, - усмехнулся Андрей, - чтоб нашими якобы руками покончить с самым большим коллективом – с их собственной партией, но в большинстве трудящихся... - Пожалел? Ты же не был коммунякой? – улыбнулся Илья. - Я не о себе, я привык жить сам по себе, думать сам за себя, да и позволено было в науке, - продолжил Андрей. – Я о том, что то была массовая, надгосударственная, сплоченная идеологией организация, которая стояла над всеми и, главное, контролировала всех тех князьков, даже божков, ну, и судий, прокуроров, чекистов, ментов, директоров – всю власть сверху донизу. Представь, над ними никого не будет, никакого всевидящего ока с карающей рукой, и все они будут против тебя, против каждого из нас и множества наших партеек, еще и грызущихся меж собой и внутри - с их же подачи? Не станем мы все в том Хаосе мнимыми, «мертвыми душами» новых Чичиковых? Что нас защитит, оградит? Закон? Ты видел, как они уже играются им. Я почему и не стал встревать, мешать им показать себя во всей красе – на практике! В теории у меня сомнений не было. Но в жизни... я перестаю верить и себе, теоретику... Остается - наблюдателю, свидетелю... - Иеговы? – усмехнулся Илья. - Свобода легко не дается – я на это и не рассчитывал. Но это же лучше безопасности в клетке? - Именно дается... и слишком легко! Скорее, Иоанна... Глава 14 - Андрюша, ты уже свободен! - услышал он за спиной знакомые голоса и, едва обернулся, как оказался в крепких, суматошных объятиях Аделаиды, из-за спины которой на него хитро поглядывали Петрович и Матюша, одного из которых он и видел в коридоре суда… - Да, то был я, - кивнул Петрович, пожимая ему руку за спиной Аделаиды, другой обнимая Матюшу. - Они тут, на передовой перестройки, жутко темные. Самым понятливым оказался Ментуров, с его двумя, но несгибаемыми извилинами от рогов! Кстати, твой давний поклонник! Фемиде я лишь на минуту снял повязку с глаз. Но персеку битый час пытался спрямить хоть одну, последнюю извилину партии, у прокурора и той не найдя, но обвинители сейчас никому не нужны - слишком много грядет виноватых! Дольше всех уговаривал Хочутуряна, пока его три извилины ни съехали этаким аттрактором в толпу позади вашей могучей кучки аттракционеров, легко обративших все в Аттракцион! Увы, привык планировать и в хаосе... - И это ты?.. Не кажется, что мозг и похож на исходный лабиринт, и чем меньше там извилин, тем быстрее заблудишься? – заметил Андрей, но Аделаида так прижала его к себе… - И быстрее выберешься? - Петрович никогда не спорил, особо сейчас, довольный встречей с понимающим слушателем. – Одну извилину – от фуражки, кепки, шляпы - проще спрямить согласно и новой, не раз ломаной линии партии, обходной даже! Их назови хоть гузкой – с головой сиганут в кузов! Лишь бы не в кутузку! Три вечно не определившиеся извилины всегда можно свить, сложить в ту самую фигуру, с почти библейским названием, ну, и, понятно, с тем же исходом. Но русские могут из любой троицы, тройки создать нечто цельное и неделимое, что для всех остальных – тот самый почти мифический кукиш в кармане! Увы, куда сложнее с тем, буквально библейским вариантом, с которым и ты сталкивался... Нет, дорогой, я не о тебе самом. Не отрывайся от дела, от рая Адочки – там сегодня опять весна! Блин, даже сам потек, как березка в лесу – и это посреди осени! Я о райской дихотомии, логике, почти диалектике: Добро и Зло, Единство и Борьба, Быть – не Быть... - Пить – не пить! – подхватил Матюша, но поправился, - ну, будущий мед поэзии, понятно, до которого надо пчелок еще и... - Вот, именно, и!.. Не путай членство в партии с яичницей, тем более, с Беконом! – ткнул пальцем в небо Петрович. – Я опять о Ментурове, слишком быстро согласившемся, мгновенно сделавшем, как и Берия тогда, антагонистический для нас выбор, хотя тебя и стесняется почему-то! Да, и для нас, Андрюша! Жаль, что ты не помнишь, сколько часов, ну, десятков минут я сопротивлялся тогда, по пьяне, прикрываясь от тебя красным знаменем.., но перед тобой, увы, не смог устоять, почему я здесь, с тобой, вместе с Адочкой. Молчу о Матюше, который тогда готов был тебя.., если б смог, конечно, но опять все перепутал и, как у нас в партячейке было заведено, готовил не менее добросовестно шашлык в саду, в тот раз из нетрадиционной телятины, может, даже бычатины, почему и пропустил все... - Так, я ж предлагал сразу купить барана на рынке?! – вспомнил с обидой Матюша. – Сам же отговорил: зачем, мол, покупать, если свободный рынок всегда с тобой... теперь, ну, как и эти почти?.. - Матюша, тогда базар еще не весь был свободным! - заметил Петрович, хотя и задумался. – Ну, да, он и сейчас, конечно, свободен лишь в плане покупателей, но мы-то про телятину! Не сбивай меня с генеральной линии! Где ты видишь тут стены, в которые надо биться лбом, как твои потенциальные шашлыки?.. Вот именно! - Так, то был шашлык из телятины? – что-то вспоминая, уточнил Андрей, весело поглядывая на притихшую Аделаиду. – Потом, на Красной площади и потом запах ее преследовал... Нет, я пробовал шашлык и из лося, оленя, кабана, даже из медведя, хотя и после последнего, даже с непривычки, проблем во рту не было – только в лесу, в кустах, куда Миша явно поспешил вернуться... - Скорее, из диетической говядины, Андрюша, - успокоил его Петрович, потирая бока, - хотя телок был весьма молод – помню! Ух!.. Такой же двурогий, как Моисей, то есть, Ментуров! Учти, его две, прямые на вид извилины заданы двумя противоположными по смыслу рогами: щитом и мечом – которые в руках мастера адекватны! Кто к нам – с мечом, тот – на щите! Почему и говорю о бойцовых телках, а не о баранах, в диалектических спиралях рогов чьих запутаешься, как и они сами, стремясь не к свободе, не к истине, а к непробиваемости стен, к показушности новых врат! Да, Матюша, и красных, кремлевских, и твоего сопливого Плача, сплошь дырявой от ходатайств, жалоб никому ни на кого, а также никем никогда не преодоленной, потому и Великой, и прочих стенок, плетней, заборов, оград, ширм, кулис, занавесов, загородок, решеток... и их калиток, врат, дверей, лазеек! Входов!.. Выходов? Как мог и Тезей выйти, найти выход, не войдя в Лабиринт? Хотя ваш Адам, Матюша, умудрился выйти, и не входя! Вот-вот, и вы, а следом и мы только и исходим откуда-то, так и не войдя никуда окончательно... Чуешь, в чем разница философий? Былой: пришел, увидел, победил! И вашей, новой: вышел, победил, вернулся - vasi, vici, verti! Вертайтесь, Васи, Вени – ничего не вышло, veni! Куда? Опять в несостоявшийся уже раз капитализм! Все это, Ваня, суета, vanitas! Скоро начнешь мечтать вернуться в недостроенный рай социализма... Ты ведь, Андрюша, не так мыслишь? - Мне, увы, некуда возвращаться, - отмахнулся Андрей. - Я про то же, хоть о другом, - кивнул Петрович. – Судья, кстати, тоже оказался с множеством запутанных извилин, но сразу просек перспективу! Пресек прусак пресс по просьбе прессы, просто прорубив в лесу просеку, хотя и далек от твоих Лабиринтов лабораторий!.. Извини, это я осваиваю новый лексикон Капитулизма, создаю одновременно, о дно временно, ознакомившись и с твоими работами по языку, и со словоблядством классиков. Всю перестройку можно сделать, лишь меняя слова! И делают, Ком меняя на Кап, а Пред, Сек – на През, Секс, Секвестр! И о пресном телке я заметил к тому, что завтра пресса, телек растрезвонят о твоей сокрушительной, музыкальной победе над ментами и прокурорами! Считай, выборы в крае - в кармане: народ-несун больше всего не выносит ментов и прокуроров! Болтунов с некоторых пор – тоже! А ты их и победил молчанием! Можно и российские выиграть, но сейчас в Москве, в тылу перец-троек, пер-делок пер-делать нечего! Там все ненастоящее, бутафорное, одни декорации - сам видел. Тебе это не подходит, ты же не любишь чужие сценарии, а там столь сейчас самозваных-незваных сценаристов, либреттистов-либерастов, что плюй наугад – лишь угодишь под плевок! - Но зачем мне и эти? – неуверенно спросил Андрей. – Илье, Валерке, может,.. хотя Валерия против них вообще, за неучастие во... - Лжи! Пафосно! Андрюша, но ты - наша единственная надежда! – пафосно смахнул слезу Матюша, прижав руку к сердцу и демонстративно достав плоскую бутылочку коньяка из кармана. – Да, Петрович, если и плачу, то не жалею, не зову! Нашел и у дея-теля! - Во, чешет! Но когда всюду лужи, нельзя не наступить, идя даже назад, даже знакомым путем! Но лишь не стоя на месте! Да, надо же что-то настоящее сделать в этой опять бутафорной стране, на сцене совсем другой, чем за кулисами! - продолжал Петрович, доставая из тяжелого дипломата три ломтика лимона. - Ты только посмотри на Адочку из Закулисья - она умирает без этого, без настоящего. А там сама чуть бутафорной опять не стала... без тебя, почему мы, в основном, и поспешили к тебе, навстречу восходящему солнцу! - Так бы мы еще минут пять ждали, пока бы ты сам вон туда... не поспешил, - показав вдоль улицы пальцем, пояснил Матюша… - Не отдам! - наконец смогла сказать что-то и Аделаида сквозь слезы. - Никому не отдам! Лучше заморожу, отрежу... - Заморочь, отрежиссируй, раз уж спланировать нельзя… Ох, Андрюша, Адочка больше всех переживает, ведь все так перевернулось вдруг на самом интересном у нее месте! - сочувственно воскликнул Матюша, протягивая ему бутылочку за ее спиной. - Матюша, ты бы мог хоть сейчас без намеков? - горестно сказала Аделаида, вновь оросив плечо Андрея потоком слез. - Нам ёк? Адочка, я уже не могу не говорить эзоповым языком аргонавтов, не конспирируясь! В своей стране как в разведке, словно диверсант! - сокрушался тот, доставая вторую бутылочку из другого кармана. - Видишь, что ношу тут вместо партбилета? Да, привык, что здесь должно что-то лежать, согревать... Возле сердца! Вместо! - Спасибо, Матюша, и за этот намек, - вдруг сбавил голос Петрович и, озираясь по сторонам, вдруг поднял воротник пальто. - Нам надо двигать в сторону явочной квартиры... Твоей квартиры, Андрюша, потому что Надежда твоя впервые в жизни сама стала пассажиркой и взяла билет в один конец… Я потому и про Исход вспомнил... - А нам тот конец заказан, Андрюша! - сокрушался дальше Матюша, смахнув слезу. - Открыт Пхеньян, но нам туда не надо!.. - Иосифович, не надо, прошу тебя! - процедил сквозь зубы Петрович. - Плакаться будешь у другой стенки, не у которой краснел! Представляешь, Андрюша, как только взял второй паспорт, так сразу таким деловым, таким энтузиастом стал, как этот... - и дождя не надо! Или вождя вожделений?.. Одного корня, увы! Как и дож, кстати... - Дождь у римлян, кстати, pluvae! – сплюнул Матюша. - Петрович, а вы тоже с нами идете? - не очень довольно спросила Аделаида, когда поняла, что они куда-то идут. - Адочка, но ведь ему и поговорить захочется! - укоризненно воскликнул Петрович. - Нельзя же только о себе думать, ведь ты уже почти в Капитулизме живешь, в системе повальной и конкуренции! Да, Андрюша, в Москве спешно и успешно ведутся эксперименты по ускоренному строительству сразу развитого Капитулизма, но с другим, правда, с тамбовским лицом, хотя опять по гайдаровской «Школе», что, увы, проще и быстрее! Представляешь, и опять на живых людях, на москвичах - хорошо, что не на всех! Сколько ж нам за всю Русь отдуваться, а? И ты бы хотел туда, в подопытные кролики? - Он просто вот сюда хотел, - порозовев, сказала Аделаида, показав ему – куда, - кроликом, но не вашим только… - Адочка, но ведь там все еще коммунизм? - с надеждой спросил Петрович. – Ну, то есть, от каждого по способностям, а каждому по потребностям, как и мечтали до восьмидесятого… - Нет, это можете забыть вместе с партбилетом члена, - решительно возразила Аделаида, - никаких кому - низ, а кому - ниц... - Гуд бой, май лав, гуд бой! - пропел вдруг весьма высоким тенором Матюша, и они вошли в подъезд дома Надежды... - А ты откуда, Андрюша, знаешь Музу? - неожиданно спросил Петрович, когда Аделаида пошла принять ванну, а тот вернулся за полотенцем. Но ответа не стал дожидаться, а лишь замахал руками. - Беги, скорее беги! Потом, все потом, когда пот смоешь! Это вечная тема, потому я не спешу, у нас ведь полный дипломат... лимонов… Аделаида, сидя в облаке пены, с загадочной улыбкой колола себе руку иголкой вдоль тонкой голубой вены, уже похожей на нитку, унизанную рубиновыми бусинками… - Самая красивая тропинка смерти, по которой я когда-нибудь уйду… и от тебя, - похвасталась она своим украшением, а потом, подозвав его поближе, уколола и его в пенис, после чего смешала их кровь и заплакала. – Да, милый мой, лучше нам хотя бы так, кровосмесительно, но породниться, чтобы этот мнимый грех хотя бы останавливал меня на полпути к вечности… Но сейчас я хочу согрешить, спрятавшись с тобой в этом облаке… Иди ко мне!.. Когда они вышли из ванной, никого в комнате не было, все было так, как будто Надежда только что ушла... - А, эти эгоисты там, - махнула рукой Аделаида в сторону одежного шкафа, откуда Андрей недавно еще доставал полотенце. Распахнув дверцы, он с изумлением обнаружил, что за ними нет ни только одежды, полок, но и задней стенки... Взору открылась - почти как у Булгакова - просторная гостиная, не просто роскошно меблированная, а с какой-то изощренной мещанской или купеческой роскошью, причем уставленная, увешанная сплошь антиквариатом, гораздо более древним, чем и город. За инкрустированным золотом малахитовым столом, вокруг огромного, расписного самовара сидели наши приятели и дули опять из блюдечек холодный… чай... - Андрюша, это все же явочная квартира русского Капитулизма, которая иной быть не может! - величественно произнес Петрович, налив и им, но только в бокалы янтарного напитка из самовара, который и оказался коньяком, на что Петрович с пьяной улыбкой заметил. - Не прими только нас за персонажей Кустодиева, дорогой. Адочка милая, ты отдохнешь? А я пока покажу Андрюше его апартаменты. Закуси лимончиком и пойдем, пока Матюша накроет ужин... За одной из дверей гостиной была роскошная спальня с альковом, куда и направилась Аделаида, но за другой оказалась небольшая, но полностью оборудованная студия и звукозаписи с целым набором разных электромузыкальных и прочих инструментов. Стены были обиты каким-то специальным материалом, отчего звук их голосов был абсолютно чистым, и даже пьяный акцент Петровича пропал. Можно было различить чуть ли не каждую букву, звук их слов... - Ты, кстати, обратил внимание на тот граммофон? - с довольной улыбкой спросил Петрович. - Не смейся, это лазерный стерео-граммофон, может, даже квадро – как захочешь... Сони! Да-да, про которых ты тогда все не так понял, заподозрив даже Адочку... - Не понятно лишь, зачем это на явочной квартире капитализма?.. - начал было Андрей, продолжая изумляться увиденному. - Напомню: Капитулизма, - поправил его мягко Петрович, продолжив заговорщицки, - а, во-вторых, это самая важная комната... Да, Андрюша. Я все объясню... На сей раз это не игра слов, не мои лексические упражнения, а, действительно, Капитулизм! Понимаешь, мы лучше всех знали, могли сравнить, как жили мы, победители, и, допустим, якобы, побежденные Германии. Уж мы-то, пройдя тернистой тропой резидента по око-лицам их бизнеса, сквозь кущи их загнивающего быта, познали горечь их поражения на себе! Мы лишь не могли сами сказать то людям. А кто еще мог тот слух сделать достоянием народа? Ты ведь тоже, побывав на передовой их науки, взялся за восстановление справедливости? Но с чего начав еще при Юре? Тоже с якобы «продажи Родины», но на жаргоне тех неотесанных мужланов Ментуровых, потому избегающих тебя, знающих лишь борьбу противоположностей: или дам-ка, или продам-ка! Не зря ж они первыми и побежали туда – пока товар не устарел, еще есть в наличие? Но ты и там совсем не случайно оказался, как и у нас, в Госплане, кстати... - Ну, я по своему понял и первых учителей: «Учитесь, учитесь, укчитесь торговать», - скептически заметил Андрей, - Родиной... - Я и говорю, что не случайно, а все правильно понимая и на словах! – одобрительно заметил тот, продолжая. - И мы, подведя, под ведя общий баланс, решили тоже капитулировать! Но сугубо мирным путем, ради чего мы много лет вбивали им и в лексикон наше слово «Мир», универсальное, как их “Universe”. У них-то с этим словом большие проблемы, сплошная шизофрения, начиная с Mire, «трясины»! Скажи им открыто, что нас, начиная с Толстого, волнует лишь “War and World” – что с ними будет? А их “War and Peace” я бы прочел как «Вор и Пёс», поскольку у нас их «Пиис» неприлично произносить на публичных фуршетах – только в писсуаре! Сошел бы и их “Piece”, «кусок» его на закуску, что для нас почти одно и то же на слух. Но как бы наши Воркеры поняли «Ворлду – Пис! Нет Вору!»? Бр-р! Но, вот, «Миру – Мир!» все поняли правильно, как и мы сами, хотя для них это типа китайской грамоты, где таких двусмыслиц еще больше, почему они - до сих пор «Поднебесная»! Поняли нас наоборот, почему нам почти удалось капитулировать самым мирным для нас путем, но, что уже наши не поняли! Нашего меченого миротворца мр-р-тварцем кличут, особенно после поражения старой, уставшей кобылы в Кабуле! Нет-нет, я все по делу говорю, не отвлекаюсь. Завтра протрезвею и все забуду, потому наберись терпения! Расчеты, тайные планы наши уже в чем-то оправдались! Семимильными шагами мы проходим их столетия поисков, опытов на себе, на неграх, на кроликах Австралии! Зачем нам тут было быть впереди, хотя и в конце шестнадцатого века могли начать, предлагали? Достоевский то прекрасно понял, и сочтя бесовщиной! Те лишь не просекают! Мы ж им вернули, ну, спихнули на них весь третий мир, как и подарок хитрожопого Трумэна, голодных до, якобы, свободы братков-нахлеб-ников – пусть расхлебывают, подавятся! Наша контри-бусия! Бусы с туземцами вернули, еще и с нашими дамами, которые и коня на скаку остановят... И остановят, и войдут в их горящие избы! Да, ведь мы, как и немцы, капитулировали не для того, чтоб проиграть, сдаться! Для того, чтоб они типа победили... Но я ведь не о том начал?.. - Да, зачем здесь студия? – напомнил Андрей. - Эта студия, Андрюша, для нее, для твоей Музы, - скромно признался Петрович. - Я ведь теперь работаю не председателем, а продюсером нашего Капитулизма - не Партии, но Поп-Арта - в своей, ясно, области. Ты же помнишь, как назывался мой отдел в Госплане? То-то! Отдел планирования, ну, всякой там науки, человеческого, гуманитарного ресурса, гумуса как бы... Сам уже забыл! Но, отбросив ложную скромность, скажу, что сейчас человеческий ресурс, гумус как бы цивилизации и стал для нас, наконец, самым главным, в том числе, и... среди экспортных ресурсов! Да, мы... - Дамы? Ты не имеешь в виду Надежду, надеюсь? - хмуро спросил Андрей. - Откуда ты ее знаешь, кстати? Неужели и это все... - Да, Андрюша, - скромно признавался тот, пряча глазки, - как то и положено было в нашем плановом хозяйстве, мы учитывали каждый винтик, каждую гайку, палку, бумажку, даже билетик на самолет... Информацию! Почему нас, Госплан и сломило их эмбарго на мелочь, на Информацию? Вынули из единого механизма винтик, и он рухнул, обратился в Хаос... как бы! Может ли такой громадный механизм, такая громадная с Грозного страна существовать без единого плана? Такая воля – без воли? Нет! Потому и как бы! Плана, теперь как бы нет, потому и рушить им, вроде, больше нечего. И воля теперь не Шопенгауэра, а их шопа, где глаза разбегаются лишь у шоповоликов, шопоголиков ли Голикова! Ишь, приехал из Бостона нам дать волю, а двух других лишив, не зная те! Но я, Андрюша, знал все, ну, и всех!.. Ах, да, Надежда... Ну, Надежда просто оказалась тогда и для тебя, и для меня последней надеждой. Напарницей ее была Люба, но я знал, что не это тебе было нужно, да и Адочка категорично возразила. Бусы ни при чем! Бусы, это, скорее, к Вере, ну, той, из Большого переулка, на ком, кроме бус, ничего целого и не осталось. Мы ее, как проснулась, сразу и послали, но не на Сахалин, а чуть подальше: в Японию, в Сони. Она ведь все это оттуда нам и прислала... Тебе, то есть! Себя тоже хотела, но... Верить пока не во что! - Петрович, а ты эти планы, случайно, не по пьяне тоже верстал? – рассмеялся Андрей с некоторым облегчением. – Я почти все, наконец, понял, но кроме одного, главного для меня, вроде... - О, Муза! – воскликнул тот патетически в потолок. – У меня нет слов! Как я мог ту даже по пьяне с ней сравнить? Но я ведь – профан в том, простой плановик, сер, теперь, вот, продюсер, а сам даже не способен восхититься своим материалом, номенклатурой своей продукции, хотя цену знаю каждому болтику! Муза – наше главное достояние, половина всего, что есть у меня, если не все! Я бы отдал ей все залы страны, если б не знал, что эти стар-попы, «Пригожины» и тут Хаоса, сделают с ней! К ней близко нельзя допускать никого из них, всех этих «Дай-Дай», «На-На»! Ее не должно быть заметно и на небосводе, пока она вдруг не вспыхнет, затмив все собой, озарив новую эру! Ты же знаешь, что такое рождение Сверхновой, порождаемой слиянием двух незаметных нейтронных звезд? Да, слышал... Потому мы тебя туда и не пускаем, где и не небо, а лишь его отражение в болоте площадей. Осознаешь свою миссию? Ты, можно сказать, предтеча! Вот, что ты должен знать, но только ты один! Бедная Ада, правда, тоже знает, увы, она ведь первая и заметила это в тебе, нашла потом и твою Музу, хотя, может, и с другой целью, но... - Может, пояснишь все-таки? – все-таки и спросил Андрей. - Но это ты сам должен будешь понять! - многообещающе заверил тот. – Иначе зачем... Ты сам говорил, что у этой революции нет Музы, как у той, которая и сама была Музой, пока не погрязла в узах брака? Брака! Нет Музы, значит, не будет и маяков, на свет, под сень которых мы можем и вернуться. Я ж говорил, что это за якобы «революция», «Капитулизм», Аттракцион, у которых ее и не должно быть или должны быть такие, как та! Именно, как! Представь лишь ее, Аттрактора бардака, лицом, Аватаркой всего! Скоро сей «Как» и начнется, уже начался! И где? На главной трибуне, пред всей страной, напротив «Универсама» ГУМа, почти родного их «Пису»! И говорят-то не «Что делать?», а все в голос: «Как!.. Как Ев!.. Как Нью... Как Ваши... Как Лон... Как Скот!.. Как Сток!.. Как Осло! Как Пар...и... Ж! Как Гол!.. Как Ливер... пуль! Как Бон... – За! Как у них!» Мадрид твою налево! Сплошной Какулизм! Шли б и как у них! Нет – тут хотят! Тебе что, а я – продюсер, но не нашей массовой культуры, а теперь их Поп... Каково мне? Именно, каково! Изучил несколько опытных образцов - ужас! Скоро всему, всюду будет Поп-А-РТ, по всем каналам, во всех храмах Искус... А-а, говорить тошно! Представь лишь, что вместо «Калинки-малинки» расцветет буйным цветом «Клубничка»? Молчу о том, что Рек-лама их вещ... Пришли, увидели, пообедали, обе дали, пос... А почему? А потому что все начнется не со Слова, а с его Свободы как бы.., не со Слова Партии, а со слов части... Какой части? Именно! Какой! За дней минувших! Сам знаешь, что даже язык наш всему этому, чуждому противится? Другой он, для другого! Понимаешь теперь, зачем нам в этом Хаосе, сплошной Какофонии нужна Гармония, хотя бы музыкальный строй - твоя Муза? Да, твоя! Но - нам! Надеюсь! Надя тоже! Потому и уехала. Да, у других на тебя другие планы, если вспомнить и о коне. ИО Коня! Железного! Аттрактора Хаоса! Но я видел – можно ли оседлать такого... Аватара! Шучу! Так что, думай, а сейчас пора выпить за ваше гнездышко? Сам говорил, что на шумерском «гнездо», «шалаш» и в Раю - «Gud», ну, как и «Бык» твой? Помню-помню, хи-хи! Так что, все Good и буд... Все это, конечно, Петрович говорил еще и заплетающимся языком, хотя акустика студии легко исправляла недостатки его дикции, но смысл исправить не могла, не хотела... - ...ет! Хотел лишь спросить, Андрюша, - продолжил Петрович по пути в гостиную, где ждал ломящийся от закусок стол, - мы не переборщили с маскировкой? У меня же свои представления о чуждом мне быте людей искусства чужих эпох. Бар-ок-ко! Ре-нес-сан-с ре-несунов! Экзи-стен ... Ты можешь поправить, если и она вдруг решит, снести все это барокко на барахолку... Да, и какая разница, раз не Ницца? Матюша, я прав? У тебя все готово? А где Адочка? - Петрович, я уже не могу запомнить сразу столько вопросов, - задумчиво ответил Матюша. - Теперь у меня и между двумя начинается конкуренция, антимонопольное предательство... - Ну, а хотя бы один ты запомнил? - пытливо спросил тот. - Последний запомнил, - подтвердил Матюша, кивая головой. - И что? - выжидающе спросил тот. - Что-что, я же тебе на него и ответил? Запомнил! Или ты не понял? Ты-то меня слушаешь? - недовольно бурчал Матюша. - Во, отомстил, называется! - добродушно проворчал Петрович и, махнув рукой, сел к столу и начал накладывать себе в тарелку все закуски подряд, то же самое делая со своим вместительным фужером. - Видишь, как я легко справляюсь со всем разом, Матюша? Как полиглот! Цезарь! Итак, где же Адочка, Аватарочка-парочка? Она должна трезво взглянуть, наконец, правде в глаза! - На конец... и в глаза?.. Что-то одно из этого она точно не сможет сделать сразу, поэтому что-то, может, стоит отложить назавтра, - пытался отговорить его Матюша, - ну, что может... - Да, не стоит, - поддержал скромно Андрей. - Тем более! - воскликнул Матюша и высоко поднял фужер… - Размечтались! - язвительно сказала Аделаида, выходя к столу в алом халате, полы которого были весьма небрежно, в спешке запахнуты. – Да, запах «Нута», Мин-Даля... Хотели лишить меня сладкого: прощания с горьким? Хотя бы это у вас не получится, эгоисты!.. - Адочка, я уже все рассказал и все даже показал Андрюше, - скоропалительно выпалил Петрович, хитро подмигнув им всем. - Да?! Все? - с некоторым небрежением спросила она, со вздохом добавив. - Как хорошо, что хотя бы в последнем природа ограничила ваши возможности, не знающие ограничений лишь в первом... Язык мужчины - на самом деле его единственный верный друг! Сказав это, она мстительно улыбнулась и легонько повела плечиками, отчего ее халатик соскользнул с них и пышным облачком опал на пол... Последнее они рассмотрели до мельчайших подробностей, поскольку дружно потупили глаза, видимо, от боязни ослепнуть - тело Аделаиды просто полыхало чувственностью, слегка лишь сдерживаемой томной нежностью, адресованной, естественно, одному лишь Андрею, отчего остальные должны были, точнее, могли просто и бессмысленно сгореть. Сев к столу, она все-таки не сдержалась и положила одну ногу на него, отчего ниже уровня стола ее поза была не столь аристократичной, как то могли лицезреть остальные. При этом Аделаида постоянно что-нибудь роняла на стул или под стол, отчего Андрею то и дело приходилось поднимать это. Один раз, потом, правда, неоднократно повторенный, эта проказница, спокойно рассуждая о чем-то со всеми, степенно орудуя вилкой и ножичком над прахом бывшей певчей пташки, не дрогнув при этом ни одной черточкой лица, ни единой ноткой голоса, заключила его под столом в такие крепкие объятия и слилась с ним в таком страстном и долгом поцелуе, что он чуть было не потерял нить ее размышлений, прервать которые ей самой сил не хватало, а они и не пытались, всецело посвятив себя или тому, что было на столе, или не только этому, как Андрей, на котором она отыгралась сегодня сполна за все его будущие измены, что, в принципе, обещало ему полновесное будущее... - Но поскольку у вас, как я погляжу, все друзья остались в детстве, то поговорить я с вами, господа, мнящие себя великими план-таторами новой эпохи, хотела бы.., - говорила она при этом почти беспрестанно. - Слышите, кстати, какое загадочное само слово - хо-тела? Хотя вы-то про-мозг-ли? Так вот, поговорить я хотела о другом. Хотя все вроде бы делается по вашим, шеф, планам, как вы считаете, но это вам лишь кажется. Вы даже не подозреваете, как вовремя вдруг возникают у вас в голове эти планы, помогая лишь реализовать некие наши задумки, всего лишь зад-умки, потому что на большее мы и не претендуем, хотя можем и перед-умать! Нет, сейчас я лишь анализирую, сопоставляют некоторые факты, которые постоянно мелькают перед глазами, но ничего, кроме основного инстинкта не пробуждают в вашем хо-теле! Вы сами, разве, не заметили, что в эти годы у нас неведомо откуда появилось огромное множество красивых, просто обалденно красивых девиц? Заметили все же? А я вот хожу по улицам, ну, прямо как по подиуму какого-то конкурса красоты, сожалея лишь об одном, что у нас не жаркая Африка, где люди вынуждены ограничивать себя и в одежде, как мы - в неглиже. Да, это единственный случай, где я бы хотела, чтобы наша страна была еще беднее, чтобы нашим девицам хватало денег лишь на какую-нибудь нитку стеклянных бус, просто нитку, Стринг. Разве в каком музее, в какой галерее вы встречали нечто подобное? Такие, как у нас, красавицы, на западе просто наперечет, их сразу делают фотомоделями, кинозвездами мировой величины, поскольку такие сокровища не могут быть приватизированы кем-либо, они просто обязаны быть общенародной, общемировой собственностью, в отличие от всех остальных богатств, которые можно из социалистических переводить в капитулистические и прочие по новым курсам, ломкам линий. И я вам на это скажу однозначно, что все эти смены общественно-экономических формаций от первобытной к рабовладельческой, к монархической, капиталистической и до социалистической, потом обратно, до капитулистической происходили только по одной причине: огромное количество мужчин не могло смириться с тем, что какая-нибудь краса вдруг стала бы рабыней, наложницей кого-то одного, потом какого-то отдельного гарема, класса, какого-либо государства! Даже не буду напоминать о первой исторической войне, в которой Троя была наказана именно за узурпацию, воровство красоты! А вспомните первые намерения боль-ишаков, Онар-хистов, ана- ли, всех этих э-серых, мечты их свободнолюбимых и любящих Клар Це... ткиных?.. Карл у Клары украл... Не буду пока говорить о том, что такое красота женщины, просто ли красота, и какое значение она имеет в нашей жизни - это был бы разговор с глухими. Вы же как полоумные тысячелетиями ищете какие-то новые идеи, идеалы, национальные, гуманистические, создаете эталоны чего-либо... Слепцы! Природа сама, Бог ли создали вам этот эталон совершенства, эту идею, идеал, идеологию, наконец, критерий истины, Истину, а вы так и не поняли этого до сих пор. Редко раздастся глас вопиющего в пустыне: Красота спасет мир! - и все. Тишина! Следом на ее пьедестал возведут нечто власоногое, носоликое, трещёкое, утробокое, спуская для того новые течения, стили, на-правления, очередные Измы ваятелей, Измывательства ли над ест-ест-венной красой, чтоб только низвести ее ниц, ниже пояса, только б она не познала вдруг своей бесценности, став недоступной для ничтожеств, став мировым, божественным достоянием! Всем! Во веки век!.. Начинаете понимать, почему у нас то произошло, господа План-таторы? Природа не вынесла измывательств над красотой женщины и вашего бес-сонного соцреала, на чьи плакаты горько плакать минимум хочется в макси! В кого он ее обратил? В рабочую лошадь, кобылу Красного коня? Покажите хоть одну картину, которая была бы достойна красавиц сегодняшней России? Не блатных, не нас-ледных, не из отобранных, обобранных Арт-исток, натур-щиц, щец ли натурализма, а нас-стоящих, от природы, от бога зачатых! Простите невежество, но я не знаю таких! Даже не нашей Джокондой могут искренне восхищаться лишь гомики, восхищаться из злорадства, из мести женщине, прекрасно зная и подоплеку, и... Худо ж никак! Может, в качестве обратного примера приведете сюда одну из хладномраморных, прекраснозадых Афродит, но сотворенных в паре с Музой чаще всего неведомыми ваятелями, возможно, богами? Увы, если вы при нас и упомянете о какой прелестной нимфе, Психее, то лишь как о воплощении бесполой юности, твердокаменной девственности, еще раз уколов женщину, поставив ее на ее же место, но не на ваш, извините, п(ъ)еде-стал!.. Сволочи? Нет, слабаки! Но вернемся к нашей девственной действительности. Довели вы до белого каления Природу, Землю-Матушку, Гею своим гейским же отношением к женщине, лишенной вами всего: права быть просто красивой, даже возможности уехать, сбежать от этого, из земного плена, из рабства безысходности, - имея лишь один выход: собственной плевы, но опять не для себя, а для постовых, стоящих и в Пост на ее посту, стерегущих его словно свой собственный Post, лишь потому так свято и почитаемый: Моё! Моя мы-мра мы-ла мы-лом Ра-му Мура у Мора! Да, умора! Тома - и не одного! Библиотек, где мы почитаемы, любимы высоко, свысока ли... Архивов, где судимы теми же, казни-мы за то же, но не с ними... Увы, для познания Добра и Зла у нас ведь одна причина – Любовь! Да, в отличие от вас, чье Либидо довольствуется и лебедой, и лебёдкой, куда быстрей и проще возвышающей... Куда лишь? На следующий Пост, созвучный Post ли? Да-да, на «Шест», «Палку», с которой вы и начали, стали Человеками, продолжая свое восхождение с той поры, когда слезли с Древа Познания... В отместку, в насмешку ли она и выпустила в свет, видно, весь стратегический запас красоты на тысячи лет вперед, отчего вас, плантаторов, поллюционеров поневоле, женатых на партийных клячах, активистках с торсами Крупской, и потянуло вдруг на перемены, ре-формы. Партком ли вашим порткам стал мешать, портки ли - парткому. С общенародной собственностью на кляч вы могли бы смириться, но с тем, что тысячи красавиц стали вам недоступными, не вашей госпартсобственностью - ни за что! Как вам захотелось сделать ту красоту опять, как в Шумере, продажной, но дешевой, чтобы ваши революционерки не заметили потерь из семейного бюджета!.. Давайте, давайте, задирайте и носы, скромно тупите глазки!.. Все то не вами задумано, что вами сделано, но лишь для того, чтобы освободить наших красавиц, дать им возможность выбраться отсюда, из рабства слепцов, лишь жалящих слепней. Только для этого нужна и свобода, и права Личности, под коей вы нас даже перед зеркалом не подразумевали. Но скажите, кто больше достоин называться и человеком: та, которая может этого человека сотворить, или какая ходячая пробирка с застоявшейся спермой, многоразовый шприц? Проще скажите: почему я не стесняюсь сейчас сидеть перед вами голой, зная, что могу доставить этим только эстетическое удовольствие, а вы бы постеснялись и правильно сделали бы?.. Знаете, что меня больше всего тут бесит? А когда какое-нибудь убожество начинает бахвалиться, как богата наша страна красивыми женщинами, что они у нас самые красивые, что это хранилище нашего генофонда! Все так, но какое отношение к тому имеет то быдло, крокодил Гена и его фонд?! Как говорится, хороша Маша, да не ваша!.. Потому мне глубоко плевать, какую новую систему вы изобретете, потому что я точно знаю, что опять ничего хорошего, опять не то, не жизнетворное. Но я знаю и другое: близится такая мировая система Моно-Лиз, Матери Богов, где красота не будет вашей собственностью вообще, а женщины всего мира скинут ваш гнет, паранджи и все прочее. Если честно, ради этого я бы не пожалела и парочки-трех миллиардов орангутангов, Homo, Хамов ли, сопящих при том... Поэтому, когда вы даже повторяете бездумно его слова, что красота спасет мир, то добавляйте все-таки, что спасет она его - от вас или хотя бы не вместе с вами... Оставь надежды всяк... сюда входящий! - закончила она с пафосом, добавив шепотом Андрею, - а тебе, милый, придется никогда уже не выходить... Иного ведь выхода из лабиринта и у тебя нет, не будет – только Любовь! Сам увидишь.. Да, это я и насчет ваших философий, первичности «входа-выхода», где опять нас нет, но мы опять будем виноваты, грешны... - Браво! Бис! - восторженно зааплодировали оба приятеля, встав с высоко поднятыми чашками. - Адочка, мы только сейчас поняли, почему тебя так назвали! Это божественное провидение! - Произведение, - добавил тихо Матюша, - про изведение... - Жаль, что не Рая из Райкома? Ха!.. Что ж, свидетели гибели мужского рода, - насмешливо заметила она, - вы станете и первыми жертвами собственного Капитулизма.., но перед нами! Перед... - Милая, но ты подтвердишь, что я-то как раз почти дословно исполняю сказанное тобой, твою гениальную идею, которой мне так не хватало для завершения моих планов? - вопрошал Петрович, но думая о чем-то другом уже. - Не я ли - Семен освободитель? - Да, но тебя зря так назвали, семечко мое! - трагическим голосом изрекла она. - Оставайся лучше Петровичем, камнетесом! Не сердитесь, конечно, но как еще я могу отомстить вам, лишившим и меня будущего ради.., теперь ради Музы, с которой я вас и свела... Одна радость, что не я от этого больше пострадаю – не мне ведь выбирать, а... Нет-нет, тебе, милый, я этого не желаю и... не скажу ничего... - Ничего? Но что еще-то тут можно добавить? Не могла сказать все это раньше, ну, когда мы как бы?.. – озадачено бурчал Петрович, глядя им вслед и над чем-то задумавшись, насколько то позволяло выпитое под ее затянувшийся тост. – Я бы, может, тут совсем другое организовал, хотя ты же сама была бы против... Блин, как трудно планировать что-то на этом базаре... А, Матюша, наливай! Глава 15 Проснулся Андрей лишь наедине с головной болью и опять в комнате Надежды. Увы, и за дверцами шкафа ничего не изменилось, за исключением лишь порядка на малахитовом столике и гулкой пустоты. Но ему туда не хотелось. Он лишь достал из огромного холодильника пару банок пива и вернулся. Здесь же ему чего-то страшно не хватало. Он никак не мог этого понять и принялся искать это, пока в ящике стола не наткнулся на маленький портретик Надежды. Повесив его вновь на стенку, он успокоился и открыл банку. Взгляд ее был печальным, ей и на фото, видимо, было ужасно одиноко, хотя она совсем не осуждала его, тогда еще и не зная... Период какого-то вольного безвременья, похоже, заканчивался, и у него вновь прибавлялось разных обязательств, которые к нему лично как бы не имели прямого отношения. Все его личное куда-то вообще подевалось. Началось это с последнего письма брата, в котором тот какими-то полунамеками, недомолвками... словно бы прощался с ним. Это было год назад, и с тех пор от него больше не приходило писем... Однако, отчетливо Андрей осознал это лишь сейчас, глядя в печальные глаза Надежды, смотревшей на него теперь из страшного далеко! Когда он разъезжал в экспедициях по всему Союзу, бывал за морями, в других странах, на других материках, мир не казался ему таким огромным, как сейчас, когда он не знал, куда же она уехала, а спрашивать, привязывать свою тоску к конкретному месту тоже не стал. Не хотелось мириться с этим, сделать ее отъезд, отсутствие ее чем-то маленьким, конкретным, некой точкой на карте. Тоска его была сейчас размерами с вселенную, и пустоту души невозможно было заполнить и тысячами галактик, хотя можно было заклеить и небольшим клочком бумаги, билетом в один конец... А ведь он уже почти свыкся с мыслью, что она будет постоянно к нему возвращаться, врываться в комнату вместе с ветром дальних странствий, с радостью новой, каждый раз новой встречи, торопясь любить, пока новая разлука не распахнет между ними бездну с полмира, но которую ради любви можно преодолеть всего лишь за несколько часов полета. Он раньше очень часто возвращался и помнил, что это такое - возвращаться, даже когда тебя никто не ждет. Было бы ужасно... здорово ощущать, что ее теперь есть кому встречать, что ее жизнь будет состоять из сплошной череды счастливых встреч... Он ведь не подозревал, что одно из первых их расставаний станет вечным. Ему даже показалось, что и смерть не смогла бы так разлучить их, она бы показалась лишь подобием некой экзистенциальной черты, которую было бы легче преодолеть, просто переступив, зная, что там они будут в одном мире, в одной вечности... О брате он так не хотел и думать, пытаясь верить, что тот еще найдется, что он где-то в плену. С братом, тем более, его соединяло много воспоминаний, а вот с ней!.. Он ведь почти ничего не помнил, потому что был все время в бреду или на выходе!.. Это было почти как детство, с которым его тоже соединяла тайна, мелькающая перед глазами в виде смутных, каких-то огромных, полупрозрачных, обладающих глубиной, образов, видений... «Когда ты, Надежда, вернешься? Вернешься ли...» Потому он даже обрадовался чуть появлению Ивана, поскольку оставаться далее в этой тайне было уже невмоготу, а самому уйти оттуда, из ее пустоты было уже невозможно просто так... - Ну, что, убедился?! - фамильярно и слегка развязно начал тот, врываясь в комнату и зашныряв сразу на кухню. - Петрович тебя проинструктировал? Итак, с чего начнем? Тебе он что сказал? - А тебе? - спокойно остановил его Андрей, даже с восхищением поглядывая со стороны, как кипит тот хаотичной энергией, так и ищущей выхода - хоть куда! - Так, это не важно, это я просто проверяю, - переключался тот на ходу, поводя носом в сторону шкафа. - И теперь вообще-то не до этого... Ты, кстати, почему молчишь? Не веришь глазам своим? Ты ж теперь знаменит! Суперстар!.. Так, у тебя, что, и телика нет? Ты что, там тебя весь город уже в свои депутаты выдвигает, ну, нашими с Петровичем руками, конечно, но тебе-то хотя бы знать это надо было! Ты что? Надо ведь четко расписать, спланировать - чего мы хотим получить с этого конкретно, чтобы потом не запутаться... Тебе, что, ничего не надо или вы с Валерой это не обсуждали еще? - Нет, - усмехнулся Андрей, открывая вторую банку пива. - В каком смысле?! - недоуменно уточнил Иван. - Ты про Валеру или про что? - Да, - уже угорал про себя Андрей, но виду не подавая. - Так, ладно, - смирился тот, простукивая пальцами дверцы шкафа. - Тебе теперь, в принципе, ничего делать и не надо, тебя теперь, как поется, каждая дворняжка знает и в лапу подает... Шутка! - Иван, послушай, ты на самом деле уверен, что может что-то получиться? - с некоторым интересом спросил Андрей. - Тебе не кажется, что там уже все спланировано, решено, и остается только... - Бред! - недовольно оборвал его на полуслове тот, с огорчением отходя от закрытого шкафа. - Может, кто-то и спланировал, но не я же, не мы, то есть. В этом и заключается политическая борьба: кто-то полагает, а кто-то располагает, но выигрывают как бы всегда избиратели, которые обязательно угадают в следующий раз... - Ну, хорошо, а тебе что надо? Лично! - спросил его Андрей. - Мне? - удивленно переспросил тот и не спеша заходил по комнате, поглядывая в потолок и загибая пальцы. Спустя какое-то время он остановился и растеряно посмотрел на Андрея. - Гм, если честно, то перечислить невозможно. Мне надо очень много, почти все! В той уже системе, у меня, наоборот, ничего, то есть, всего не было, ничего не скопил, никакого Копитала, поэтому все и надо... - Не скопил? - переспросил Андрей, взяв что-то на заметку. - Ты прав, там у тебя ничего не было, значит, тебе тогда ничто и надо. Если бы у тебя чего-то конкретного не было, то тебе бы тогда это понадобилось... Сказать же так про все, не зная его?.. - Будто у тебя есть, ну, было все? - недоверчиво спросил Иван. - Да, у меня было все, что мне было надо, - задумчиво отвечал Андрей, - поэтому сейчас мне это все как бы и не нужно, если следовать логике перемен. Может быть, потому я сейчас только и теряю? - Нет, не поэтому, а просто сам виноват в этом, - пытался вставить Иван, привлечь ли его внимание. - Ты сам ничего не хочешь, вот и все.., что ты хочешь, ну, то есть, не знаешь - что... - Может, жизнь наша тут и есть череда потерь, в конце которой наступает и ее черед? - продолжал размышлять Андрей, не слыша его. - В принципе, логично. А-то абсурд получается, если ты все приобретаешь, копишь и вдруг, бац, теряешь все разом вместе с кладовкой? Зачем собирал? Может, то не потери вовсе, просто мы неправильно их так называем, считаем? В детстве мы каждый прожитый день, год считали обретением, а потом, когда их становится много, как и ценностей, начинаем считать иначе, когда жизнь поправит взгляды, и начинается твой Копитализм, Купитализм ли! Да, самого Капитализма не было, хотя были кап-затраты, капитальное строительство – и это на стройках Коммунизма! Не нытьем, так капаньем, копаньем все равно протаскивали его в жизнь! Но я о другом: вещи, явления, факты зависят от того, как мы к ним относимся, и наше, если наше, отношение ко всему - самая важная штука! Не их обличие, Аватары!.. - Может, хватит философии, а? - в нетерпении стонал Иван. - Причем годы, когда сейчас каждый час дорог!? Какое детство, если такая заруба начинается, когда с волков шкуры стричь начнут? Эти ребята, что, ради ваших идеек все то затеяли, ради каких-то идиотских прав идиотов? Ты что, сам... он? Может, веришь тому, что на митингах говоришь? Ты разве не понял, что это лишь для выборов и во время оных говорить надо? Да, часть обещанного надо выполнять, а то не изберут больше, но верить в это самому нельзя, иначе тоже дураком станешь! А стране нужны бодрые, жизнерадостные политики, иначе страна будет больной! Ты что, думаешь, кто-то из великих правозащитничков, мессий ли, верил в свою писанину, в свои речи? О ком сказали, что он любил народ, но презирал каждого его отдельного представителя? В политике правды быть не может! Этого ничего быть не может, потому что политика - улаживание противоречий, а, значит, там правды, истины быть не должно! Разве то правда, если примирить два суждения, где снег и черный, и белый? Чушь! А ты – кто: истина или политик, ну, лишь некий Аватарчик, физио той, якобы? - Если так, то наше отношение ко всему - чрезвычайно важная вещь! - продолжал Андрей после некоторых раздумий. - От этого зависит все, весь мир, имеется в виду мир людей, конечно. Это ведь мир наших слов, создаваемых нами форм, наполняемых нашим же содержанием. Этот мир мы сами создаем, конечно, все вместе, но для себя-то можем только сами? Ну, должны, хотя и навязывают... Стоит ли тогда свои неизбежные потери и называть потерями, а не просто разлукой, не просто тем, что осталось за поворотом нескончаемой дороги? Надо ли и приобретения так возвеличивать, стремиться к ним, страдать, если один день вдруг без строчки? Что она добавит, если выдавишь ее из себя, как из тюбика, чтобы нарушить глупое правило, если она сама не попросится, не вырвется из тебя на волю?.. - Почему глупое, если за простой, за пробел не платят, не платили? – удивился Иван. – «Правда» каждый день выходила, и не с одной строчкой? Ни дня без «Правды», даже при Гайдаре! Хотя, да, в итоге, может, и выговорились, довыдавливались, особенно этот, Говорунов наш... Решили тему сменить, ну, или взгляды хотя бы на то же самое, для чего якобы Гласность и ввели, на которую можно все списать... - Мир людей, если разобраться, абсолютно отличен от мира материи, - продолжал Андрей, - и горе, если мы в нем начинаем жить по законам, правилам материального мира, по их подобию. От этого, видно, и происходят все наши бытовые трагедии, революции, войны, когда наши понятия из разных миров вдруг входят в неизбежно неразрешимое противоречие при попытках их объединения. Частично ведь мы живем нормальными человеческими понятиями, а частично нас вынуждают жить понятиями мира бездушной материи, которые никак не свести в одно целое. Единственный способ их развести по разные стороны баррикад - смерть, потому она и начинает властвовать в периоды наибольших противоречий. Смерть и есть баррикада! И если в эти периоды кто-то еще больше уделяет внимания материи, источнику наших бед и страданий, то это неизбежно приведет к катастрофе! Да, это ведь то же самое, как перед смертью вдруг начать цепляться за жизнь, что выглядит просто паскудно!.. О чем ты сейчас говорил? - Ты что, не слушал? - обиженно спросил тот. - Я тебе пытался втолковать дело, понимаешь? Де-ло! Тело жизни! - Понятно, - скептически произнес Андрей. - Я тоже о нем... Мне кажется, тебя зовут не Иваном. Ты скорей из тех народов, где главный вспомогательный глагол, без которого они жить не могут, - глагол делать, “Do”, но «Ду» почему-то – не До! У нас же вспомогательный глагол, пожалуй, один – «Быть»... - Ага, я бы, да кабы! - ехидно рассмеялся тот. - Так с вами опять всю жизнь только и прособираешься жить, лишь бы быть! - Почему опять? - удивился Андрей. - Потому что полжизни уже прособирался! - зло процедил тот. - Сейчас вроде решились за дело взяться, но, чувствую, еще полжизни моей мы только собираться будем, потому что у нас именно «будем» - главный глагол. Делать никогда не начнем, пока хотя бы в грамматике не введем главным вспомогательным глаголом - делать! - Ну да, - весело согласился с ним Андрей, - кое-где уже ввели. К примеру, сделать ноги, сделать дело, вид, наше ли извечное "что делать-то?"... Что бы еще такое придумать?.. - Вот-вот, придумать! – гневно воскликнул оппонент. – А что придумывать, зачем вы, вообще, думалки, нужны, если все давно уже придумано, даже проверено на неоднократном опыте, который для вас, кстати, критерий истины? Ну, по философии... По нашей философии, кстати, материализма, где материя, вещь – это единственное реальное! Вещь, товар... Странное, вообще-то слово... - Почему странное? – пожал плечами Андрей. – При товарищах, в груде дел, в суматохе явлений, мы ведь только и жили «Делом», точнее, «Делами», миллионами «Дел»! Вся жизнь была их кровавым порой конвейером... - Да вы хуже той номенклатуры в тысячи раз! - закричал на него тот. - Она хотя бы называла себя материалистической, то есть, деловой, хотя по другим делам, да, но и теперь, как я посмотрю, уже делом занялась, трибуны уступив вам, хотя сама еще не разрешала другим этого делать, еще не дала добро, не объявила о переходе с «Капитала» теоретического на практический! Да, хотя бы в «Казино», типа, мол, шутки ради, игры какой... А вы? Собрались якобы капитализм строить, Капитал зубрили, а о чем рассуждаете? О Деле? Нет, вы даже краснеете при упоминании об этом слове после Гласности! Хотя почему после, если вы только и говорите о Парла-Ментах, о Свободах Слова, Гласности, Свободах тех же Демонстраций, Митингов, любимых Собраний, той же Совести, но лишь без Ума и Чести? О том же самом! Партию лишь на Части разменяли, поменяли, и-то не понятно, какие: спец-часть, мед-часть или вообще воен... Чур-чур! Кыш! А как делать, так сразу – «Что?!»... Что-что, делить, на части, чтобы и получить частное! В огороде – Бузина, Business ли, но «Без Нёс», якобы... Черт, да что еще-то от несунов ждать?.. Вот же связался! И все потому, что связистом работал, наверно... - Извините, но я вас не приглашал, - пожал плечами Андрей, кивнув на дверь, - и тоже не знаю, что вы тут делаете... Я – не при делах! Не по этому делу! Это и не мое дело! И какое вам дело до меня, до нас? Нам на ваши дела... - Нам? Нас? А тут кто-то еще есть, кроме вас? – заволновался тот, озираясь, и, наконец, понуро ушел, но все-таки попытавшись это сделать через дверцы шкафа. – Ладно, хоть ноги сделаю... А ведь, действительно, Андрей совершенно не знал, что ему делать. Непрерывная логическая цепочка научных изысканий, где, кроме истины, никакой иной цели и не требовалось, неожиданно прервалась. В политике, где он тоже неожиданно оказался, он вполне мог поспорить о том, что было неверно, поскольку неверного до сей поры столько накопилось, что надо было изменить, переделать в стране, по-научному, досконально разбираясь и в экономике... Но, как только заканчивались эти общие споры, он терялся... Что лично ему нужно было в политике - он не просто не знал, но и привычно не думал об этом, хотя в их маленькой партячейке его сразу заподозрили в карьеризме, в стремлении возглавить ее, хотя у него и мыслей таких не возникало - он просто не мог не быть лидером в дискуссиях, чаще в монологах, которые для большинства никакого интереса сами по себе не представляли. Большинству его соратников достаточно было доверять нескольким лозунгам, слоганам, тезисам из Ее партийной программы, которая тоже из них одних состояла, из выступлений на их Съездах, из ее газеты, донося их на митингах до народа, но так же смачно, как и Она, чтобы того пробрало до глубины души, вывернуло наизнанку, и обратно завернуло... за уши! Все! И их толпа, ну, народ как раз и слушал, и воспринимал сердцем, глубинами душ, а не просто ушами. А, вот, когда он переходил от красочной критики старого или от щедрой раздачи грядущих слонов, дележа самой большой медвежьей шкуры - к рассуждениям о новом, необходимом, требуемом опять и от них самих, его вдруг переставали слушать и ушами, начинали зевать другим органом, тоже расположенным по соседству с мозгами... Но последние, увы, и за предшествующий многословный теле-период уже привыкли воспринимать все подобное либо сугубо критически, даже антагонистически, как и сами ораторы Гласности, либо автоматически отключаться, раз с телевизором так поступать было еще не принято в целом, ну, когда то говорилось по всем каналам... К тому же, думать их никто после школы не заставлял, отнимая тем хлеб у целой партии, только этим как бы и занимавшейся на своих рабочих местах, за зарплату... Нет, в толпе обязательно находился кто-нибудь, из той самой партии, ныне безработной, не задействованной на чужих митингах, да и на своих, которые они уступили другим, кто узнавал знакомые слова, идейки, понимал все, но вслух, из вредности хотя бы был яро не согласен с каким-либо его небесспорным утверждением типа «И вам, нам, вот, надо то и то сделать...» - не общепринятое уже «Вот и вам то, что и нам, что вам и надо» - и тут же, на непререкаемых правах народа начинал яростно с ним спорить, отвлекая на себя внимание... И когда к его доводам, к нему самому пропадал личный интерес толпы, он и сам переставал понимать - а зачем это все ему надо? Пробивать в жизнь то, что считаешь лишь набором слов, благих намерений или хотя бы заблуждением, да еще и бороться за это? Согласиться на это, если даже в науке, в геологии особо, он порой не мог понять, принять тех, кто упрямо, невзирая на факты, аргументы, отстаивал правоту целой научной школы: старой, новой ли - не так важно? Он-то мог принять отдельные положения и той, и другой, если они казались, были правомерными. Что уж говорить о политике, где основными критериями правоты были вера, точнее, верность, преданность своей партии, точнее, вождю, вожаку.., что весьма быстро переняли и новые деятели, порой даже партии называя своими именами, хотя и не без выдумки, не без изюминки? В качестве аргумента истины нынешними ораторами приводился и легко воспринимался какой-нибудь левый фак-тик, примерчик из жизни, прежде, наоборот, противоречащей всему говоримому с экранов... « Капитализм?.. Охотный ряд, Охотный ряд, Ох!..» Это ж Песня! Но все это, конечно, было потом, хотя он и сейчас уже это предчувствовал, но, не во всем доверяя своим чувствам, догадкам, привычно хотел во всем убедиться сам, сполна, чтобы уже не оставалось никаких сомнений... Увы, и это было лишь оправданием, но ничем другим объяснить многое из последующего он не мог. Не чьей-то же чужой волей, не массовым же безумием толп, в которые вдруг обратился и весь народ, вдруг лишившийся какого-то внутреннего стержня, основы – лишенный ли их сознательно... Глава 16 - Все, победа! - торжествующе заявил с порога Валерий. - Прокурор тоже не согласился с решением суда, точнее, с его наличным отсутствием. Мы, действительно, враги, отщепенцы, недобитые диссиденты и прочее! Мы сорвали их демонстрацию, плюнули в лицо всей их партии и тому подобное! Это он скажет, напишет в интервью, и надо не прозевать. По телику уже кое-что из того огласили, но... совершенно незаслуженно почти все это приписав тебе... - Валера все же уболтал тогда прокурора, договорился с ним как бы, а вся слава - тебе! - с укором поддержал того и Петр. - Нет, все, конечно, партии достанется, но все равно не очень справедливо, признай? - сдерживая возмущение, сказал Валерий. - Например, если бы распяли Христа, а объявили им повесившегося Иуду, то как бы ты расценил это? – спросил Петр набожно. - Верующие и верят тому, что было сказано, написано для них, - равнодушно заметил Андрей, - для чего вера и существует... Да, в том числе, вера в партию, о которой ты мало что знаешь, ну, или знаешь такое, что остается лишь верить... - Нет, я согласен, что это придумал ты, хотя и непонятно – для чего, - настаивал на своем Валерий, - раз согласился с решением суда! - Ты считаешь, что мы были не правы, не имели на то права? - спокойно спросил Андрей. - Разве не важно, что и суд вдруг, хотя и неожиданно, решил нас судить по праву, а не по их закону, указу? - Их суд не может так судить! - возразил тот категорично. - На то есть божий суд, – добавил Петр, - наперсточники!.. - Хитрая политика: ты и лавры пожал с моего скандала, мнения, и при своем хочешь остаться. Не замечаешь противоречия? – спросил вкрадчиво Валерий, споря уже и с газетами как бы... - Но если он собирается избираться, - с сомнением как бы спросил Петр, - то ему, вроде, и нужнее? Понятно все... - А вы, что, уже не собираетесь? - спросил Андрей. - Нет, мы не можем заседать в одном зале с преступниками, с коммуняками, признав этим и их права, согласившись с их существованием! - гневно отверг Валерий, скромно добавив. - Так сказала Она! Мы пойдем и дальше гражданским путем... – путем Ганди! - Путем Ганди, в подавляющем меньшинстве? Куда пойдем, если идти придется в одной, общей с ними стране, которую они за время нашего ментального исхода превратят, уже начали превращать в такое, где я и во сне не хотел бы оказаться? - загорелся Андрей, возможно, чувством противоречия. - Не через пустыню пойдем и не в некую землю обетованную, только и ждущую нас одних где-то? Да, это ведь привычный вам, как ты и говорил, Исход, а отнюдь не гражданский путь среди кучки чужаков, хотя и... Исход! Из!.. - А ты куда собрался? К своим?! - обличительным тоном вопрошал Валерий, как с трибуны. - Одной толпой с коммуняками - туда, куда их большинство и поведет, ведет уже? За этими лжепророками, которые пути искупления, через пустыню раскаяния предпочли круиз в шумной компашке, кто уже за своими красными словцами перестал видеть реальность, уже купился на роскошь пока что безнаказанной болтовни? Сам говоришь, что за спиной тех слепых поводырей, болтунов, отвлекающих внимание народа, те творят совсем противоположное? Или не ясно, что поводыри те нужны лишь для того, чтоб на них потом и свалить всю вину за содеянное теми в их тени, навсегда подорвав доверие людей к самой идее, к возможности перемен? Эти ж сволочи, уже не зная, чем еще можно оправдать себя, плачевные результаты своего бездарного правления, решили вдруг показать народу иной строй, но в таком обличие, что тот лет через десять согласится и на Гулаг опять, и на тирана, но только не на это! Но козлами отпущения будут эти болтуны, кому и доверия быть не может и не будет больше никогда... - Сахаров, может? – хмуро, даже гневно спросил Петр. - Сахаров?! Разве не этот народ недавно был готов разорвать его, втоптать в грязь?! - почти кричал Валерий. - Причем тут Сахаров, если я о народе говорю, для кого нет пророков в своем, ну?.. - Валера, я и не спорю, мне и нечем тебе возразить, я и сам так прежде думал и думаю, - сокрушенно рассуждал Андрей. - Все так и будет, я уверен, потому хотя бы, что все и делается сверху, по их уже тайному плану, ради достижения их целей! Ясно, что это никакая не революция, а лишь переворот среди своих, лишь новый курс, но не партии, а некой кучки, намеченный уже и для неорганизованной без той партии толпы, какой и станет страна, и теми как раз, кто должен был бороться с подобным, почему бороться с этим и некому будет, и никто не борется – они даже помогают нам, тем самым козлам отпущения... Все почти ясно, какую бы дымовую завесу Гласности они не напускали! Но почти, конечно, поскольку им и самим не ясно, что у каждого из них, у каждой кучки, службы получится, поскольку их слишком много. Так было и в феврале, после отречения царя, да еще и в хаосе войны, и после внезапной якобы смерти одного Сталина, но после которого остались Берия, Жуков, но и партия все же. Ныне же не одного и не внезапной, а почти по программному алгоритму Смерти! Потому почти все, что в их силах, им подконтрольно, они спланировали заранее! Но... почти! Не забывай внешние силы, этих Маргарит, тут же примчавшихся на поминки на метле из вражеских кущей со своими нескрываемыми планами... И что в этой ситуации делать нам, у кого реально нет ни сил, ни средств, ни опыта, ни влияния, ни опоры в массах, и, главное, кому они уже отвели место, роль во всем этом, написали даже слова? В том числе, и эту роль, этот путь, о котором она говорит: «Неучастия во лжи»! Во всем, если точнее, поскольку все - ложь! Ту роль, которая отведена ими и для народа, для большинства статистов, в том числе, и их партии топтунов - протестующих где-то в сторонке, на запасном гражданском пути, в тупике!.. Что в этой ситуации делать, если что-то делать вообще, но реальное? - Стать той паршивой овцой, которая все стадо за собой?.. - заметил с усмешкой Петр, пристраиваясь поудобнее в кресле. - Нет, Петр, - перебил недовольно, но неуверенно Валерий, - тут он отчасти прав, но отчасти... Как нет у нас поддержки в массах, если нам и им хотя бы отведена одна и та же роль? Противоречие! Только они ее бессознательно принимают, а мы осознано выбираем! Наш гражданский путь – не в тупике, а среди большинства таких же, где мы и должны работать, создавать ячейки гражданского общества, сопротивления и прочее? Свободные от лжи, мы можем подать и им пример этой свободы... Если же они не осознают себя свободными, то они и не будут добиваться этой свободы, не зная, что это такое?.. - Путь народовольцев, короче, но которые ни в чем больше и не могли участвовать, кроме, конечно, духовной сферы, культуры, - улыбнулся Андрей. – Но к чему он вел и к чему привел? К социалистической революции, если в общем, до 30-го, хотя куда большую роль в том сыграла война, ну, и опять внешние силы, средства... За Февральскую страна даже не зацепилась! Но мы-то сейчас говорим не об Октябрьской, не о социализме? В Индии же борьба шла против внешних сил, которые были врагом всех внутренних, которые Ганди и собрал, и сплотил на время на том Гражданском пути, по которому вся страна нация, и пошла босиком мимо буржуев-колонизаторов! О каком и чьем гражданском пути и куда, о какой буржуазной, рыночной свободе говорим мы сегодня в стране пролетариев, колхозников и служащих, с незримой лишь кучкой теневиков, в основном, по республикам и тюрьмам? Нет ни буржуев, ни люмпенов! После такой перестройки появятся, да... И что, это и есть цель? Чья лишь?.. - Почему нет? Почему не помочь им организоваться? – с усмешкой спросил Валера. – Сорок лет как раз хватит... - Ну, да, они все рванут за помощью к тебе, к нищему хранителю заклинаний о Золотом Тельце, на твой запасной путь, где и броневичка нет! - сочувственно взглянул на него Андрей. – Увы, дорогой, или к богатому дядюшке Сэму, или же, если тот не примет открыто, то к потомку не Ганди, но тоже как бы арийца... - Договаривай, договаривай! - язвительно бросил Валера. - Зачем? Ты и сам знаешь, - буркнул Андрей, - что это опять становится проблемой в мире, запутавшемся в паутине своих гражданских и прочих путей, откуда сонные, как мухи, нации неизбежно начнут искать выход. Но то не наш выход – менять шило на мыло! Коммунизм и фашизм – все же разные и понятия, и реалии... - Нет, скажи прямо, что и для тебя еврейский вопрос - это реальность, что ты только из ложной скромности не говоришь, не договариваешь, - настаивал тот на своем, - что у тебя возникают сомнения лишь потому, что даже коммуняк ты ненавидел за то, что среди них вначале большинство было евреев, ну, как и мы, как и Она! Зачем вранье сейчас, когда решаются судьбы? Все равно ведь, если сейчас это не признаешь, замолчишь, то потом всплывет, придешь к этому! Да, потому что это один из главных вопросов всей истории, и мы это знаем, но не говорим вслух для дураков. Один из главных, потому что мы действительно сильная нация, стоящая многих других, с чем слабаки не могут смириться. Мы вам даже нужны, потому хотя бы, что иначе было бы не на кого валить плоды вашей лени, глупости. Иметь нас очень удобно! Мы и так вечные козлы отпущения, кем вы себя лишь мните! Потому, может, меня и удивляет, даже бесит, что ты тоже среди нас – нашим обличьем! Мне лично плевать на то, потому что все равно так и случится! И было бы глупо не совершить на самом деле государственное преступление, за которое нас потом все равно накажут, наказывая до этого и просто так. Только зачем это делать тебе, если тебе то не грозило? Если хочешь добиться, чтобы тебя выслали, а там приняли с распростертыми объятиями, то понятно еще, хотя уже поздно. Поезд ушел! Но я не вижу другой причины идти тебе на крест с нами, потому что даже вторым Христом смог бы стать опять только еврей! Да, потому что вы своего, если и заметите, если и распнете, то мигом забудете или высмеете перед тем и после того. У вас и одного апостола не найдется, чтоб отдать свою жизнь ради прославления кого-то другого – только себя! У вас прославлены лишь те, кого прославили мы, потому что мы способны на это. А для вас радость соседа - это горе, и наоборот. Или не так? Заметь, я совсем не осуждаю этого! Это не ваша беда, это ваша особенность, из-за чего вы и в рабстве можете легко оставаться независимыми личностями, поскольку внутри себя не признаете, презираете своего хозяина, как и любого соседа. Неблагодарность - это ведь с другой стороны гордость, самолюбие? Вам, ну, скорее, каждому из вас по отдельности можно и позавидовать, поскольку вы - самодостаточные, свободные личности и в нищете, в унижении, в бесправном государстве, каким и ты был в науке хотя бы. Не так, как писал Солженицын о вашей науке, не о тех ли! Но, зато, вы - не народ, вы - не нация, как мы! Другие! Потому мне не понятно, зачем тебе лично все это, что меня и бесит! Не скрываю даже! Иначе, чем умыслом, могу объяснить лишь глупостью. Если ты мне сейчас не веришь, то вспомни мои слова лет через десять-двадцать, стирая со спины плевки соотечественников. Ну, в том случае, если ты искренен, во что я не хотел бы верить именно из хорошего к тебе отношения. Я понял бы еще, будь ты полукровкой, как Жирик, но и это тебя не спасет, если сам ты того не будешь знать. Или в вас – столько крови, что не важно?.. Мы сильны лишь тогда, когда знаем - кто мы, почему я уже доволен, так как стал самим собой, стал одним из нас, наконец! А вы вообще всегда, везде были самими собой, вам для этого надо лишь иметь собственное наличие, и для чего вам все это - я не понимаю! Ведь вы от всего этого, мне кажется, я даже уверен, опять вообще ничего не получите, кроме потерь, хотя вам и на это, похоже, глубоко наплевать... Разве, не так? - Не знаю, для меня лично той проблемы никогда не было, да и нет. Перед вашим приходом как раз думал, что потери - это, может, не так уж и плохо, - усмехнулся Андрей в ответ. - Важно научиться правильно их воспринимать, что тоже может стать приобретением и от всего этого. Скоро почти полвека, как мы ничего не теряли, беспечно проживая на просторах огромной Империи, богатства которой с избытком компенсировали нашу личную относительную бедность. В принципе, мы понемногу, но только приобретали: и общее, весьма значимое для нас, для каждого, и каждый - свое. Да, многого не имели, но и сравнить было не с чем, не с кем. Но, не теряя, мы, может, перестали ценить и то, что имеем. Возможно, поэтому период потерь и должен был неизбежно наступить когда-то. Нет, не для того, чтобы, пожалев, наконец, мы оценили то, что имели, имеем. Подозреваю, что лишь для того, чтобы научились правильно оценивать и сами потери, как, например, некое освобождение от чего-то, возможно, совершенно лишнего, лишь кажущегося нужным. И будь тех потерь даже слишком много, мы, может быть, и привыкнем к ним и спокойно сможем жить только тем, что теряем, включая... и саму жизнь... - Ну, это какая-то философия безысходности, - равнодушно заметил Валерий, словно потеряв интерес и к беседе. - Скажи лучше, что собираешься делать дальше? Ты - с нами или как? - Дальше? - с улыбкой переспросил его Андрей. - Терять. Ты ведь сам назвал нас вполне самодостаточным народцем, которому, возможно, позволительно жить, и теряя? Кроме себя лишь! - Это уже твоя головная боль, - отмахнулся тот было. - У меня другая философия. Если я что-то лично и теряю, отдаю свою десятину, а то и все, то это все равно останется в моем народе, который и этим приобретает. Да, Петр, как в твоей Библии почти! Вам этого не понять. Но мы, кстати, и свои потери ценить умеем! Ни один из народов так не помнит своего холокоста. Для вас и война помнится лишь как победа, вы и сталинские времена вспоминаете, как индустриализацию... Поплакались в Гласность - каждый о своих потерянных - и забыли... Тут ты, видимо, прав, вам надо бы научиться терять, ценить это, но бесполезно, я думаю. Для вас потери и так ничего не значат на самом-то деле, вы и это умеете. Вы даже жаждете этого, зря что ли раздаются голоса за возвращение Сталина? Думаешь, каждый не понимает, что это и его может коснуться? Уверен, что понимает, но и это его не страшит совсем. И наговаривают на вас зря, что жили вы тогда в страхе! Не верю! Пели и плясали! Очевидно, это одна из главных ваших национальных особенностей, которую вы, действительно, должны вспомнить, осознать, научиться ценить осознано, в чем ты прав, может, но... Но то, что вы разучились терять за полвека - это твое заблуждение, неправильная формулировка проблемы. И не умели! Полвека - ничто для тысячелетних наций... Вот так, в итоге и получается, что мы умеем ценить свои потери, а вы умеете терять... - Наверно, - согласился Андрей. - Может, соглашусь с тобой еще раньше, чем мне заплюют спину. - Лучше бы вместо, - пошутил Валерий. - Но ты не ответил? - Нет, Валера, - серьезно сказал Андрей, - ты все-таки не зря сказал: и... свои потери. Какое-то "и" нужны и мне, видимо. Если мне безальтернативно и привычно предстоит терять, то это уже не интересно. И, если меня и так ждет наказание, то почему бы и мне не совершить то преступление? Все это, конечно, шутка, но я, ей богу, никогда в жизни не выбирал: делать мне что-то или нет. У меня интуиция мышления давно уже слилась с логикой действий в одно целое, поэтому выбирать я буду лишь средства... Мои или нет! - Цели у тебя своей и так нет, - скептически заметил Валера, тормоша Петра, - ты впрямь этот, чей-то Аватар, не знающий – чей! - И до чего вы договорились? - немного ошалело спросил Петр, вскакивая с кресла. - Остались при своих баранах? - Нет, каждый - впереди своих, в свой овраг, Петруччо! - рассмеялся Валерий. - У нас, похоже, сколько будет политиков, столько и других путей, если даже братья ходят по разным. Это тоже уже, правда, общая особенность нашего многонационального народа, которому, естественно, со столькими миллионами собственных дорог в одной Европе неизбежно стало бы тесно... Не дойдем мы туда и сейчас... - Вообще я давно понял одно, - озадаченно почесал Петр затылок, - если пытаться решить что-то в разговоре, то это лишь словами и закончится. Единственный выход - встать и пойти на улицу, где все разрешится само собой, поскольку там появляются дополнительные факторы, степени свободы или просто всезнающие советчики. Туда не стоит ходить только в единственном случае, но этот - не тот... - Да, там не надо топтаться на одном коврике, - согласился Валерий, с готовностью, как-то чересчур торопливо надевая ботинки. - Там есть хотя бы перекрестки, - согласился и Андрей... - Знаешь, почему я хотел это сделать на лестнице? - сказал ему Валерий, когда они спускались вниз. - Показать тебе, что не подъем твой, предстоящий тебе вскоре, разделит нас... - Понял, - сказал Андрей, - хотя и не считал то подъемом. - Все так говорят, но ты просто не знаешь, что за болезнь такая - власть, - насмешливо сказал Валерий. - Больше всего ты удивишь, если не заразишься горной болезнью, от которой у нас нет иммунитета. Пока это удалось лишь одному человеку, да и тот был богом... - Выходит, что мы расстаемся врагами? - хмуро спросил Петр. - Петр, а какими мы можем быть друзьями, если их любая власть для нас - враги? Мы ли – для нее! - слегка злорадно спросил Валерий. - Или я не прав, Андрей? Или мы должны делать вид, что это лишь игра? Для меня это не игра, это борьба насмерть! Нет, я не анархист, совсем даже не анархист, но их потемкинской демократии я не признаю никогда, да и нечего будет, мне кажется... - Наверно, я бы тоже мог сказать, что для меня это не игра, а немного другой предмет исследования, что для меня привычнее, но это будет слабым утешением, - натянуто говорил Андрей. - Это все же не моя борьба, с этим я согласен. Если честно, я почему-то и не вижу причин, поводов именно для смертельной борьбы. - Ну да, ты ведь еще не ушел из той системы, ты лишь на время вышел, отошел в сторону, - говорил, все-таки задетый чем-то, Валерий. - У тебя пока, кроме идейного несогласия, нет причин ненавидеть ту систему, всю ту жизнь, в которой ты умел быть псевдосвободным из-за того, о чем мы говорили, да и давали вам, ученым это. Ты - не в Индии, и они для тебя - не англичане. У тебя, может, нет в этом личного интереса, нет и личных счетов с теми, в чем и заключается непреодолимая разница меж нами. Я ненавижу, а ты просто не принимаешь, как ложную конструкцию. Я хочу свергнуть, а ты готов видоизменить, улучшить. Но сам ведь знаешь, что получится, если отрицаешь ложь? Разве истина? Нет! Но русскую интеллигенцию и большевики, сам знаешь, кем считали. Но они лишь не понимали или недоговаривали то, почему она такой была, почему не могла быть иной. А я и говорил ведь, что только мы, евреи, могли и можем быть настоящими революционерами, а для вас, для скрытых даже традиционалистов, вряд ли приемлемо то, что сейчас является потребностью всего мира, что выше узко национальных интересов, в том числе, и нашей нации, да. Разве не так, разве выживет какая нация, если мир загнется? А он уже загибается, он же в очень уютном, но в тупике! Но открыто обо всем этом мы почему-то стесняемся говорить, и эта наша якобы революция тоже является революцией недомолвок, намеков, а точнее - лжи, неопределенности, в чем ее главная особенность, какой ее и начал Горбачев, человек «слова», трепа. Наверно, то потому, что не сам народ все то говорит, а мы, но мы его как бы стесняемся, по привычке хотим хорошими казаться, получить хорошую оценку. А правда сейчас ужасная, страшная, и ею никого не вдохновить, не привлечь на свою сторону, почему, естественно, врут сейчас не только у нас, а везде! Врут Америка, Европа, Азия - все! Врут те, кто хотел бы спасти мир, потому что за правду его не выберут! И ты будешь там врать, хотя бы не договаривать... А мне лгать не хочется, надоело и молчать! Так что, прощай! Удачи не желаю, я не враг себе... - Пока, - растерянно спрятал Андрей руку в карман. - Возразить не могу, хотя и хотел бы. Лгать тоже не хочу... Посмотрим... - Все же пожелаю тебе, - произнес Петр, вжав голову в плечи, - чтобы ты не возненавидел так, как он, ну, и как я, наверно... Я, правда, не умею, не хочу ненавидеть, но не получается... Ладно, пока... Глава 17 Выйдя из подъезда, те, резко развернувшись, торопливо пошли влево, а Андрей, потоптавшись на месте, направился вправо по улице, на полпути встретив эсдека Илью, председателя местного клуба «Демократ» и вольноопределяющегося двухметрового блондина Юру Цыганова, как-то нерешительно топчущихся на углу трехэтажного, кумачово-, хотя, скорей, сургучно-красного, цвета печати, здания горкома, может, уже некрополя КПс-с... - Никак тоже в избирком? А мы, вот, решили им репутацию сперва подмочить, – пояснил Илья, озадаченно разглядывая стену, от которой отвалился или кто отвалил кусок штукатурки, обнажив на срезе несколько разноцветных слоев краски: желтой, белой, голубой, ну, и сургучной. Отколупывая ногтем верхний слой, он спросил вдруг с многозначительной усмешкой. – Ну, и какой будет следующий? - Штукатурка не выдержит, - заметил Андрей, пробуя отковырнуть ту ключом, - перекрасить не удастся – менять надо систему... - На нашей территории можно спокойно разместить сразу несколько систем, которые не будут даже пересекаться, - фантазировал системщик по натуре Юра. – Для информационной, кстати, системы даже дороги не обязательны – наши сойдут. В принципе, ее можно было создать и без всех перестроек старья! Без дураков! - На ней, на кибернетике и споткнулись в восьмидесятых, запоздало осознав, что наука – интернациональна, а не только братская помощь врагам, - заметил Андрей, пряча ключ в карман. – Хотя у нас и было сразу несколько систем, спокойно и пересекающихся в четырехмерном пространстве, в некоторых узловых зданиях, например, в гастрономах, где тоже было всегда два входа: черный и парадный... - Почему было? Тут – одна, за стеной – другая, - простукивая уже отверткой стену, сказал Илья, зацепив вдруг один из кирпичей... - Я и про информационные, которых у нас тоже несколько, - заметил Андрей, - а разрушать те пытаются одну, сов-местную... - Может, в дверь попробуем войти, - предложил Юра, - если приспичило? Мне кажется, сейчас никто не станет возражать. Хотя проще зайти с тыла и... В Голландии это делают прямо на улицах... - Так Голландия же? – не удивился Илья. – Плюрализм... - Илья! Ты куда пропал?! - услышали они, едва зашли за здание, чей-то запыхавшийся голос, обладатель которого, Буяков, одетый в строгий костюм под распахнутым пальто, в галстуке поверх мокрой рубашки, тоже присоединился к процессу, продолжая говорить. - Я тебя по всему городу ищу, потом уже почти весь истек... - Однако, не весь все же вытек... потом, - заметил Илья, кивнув головой на темнеющую перед ним стену. - Так, остановиться на минуту было некогда... Срочно нужен. Фу-у! - пояснил тот, наконец-то переведя дыхание на задний ход, но вдруг испуганно вытаращил глаза на кумачовую с этой, теневой, особенно с влажной стороны стену. - А, это что, Горком что ли? Блин! Меня ж за это, могут того!.. Я ведь одного дня еще не доработал тут до конца... А, плевать, тут, оказывается, даже окон нет, - успокоился он, в дополнение ко всему и впрямь плюнув на стену... - Вот-вот, теперь плюрализм везде!.. Ну, и что, ну, нашел ты нас?.. - напомнил ему Илья. - Есть, кстати, правило, что если хочешь что-то найти, то лучше попробуй это как бы, наоборот, потерять... - Ну, не вас нашел, потому что тебя лишь искал, - с сомнением поглядывая на остальных, продолжил Буяков, поправляя галстук, рубашку, застегивая пиджак... - Ты не все пуговицы застегнул, - подсказал Илья, настаивая на своем. - Ну, а зачем ты нас... нашел? - Простите, - извинился тот, воспользовавшись подсказкой, и застегнул верхнюю пуговку на рубашке. - Да, так можно и голову потерять... А нашел я вас потому, что ты срочно нужен... - Я не про эту пуговицу сказал, - настаивал на своем Илья, не сходя с места. - И зачем мы вам срочно нужны? - Спасибо, - извинился тот, вновь воспользовавшись подсказкой уже под пиджаком. - Да, так можно и членство потерять, такая суета началась... А нужны вы затем, что с тобой второй секретарь хотел переговорить. Кстати, вот вам ключ от кабинета 103, где он тебя и ждет... Блин, наверно уже часа полтора... Представляю! - Ты что, его ключ забрал? - удивился Илья. - Нет, это ведь твой ключ теперь, - успокоил его тот, хотя ключи так и не передал пока. - Дубликата нет, поверь! - То есть, я могу его или выпустить или... мы хотели еще поесть сходить куда-нибудь? - подмигнул Илья приятелям. - Твое, дело, ведь кабинет твой теперь, твоего клуба "Домкрат демократии", то есть, - пожал тот плечами. - Но неудобно как-то, он срочно хотел переговорить, а я уже часа полтора искал тебя... - Так, кабинет 103, значит, мой, - начал логически размышлять Илья, - и в городе кабинетов 103-х наберется штук, наверно, немало... Если бы ты еще адрес сказал, то я бы хоть знал, кого благодарить... - Адрес? Тогда надо с той стороны зайти, - потирая в задумчивости лоб, направился тот в указанном направлении. - А благодарить можешь самого, ну, первого. От адреса ничего не изменится... - А здесь ты, что, не можешь вспомнить? Или ты решил над вторым еще поиздеваться? - напряженно спрашивал Илья. - Ты шутишь? - изумленно, с испугом даже в глазах спросил Буяков, разглядывая фасад Горкома. - Странно, на этом доме таблички с адресом нет... Так, подойдем к тому, может, я ошибся?.. Сказав это, он быстро зашагал к соседнему одноэтажному зданию, которое было еще в прошлом веке построено под резиденцию генерал-губернатора, отчего в глазах Ильи затеплилась какая-то историческая грусть, и он поделился с приятелями теплой улыбкой надежды, но все еще недоуменно пожимая плечами... - 46-й! – первым на месте оказался, понятно, Илья... - Так, если это дом 46, то, значит, тот - 48-й, но я что-то сомневаюсь, не внушает эта цифра доверия, ни то ни се, ну, не юбилейная какая-то, - озадаченно размышлял их поводырь. - Кто-нибудь видит, какой номер на том доме, который за этим, да, там внизу? - 48! - громко крикнул Илья, сбегав вниз по проулку к тому дому, уже слегка наигранно улыбаясь приятелям. - А что, тоже ничего! Садик во дворике уютный такой - партсобрания летом проводить... - Значит, тот и будет пятидесятым! Точно! - уже без сомнений сказал Буяков, вновь устремляясь широким шагом к зданию Горкома. - Может, сначала зайдем, посмотрим, ну, выпустим второго, а-то неудобно? Ведь еще минут пятнадцать прошло, уже не полтора часа. Потом уж и поблагодарим первого? - догнав его, предложил Илья. - Так я потому и спешу! - вновь начиная пыхтеть, ответил тот. – Как я забыл!.. Он меня точно убьет из-за тебя! - Ты-то хоть потел в это время! - понимающе поддакивал Илья, пока еще ничего не понимая, но с нетерпением посматривая на ключ, которым тот неосторожно размахивал. - Кстати, не вырони ключ, а то можем потом и его тоже не найти в снегу... - Я что, враг себе? - уверенно ответил тот, распахивая дверь и направляясь мимо вахты вглубь темного коридора, бросив через плечо. - Эти со мной! Второй ждет! Вахтера все это, конечно, покоробило, отчего он на полшажка, но выдвинулся к двери, распрямил спину, вдохнул полной грудью, заставив их чуть ли не пролезать мимо него в образовавшуюся щель, что для Юры было просто невыполнимым. - Илья, а ты танк не забыл заглушить?! - хлопнув себя по лбу, спросил он громко, после чего вахтер уже был около окна, заботливой рукой поправляя тяжелые шторы, мстительно бросив им вслед: - Да уж, ждет-с! Заждался... Их сопровождающий в это время, громко топая по мраморному полу, подбежал к одной из дверей и начал судорожно в полутьме искать ключом скважину... - Илья, мы все-таки подождем тебя здесь? - после замечания вахтера предусмотрительно предложил Андрей, усаживаясь на один из пяти, примерно, десятков стульев, которыми был заставлен холл. - А, теперь уже все равно, - прорычал Буяков, наконец распахивая дверь. - Заходите! Степан Сергеич, я все же нашел их!.. Но его страхи оказались напрасными. Степан Сергеевич мирно почивал на столе со сложенными на груди руками, громко похрапывая, что сразу же рассеяло все возможные домыслы на его счет... - А, это вы? Быстро ты, молодец Буяков, жаль, что так поздно к нам пришел, - поощрительно отозвался тот, садясь на стол и сладко потягиваясь. - Редко удается в последнее время даже с полчасика вот так вздремнуть... А я, разве, и Демсоюз приглашал? - Нет, просто ему не удалось меня одного найти, - пояснил Илья, пряча подальше ключ, который тут же предусмотрительно вынул из двери, добавив после этого уже спокойно, - хотя они тут в качестве членов клуба, а не по политическим мотивам... - Ну, если членов, то ладно, - согласился второй секретарь. - Однако, - вдруг снова достал Илья из кармана ключ, не зная, что с ним сделать, - ты же должен был ждать меня в кабинете номер 103, который вроде бы мой, как нам сказали, хотя почему вдруг этот мой, здесь, не говоря уж о том, что этот тоже как бы 103? - Ну, если ты категорически против, то.., - с улыбкой развел руками второй, садясь на стул у стены. - Но мы даже не говорили о том, против чего я мог быть или не быть против, - справедливо заметил Илья, тоже сев на первый попавшийся стул за столом, положив перед собой ключ, потом слегка отодвинув его от себя. - Так, это 103 кабинет или нет? А почему? - Ты думаешь, я знаю - почему? - прикрыв зевок рукой, честно признался второй. - Такая нумерация тут была еще до меня, а, может, с самого начала принята, даже до нас, ведь мы тут не с самого начала. Ну, один - номер этажа, а три - номер кабинета по порядку. - А нуль? – поинтересовался дотошный Юра. - Логично! В Англии это как бы и есть нулевой этаж, а первый - этажом выше, - заметил Илья знающе. - Ну, на втором этаже, который у них первый, у нас первый секретарь и сидит, потому не обессудь, - развел руками второй секретарь, слегка язвительно улыбнувшись. - Но, поскольку он у нас второй, то и я, второй, там тоже сижу как бы... Если вы когда-нибудь вдруг все это здание займете, ты сможешь сам уже переименовать тот этаж в первый, что, в принципе, и соответствует действительности... - Что ж, вполне логично, - сделал ему как бы комплимент Илья. - Мне их система тоже не понятна, когда, допустим, в трехэтажном здании последним будет второй этаж, а третьим - чердак... - А в одноэтажном доме бывшего губернатора этажей, выходит, вообще нет - нуль! – подметил Юра начетнически. - Вот-вот, как объяснить тогда, например, избирателю, к какому ему зданию пройти? – продолжил Илья размышления. - Понятно, когда этажей восемнадцать, где это не столь заметно и важно... - Вот-вот, когда ты, надеюсь, окажешься и в восемнадцатиэтажном здании крайкома вскоре, то сам заметишь то, что не важно, - ухватился второй за понравившуюся ему тему, поглядывая на Буякова, расхаживающего еще по инерции между ними. - Сразу после бега нельзя резко останавливаться, - пояснил тот. - Энергия продолжает выделяться, а выделяться некуда как бы! - Она сразу в массу начинает переходить, в жидкость, к примеру, в пот, то есть, - поддержал его Илья. - Кровь начинает к голове прибывать, масса всяких мыслей... Я немного бегом занимался! - Это заметно! Я их полтора часа по городу искал, - честно проговорился Буяков, сев вдруг скромно на подоконник. - Хорошо еще, что мы за Горком как раз зашли, а так бы он нас вообще не нашел, - поддержал того Илья по-братски. - Знаешь, зачем мы иногда туда заходим? - интригующе спросил второй, слегка скабрезно ухмыляясь, но, не дождавшись ответа, продолжил уже серьезно, встав перед этим со стула и начав тоже расхаживать по кабинету, старательно ступая только на темные паркетины. - Поэтому я не зря намекнул вам на дом с белыми стенами высотой в восемнадцать примерно этажей. У нас тут, начиная с первого, ну, или нулевого, без разницы, в подавляющем большинстве молодежь, ребята прогрессивные, настроенные решительно против консервативных, давно законсервированных настроений крайкома! И в отношении штурма его белой стены мы с вами практически солидарны, не затрагивая теоретических, идеологических разногласий, конечно, из-за которых нас, увы, они туда и не пускают – своих таких хватает! Но после этих трех этажей нам всем там места хватит... Понимаешь? - Даже останется! – подметил Андрей. - Да, точно.., теперь я и с тобой согласен, потому что они и тебя даже пустят, – кивнул второй, тоже прикинув что-то в уме, - насколько я знаю, как мне кажется, кто-то сказал... - То есть, мы - за плюрализм, как вы, Степан Сергеевич, и говорили? - вставил скромно Буяков. – Ну, ради чего я и бегал... - Вот именно! - ткнув пальцем в его сторону, подтвердил тот. - Сам первый сказал, что теперь за любыми стенами власти должен быть плюрализм, почему мы и решили начать со своей, подав, может, всей стране пример! Да, в идеологии, в теории мы с вами - непримиримые... оппоненты! Но, что касается взятия стен Бастилии, то на данный исторический момент мы с вами, можно сказать, даже союзники! Даже с вами, не смотря на ваш радикализм, хотя... больше у нас пока свободных кабинетов нет – не все еще ушли на фронт Капитулизма. Но за ее стеной нас с вами ждет борьба! Хотя и плюрализм! Кстати, никто не желает пройтись?.. У нас, сами видели, ремонт, перестройка тоже вовсю идет, поэтому приходится и того, вместо того... - У меня, Степан Сергеевич, ключик есть, ну, от того, что вы говорите, - скромно признался Буяков, показав золотистый ключик. - На полу нашел! Чисто случайно попробовал ту дверь, и он подошел... - Ладно, давай! Ну, а этот ключ, Илья, теперь твой, если ты не против, конечно. Или ты против плюрализма? - направляясь к двери, спросил второй, слегка притормозив в ожидание ответа. - Кто ж тут против плюрализма! - даже с удивлением заметил тот, решительно спрятав ключ в карман. - Подожди, я тоже с тобой, ну, для рекогносцировки!.. - Нет, господа, хоть убей меня, но что-то я не пойму никак, - говорил вернувшийся Илья, расхаживая по кабинету, но уже на экране монитора, который, в свою очередь, был виден на экране второго, еще большего монитора, ревностно поглядывая на Юрика, который наивно оседлал его теперь стул и бесцеремонно копался в ящиках его уже стола, - они нам кабинет уступили, чуть ли не все здание готовы отдать, видимо, специально его для этого ремонтируя. Туалет изнутри мрамором отделали, почти как мавзолее, хотя там теперь столько кабинок и проходов, поворотов стало, прямо как в каком-то лабиринте, что я заблудился, едва нашел обратный выход!.. Хорошо еще, с ним пошел, а так бы до сих пор искал нужную дверь... На слух только и нашел его! Ну, хорошо еще, что он долго ждал, привык, видно, заседать... - Ну, уж если тебя это убило, буржуин, то да! Тогда этот мавзолей в сортире для вас как раз, дерьмократов! - раздался голос с экрана второго монитора, сменившийся каким-то бульканьем. - Эти сортир отделывают под мавзолей, мыльницы разложили золоченые, крайкомовские себе япономарки партиями завозят вместо наших членовозов, - продолжал бурчать Илья, стараясь ступать по светлым паркетинам, отчего шаг стал неровным, ноги приходилось чуть ли ни переплетать, с трудом балансируя. - И это в 1990-м! Комитетчики, ты говорил, казино строят... Может, они и правда в капитализм намылились всей своей партией, ну, хотя бы по частям? - Ага, Илюша, намылились! Мыльницы для того и разложили – вам подмываться чтоб! - бурчал голос со второго монитора, прерываемый подозрительным бульканьем. Иногда его экран вдруг загораживала чья-то тень уже на третьем мониторе, снова исчезая... - Может, с того и расщедрились? Мы, мол, вон какой вам кабинетище, да еще на первом этаже отвалили, так что уж не забудьте и вы нас потом! Мы ж, мол, не зря Капиталы ночами зубрили, по загнивающим империализмам зачеты, экзамены сдавали! - пытался Илья привлечь к себе внимание приятелей, с интересом разглядывающих какие-то бумаги, найденные пытливым Юрой под нижним ящиком стола... - А как же, Илюша, ты уж могильщикам-то своим местечко на кладбище выдели, не забудь, когда будешь землю там крестьянам раз-давать, предводитель ты наш дворянства, застрельщик ты наш капитализму! - бурчал со второго экрана голос, перестав булькать, после чего вдруг командным голосом прикрикнув на кого-то. - Товарищ майор, а ну-ка, пива подай! С воблой, то есть, с корюшкой!.. - Счас я тебя подам, счас ты у меня попьешь пиво с раками! - проворчал вдруг еще кто-то, опять заслонив второй экран ненадолго. - А что, тут у них уже и программки построения светлого будущего, но капиталистического, правда, готовы! - довольно воскликнул Юрик, подавая Илье часть листов. - Вот, программа для демократического кандидата от рабочих, а тут от кооператоров... - У меня – демократического кандидата от учителей! - недоуменно разглядывал Илья свои листки. - А, вот, кандидата-демократа от ученых... Вот, демократа от беспартийных... От врачей... От народа!.. От колхозного крестьянства!.. - подавал им с Андреем листки Юрик, громко читая заголовки. - Ну-ну! А где же программа демократа от КПСС?! - довольно хохоча, вопрошал голос с второго экрана, опять кем-то заслоненного. - Майор, чего ты вертишься у экрана? Чего туда-сюда шастаешь? А ну, отойди! - рявкнул сверху еще чей-то голос, и тень мигом исчезла, открыв взору второй экран, на котором был виден лишь чей-то затылок, заслонивший собой первый, из-за чего тот голос снова зарявкал. - Майор, а ну, убери этого!.. Врежь-ка ему по затылку!.. - Товарищ Мент.., генерал, то есть, как я врежу-то? Он же это, виртуальный как бы теперь? - оправдывался озадаченно голос майора на третьем мониторе, на котором чья-то рука все же пыталась поставить шелбаны по тому затылку на втором... - Черт, блин, какой же козел там все это оставил, а?! - заорал вдруг голос со второго экрана, затылок с которого все-таки исчез, после того как чья-то рука почесала его. - Петров, а ну сюда! Наводкин!.. Черт, уже пять минут шестого!.. Не самому ж за пивом идти?.. - Я ж и говорю! - в то время восклицал Илья, хлопая рукой по листам. - И в капитализм, и в плюрализм они раньше нас намылились! - Да, только не в капитализм, а в Капитулизм, если точнее, - уточнил голос Андрея, не видимого на первом мониторе. - Да?!.. Эй, майор, ты бы, это, не мог увеличить кадр? - потребовал рыкающий голос генерала. – Слова хоть списать... - А как? Я бы попробовал, но тот-то, ну, первый не станет пробовать, раз сами и писали, - оправдывался майор, добавив увеличения, отчего рамка первого монитора пропала за рамкой второго, но изображение стало расплывчатым. – Да у них и техника - дерьмо, баловство одно! А нашу всю почти, козлы, убрали под маркой капремонта, реставрации, ну, этого, капитализму проклятого... - Ты долго ворчать будешь?! Не слыхать ничего! - оборвал его генеральский голос, проворчав. – Стал бы Петрович еще на эту шелупонь горкомовскую тратиться, если они теперь и своим не нужны! Отходы, так сказать, коммуникаций, хотя их, скорей, в расход пора... - Это вахта? Водила там? Куда уехал! Ужинать? А кто отпустил? Я?!.. - доносилось в то время со второго экрана. - А программки-то наполовину с дээсовской, а наполовину словно с апрельских тезисов Ильича слизаны, - донесся вновь голос Андрея с первого монитора, – ну, и с Билля тоже... - Но зачем они их нам подбросили, вот вопрос? - раздался сакраментальный голос Юрика. - Да, зачем эти козлы их им подсунули, а? - спросил озадаченно и голос генерала, склонившегося над третьим монитором. - Так, потому что они и есть козлы! - подсказал ответ майор. - Нам не доверяют, а сами ни хрена не могут, конспираторы хреновы... - Я тебя, майор, однако, тоже демократом от гебе заряжу, шибко умный! - зарычал генерал. - Мне от того, что они - козлы, не легче! Я это и сам давно уже знал!.. Интересно, есть у них и для нас программа?.. Шеф интересовался из столицы, однако... - Ну, как бы и кабинет, и сортир, и япономарки, и это - все в одну линию выстраивается, - размышлял Илья. - В линию партии, так сказать, - насмешливо заметил голос Андрея, пока не видимого на первом мониторе, - точнее, в этакий лабиринт, но теперь уже и в сортире, как ты заметил... - Может, они все же решили раскрыть карты, чтобы не тратить время на саму игру, - продолжал развивать мысль Илья. - Ставки-то большие, видать! Власть! Капитал! Может, и в крайкоме нас это же ждет? Как ты сказал, Капитулизм? А это как?.. - Ну, Гитлер – капут! Сдались как бы Золотой Орде – и где та? Теперь пора пришла и для всех остальных.., - сдержано подметил голос Андрея, лицо которого вдруг показалось крупным планом на первом мониторе, даже подмигнув кому-то наверху. - Да, игра, видно, по крупному пошла... Может, и война, но только информационная, как бы Аттракцион Хаоса, в котором себя-то они считают Аттракторами, ну, то есть «зародышами», наоборот, порядка, но уже своего ... - Ага, а шулера из вас те еще! Те сразу и сдались! - захихикал тоненько генерал, но, увидев Андрея, вдруг стих. – Блин, и этот тут! - И подсунули их для того, чтобы мы свои под них отредактировали, чтоб совсем не отличались от их кандидатов в демократы, среди которых у них и учителя будут, умеющие мозги неучам парить, и врачи, и... палачи, - продолжил Юрик, тоже взглянув наверх. - Ну, разумная версия! – заметил генерал. - У вас-то самих еще программок нет, насколько я знаю, хотя у этого, видать, есть, блин, и наша... Наша ли?.. Черт! Лучше б мы его пове,.. повысили, блин! - Точнее, чтобы мы по ним свои составили, потому что про выборы-то я вообще забыл из-за этого кабинета! - хлопнул себя по лбу Илья, как бы соглашаясь с тем голосом. – А ведь, смотри, не дураки, совсем не дураки составляли, будто настоящие демократы чьи... - А, что, может, и не наши даже, - согласился Юрик, - но, скорее, у тех и списывали.., капитулинянты... В это время раздался стук двери, после чего где-то опять забулькало, и весь первый экран закрыл чей-то затылок с отчетливо просматривающейся лысиной, запыхавшимся голосом произнеся: - Ну, и что у нас тут? На чем мы остановились? Репу чешем?.. Блин, и как я забыл, что сами ж программки им те и оставили? Молоток второй – не забыл... Ну, давайте обсудим, подкидыши... - Майор, а ну врежь первому по репе! - буркнул генерал зло. - Ага, а на кого я потом технику спишу? - понимающе отметил тот. - Если уж я врежу, то... - Заткнись все! - рявкнул генерал, взглянув на часы... - В общем, Илья, без бутылки тут не понять! - словно услышав его, вдруг засобирался Андрей. - Пойдем, возьмем пивка и подумаем на свежем воздухе... - Точно! - неохотно согласился Илья, оглядывая кабинет. - Куда вы, у меня на всех хватит! - с огорчением сказал голос со второго экрана. - Я что, теперь один все это пить должен? - Майор, а ну отнеси им ящик, черт бы их побрал! - недовольно буркнул и генерал. - Мне что, на этого теперь смотреть? - Так, если б у меня был хотя бы ящик, товарищ генерал!.. - начал было майор с некоторой надеждой, но сам догадался... - Может, им холодильник еще поставить, - рассуждал первый между бульканьем. - Может, вам еще и раков к пиву? - Козел! Себе бы сперва поставил! – ворчал тихо майор на третьем мониторе. – Из-за таких, вот, и коммунизм даже не построили... В это время свет на первом экране погас и раздался скрежет ключа в замке... - Мудаки, весь вечер испортили! Так, а где же моя-то программа?.. - буркнул недовольный голос генерала и торопливо погасил свет на своем мониторе, при этом тоже булькнув, но конспиративно... - Вот же старый хрен, ничего не может организовать... Может, поменять его, пока не поздно? - раздался вдруг чей-то новый, вкрадчивый голосок. – Все выборы провалит, продует в чистую! - Плохо вы о нем думаете, однако! Ну, о нас, то есть! Мы ж его зачем поставили-то? Не продуть, разве? Думаете, какую он программу искал? - захихикал ему в ответ другой, чем-то знакомый голос. - Просто через полчаса хоккей начнется, так что и нам пора... - Куда пора, если у меня дома телевизор гораздо меньше монитора? Здесь и посмотрим.., - возразил вкрадчивый голосок уже с другого монитора. – Пива бы только заказать, кстати, баварского только... - Какой телевизор, если тот козел и у нас свет выключил? В Лужу и поедем, - забулькав чем-то, ответил второй. - Я уже предупредил там, чтоб его ложу не занимали... - Ага, хрен вам, а не моя ложа! - совсем уж свыше донесся чей-то знакомый такой, слегка и сам по себе булькающий голос, после чего в темноте раздался звук набираемого телефона. – Так, срочно собираем совещание по выборам... Какой еще хоккей?! Всех на ковер! Я им сейчас всем по шайбе и так настучу! - Ну-у, эта, погоди, токо изберусь, и тебе такой хрен будет, елы-палы! - как-то странно обиженно прогнусавил сбоку еще кто-то, хотя это можно было объяснить и акустикой... - Who is this... Hren, Major? - донеслось тут сквозь посвистывания космического эфира. - But Hren and know his, my Herr! - послышалось в ответ сквозь переливы галактической морзянки... - Wanker! My Goad! He turned off the Light everywhere!.. - Let it be... ЭПИЛОГ Let it be?... Да, будет, конечно, будет, всегда что-нибудь бывает, лабиринт не остается пуст, даже в сортире... Сам по себе он, возможно, и не имеет смысла... Сам по себе он пуст: лишь стены, стены, пол, земля под ногами и... - два, иногда три-четыре выхода из него, но всегда кажущихся, ведущих в такую же пустоту следующих галерей, улиц, унизанных лишь тупиками тоже кажущейся определенности... Да, как и тот, единственно реальный выход из него, каким и воспользовались однажды его создатель Дедал и его другое создание, сын Икар, для которого и этот оказался лишь пустотой смерти... Может ли быть иначе, если, например, на английском, самом откровенном тут языке «лабиринт» - это Maze, весьма созвучный с его создателями, каменщиками, Масонами ли? Что еще они могли сотворить, если изначала, согласно древнему мифу, их задачей и было создать «ловушку», Мацод ли на иврите, что означает у них и «охоту, облаву» на нашего подсознательного зверя, «характера» ли, Мэзэг, для которого и нет «выхода, исхода», Моца ли – из их Maze?! Ха! Даже в словах, в чем, видно, прав был Сидоров... Не было выхода, выбора ли сейчас и у Андрея, поэтому он и пошел в избирком, надеясь, видимо, что кто-то сделает это за него, ну, тот, кого и зовут ныне избирателем, выборщиком ли - Электоратом... А далее с ним произошло то же, что случилось, случалось по всей стране со многими тысячами таких же, как он, даже надеявшихся, поверивших в возможность, в реальность происходящего с ними, со страной, в чем они, как им тоже казалось, принимали весьма активное участие, как то, возможно, казалось и тем, кто наблюдал за всем этим лишь на голубых экранах телевизоров, в промежутках между сериалами о чужой, точнее, тоже киношной жизни, сквозь слезы которой не заметив, как закончился один век, начался другой, как порой заканчивалась и собственная жизнь, не дождавшаяся следующей серии... ...1990, 1991, 1993, 1998, 2000, 2001... 2015, 2017... Черт, он бы мог столько обо всем этом рассказать, если бы не обладал хорошей памятью, не помнящей всякое такое... Да и кому бы, среди этого камнепада, была бы интересна история и его падения... И обо всем там происходившем было уже написано множество даже романов, тем более мемуаров, разоблачений(без признаний, правда, покаяний), и ему бы нечего было тут добавить нового, если бы... ...если бы тогда не начался его роман с Музой, точнее, то, что послужило поводом и для этого романа, поскольку банальным романом их отношения трудно было назвать... Вот-вот, даже в одном простом, словарном слове он уже запутался! Что уж говорить о таком, например, слове, как Любовь, разгадке которой посвящено больше всего слов и книг на всех языках нашего мира, но навряд бы и какой великий ученый, мудрец, запросто формулирующий в нескольких словах, в одной ли формуле законы всей Вселенной, смог бы, даже прочтя их все, так же кратко раскрыть нам и ее тайну... Попытайся лишь – и навряд бы ограничился одним, двумя... романами, а, может, даже создал бы для этого институт, а-то и целую Академию Любви, навеки обеспеченную работой, заказами... Что тогда спрашивать с двоих, которые, чем сильнее они любят друг друга, тем, наверняка, меньше понимают сами и могут объяснить другим, а что же такое хотя бы их Любовь? И, скорее, именно поэтому, из стремления понять, разгадать эту тайну, а не просто так, появляются тут и третьи, и даже более того.., отчего, правда, ситуация не становится яснее, а тайн, уже и надуманных, лишь добавляется... У нашего героя ситуация была еще сложнее, поскольку их с Музой Любовь была тайной не только для него, но и для всех, для всего мира... Нет, не потому совсем, что и другие ее пытались разгадать, она ли их волновала как-то, а просто он скрывал ее от всех – даже от нее самой! И, если учесть еще и все те тайны и загадки, которыми он, как и все мы, конечно, был в те времена окружен, но которые еще и пытался разгадать, разрешить, в отличие от нас, кто и это воспринимал, как обычную жизнь, реальную ли действительность, которая простой и не бывает,.. то можно себе представить, чем же стала его жизнь после того, как они с Музой не просто встретились, но и... Вот-вот, и... Это уже вторая книга. Первая же книга с самого начала до самой последней главы и была посвящена их встрече, хотя из мимолетности тех встреч, разбросанных по последнему десятилетию второго тысячелетия, теряющихся в хаосе множества зачастую бессмысленных, причем сознательно, событий, сделать такой вывод весьма сложно. Да, именно потому, о чем пел и великий Пушкин: «Служенье Муз не терпит суеты; прекрасное должно быть величаво...», а иначе «Опомнимся – но поздно! И уныло глядим назад, следов не видя там»... Но в том и заключалась, пожалуй, главная суть его встречи с Музой, с кем в те лихие, для кого и «златые», годы «суеты сует» встретиться было не так и просто... В чем? Но об этом далее... Сейчас никто бы не смог сказать, что и вся эта «суета сует», весь этот «детерминированный» хаос и творились лишь ради их встречи... Андрей же и сейчас, и тогда стал вдруг оглядываться назад, но вовсе не потому, что с той поры его будущее с каждым месяцем, годом, потом и веком становилось все безлюдней, мрачней, пустынней, словно он один, впереди ли других, кого уже не замечал рядом, и уходил вглубь пустыни, но не теряя надежд вернуться... Нет, и сейчас, и тогда оглядывался он потому, что именно там, позади, в прошлом, встречался с ней, из всего минувшего и вспоминая лишь то, что хоть как-то было связано с их встречами, с их ли ожиданием, предчувствием... Словно каждая, даже мимолетная их встреча это был какой-то свой мирок, со своим временем, пространством, событиями – некие островки жизни, цветущие оазисы ли в той каменной пустыне, которую и он, в том числе, оставлял ныне за своей спиной, ничего, кроме нее, не видя и впереди лишь потому, что, как и все, шел по замкнутому, заколдованному кругу разрухи, называемой публично переворотами, перестройками, реформами, революциями, ре.., ре.., ми... - Никаких реминисценций, никаких ре-ми-ни-сцен.., - вторил он про себя какую-то случайную фразу, пытаясь заглушить, перебить хотя бы ее ритмом гулкое, переполняющее голову, эхо бесконечных, непримиримых и таких же бессмысленных споров в Крайсовете, откуда шел однажды по пустынной улице домой, стараясь не оглядываться, чтобы ненароком не вернуться. – Черт, откуда это?.. Это же Ре-минор? Да, Вивальди... Соната № 12... Но откуда? Или я уже?.. Неужели дошел до крайней,.. до конца?.. Чего?.. До него совсем не так быстро дошло, откуда в голове возникли эти звуки, знакомые ноты, вначале настороженно, неуверенно, словно боясь потревожить, доносившиеся до него откуда-то из прошлого, из его пустоты, возможно, и с неба, из-за низких, свинцово-серых туч, где парили стайкой легкокрылых, незримых птиц, то взмывая вверх, то планируя вниз поочередно, ненавязчивым курлыканьем зазывая за собой, но, как и солнце, не решаясь выглянуть из-за кулис самой загадочной, но пустой в свете рампы сцены анти-театра теней, полного блистательных звезд лишь в ночной тьме... Пение птиц вскоре сменилось шелестящими, звонкими звуками дождя, редкие струйки которого на фоне темного неба, серых декораций города были так похожи на струны скрипки, по которым золотым смычком заскользили молнии, сопровождаемые в небесах протяженным басом раскатистого грома, распугавшего и птиц, и ноты... И он тоже заспешил вслед ускоряющейся, подгоняющей его мелодии несмолкающей скрипки, ни одна нотка которой не дрогнула, не сбилась с ритма, а только тоже заспешила ему навстречу сквозь струи ливня из тенистого парка, спрятавшегося от непогоды под громадными зонтиками вековых деревьев, под первым из которых он и остановился, музыка ли остановила его, дав передохнуть, подумать... У этой сонаты ведь было 19 вариаций… Все было впереди! Конечно, он узнал ее, виртуозную и скрипачку, лишь толпе являющуюся с гитарой, у которой, хотя и больше струн, и богаче, многообразнее голос, но, может, и поэтому ей не достичь и той пронзительности и остроты чувств, которые порой пробуждаются в нас вулканом, прорываются из самых глубинных недр подсознания наружу, сметая на своем пути все: сомнения, неуверенность, страхи, заблуждения, - и тех высот полета распахнувшей крыла души, что доступны лишь этой маленькой, такой хрупкой на вид скрипке, для которой нет преград, пределов на небесах – только, разве что, в самых низах, на Земле, в уютных, но тесных жилищах, среди крепких, надежных стен, под низкими, такими близкими – рукой достанешь – крышами, где, как и среди даже громадных толп властвует гитара, не подобная молнии, но вкусившая и ее мощь, и сокрушающую силу грома! Но сегодня гитара не смогла бы докричаться до опустившейся до самых низов души его, бывшего меломана, потерявшего, предавшего и Веру, и Надежду, и самого себя, разочарованного почти во всем и во всех, спрятавшегося от всего окружающего на самом дне своего подсознания, почти в самом логове своего неведомого зверя, до которого оставался лишь шаг, решение... И только скрипка и могла пронзить его окаменевшую плоть, броню его ожесточенного, напрочь окаменевшего сознания насквозь, до самого сердца, своими самыми острыми и разящими все на всем белом свете стрелами… Нет-нет, как раз над этим многоточием он и задумался в сени громадного вяза, хотя мгновения назад не стал бы уклоняться и от смертельного жала старухи-косарицы, сталевласой жницы наших плевел… Почему задумался – он бы и в целой главе не ответил, а, тем более, в эпилоге книги об их встрече… Не случайно и дождь чуть стих, и громы стали более отдаленными, нерешительно перекатываясь по округлым сопкам вокруг парка с боку на бок… И звуки ее скрипки плавно парили, не торопя его, не только над их настоящим, но словно и над непростым прошлым, и даже над неведомым пока им будущим, которое еще надо придумать, сочинить, прежде чем спешить прожить так же, как и любой миг настоящего, которое и хотелось бы остановить, но… Нет, не, а если – если бы мы то могли... Потому он, а, возможно, из-за стихшего чуть дождя и побежал далее, словно боялся и того, что скрипка вдруг совсем успокоится, смолкнет, так и не дождавшись ответа… И она, словно заслышав дробь его торопливых шагов, бросившегося ли за ним вслед грома, тоже заспешила ему навстречу, видимо тоже опасаясь, что он передумает, хотя сама-то просто ждала его, давно ждала его, давно и зная, что жить без него тоже не может, что без него ее жизнь – это как чужая песня, даже соната, но тоже чужая, как и эта, в которой, правда, уже появились несколько иные, ее импровизации, и, если бы еще… Да, и этих стремительных «еще», с каждым разом ускоряющихся, становящихся более живыми, решительными.., и остановок, раздумий у них было еще много, ведь ему нужно было не только решиться на их новое, совсем иное будущее, но еще и порвать со многим в прошлом.., на что у него и ушла почти вся предыдущая глава, почти все десять лет, хотя и показавшихся минутами, всего лишь дождем, смывшим позади него все следы былого, кроме… Но об этом мы уже говорили… Под последним, 19-м вязом он остановился лишь на миг, чтобы чуть успокоить сердце, сдержать – так оно рвалось к той, кого он и ожидал увидеть, боясь лишь не поверить своим глазам, у которых ведь нет музыкального слуха… Но слегка успокоился он от другого: она, оказывается, стояла посреди летней сцены клуба моряков, кому, правда, и в дождь, ми в шторм было море по колено, и мокрыми были только ее глаза и щеки, что совсем и не мешало ей играть на скрипке, ведь она сама и была Музыкой… Она ведь тоже давно ждала его, хотя реально и жила лишь только их краткими встречами, как и все Музы, для кого разлук, как таковых и не бывает, ну, то есть, это для них и не жизнь как бы, почему, возможно, сами они и бессмертны, как и их творения… Поэтому то были, скорее, слезы радости, живые ноты музыки Вивальди, от которой всегда захватывает дух, и самому хочется воспарить вслед за ней в небеса, стать птицей, облаком, семи-нотной радугой, которой без дождя и не бывает… В финальных аккордах они парили там уже вдвоем, не видя под собой Земли, города, да и ничего, даже дождя – ведь там, над тучами жизни это был слепой дождик из нот!.. Даже скрипка им больше была не нужна, ведь она сама и была Музыкой! Ее глазами теперь стал он… А он их закрыл… Да и зачем они в ее небесах, в ее «саду», в «саду» Муз, который в древнем Шумере и назывался просто, но весьма созвучно Musar... Книга 2. Муза. Сонатина Любви... ЭКС-ПОЗИЦИЯ У этих мемуаров и не может быть предисловия. Во-первых, оно бы получилось весьма долгим, ведь этому предшествовали тысячелетия... Во-вторых, озвучивать его пришлось бы на органе или хотя бы ветром на "флейте водосточных труб" весьма старого города с множеством ухоженных домиков под ясным небом, где эти флейты хотя бы не проржавели и не обрели дополнительных, фальшивых нот... В-третьих, оно должно было стать подобием увертюры.., но симфоний в такой жизни не слагается, поэтому хотя бы экс-позицией, с намеком на экс-, на уже минувшее, в котором можно обозначить хотя бы две-три главные темы этого мира безмолвной музыки, этого огромного концертного зала, полного глухих слушателей и с пустой сценой, как следует из дальнейшего повествования, которое и само чем-то похоже на последовательность предварительных, предваряющих ли нечто неведомое, тактов, отчего перед нами встала бы вообще невыполнимая задача: написать предисловие предисловий... Но главное даже не в этом. Просто не хочется в разговоре о Музе, о ее музыке, а, тем более, о Любви, ее Любви, стать пособником той жизни, где совсем другая игра, и самому изначала раскрыть перед ней, но не ноты, а все свои карты, зная заранее по себе, по слухам ли, как она умеет обходиться с честными, наивными противниками, осмелившимися вдруг сесть с нею не просто за один рояль, чтобы сыграть в четыре руки и даже не главную партию, а за один стол, противником, на равных, по другую, по ту сторону зеленого сукна, откуда еще никто не ушел победителем в ее беспроигрышной игре... И если бы мы играли за себя! Но мы должны будем делать чужие ставки, идти за кого-то и "ва-банк", отчего приходится скрытничать, прижимать свои карты к самому сердцу, боясь и самому взглянуть в них заранее, прекрасно зная, что именно глаза - самое красноречивое зерцало любви, что это единственное зеркало ее красоты, которое, увидев ту единожды, уже никогда не сможет остаться равнодушным созерцателем, пустым стеклом, пусть и с благородным налетом серебра. Оно, то есть они, глаза, станут ее отражением, вспыхнут ее сиянием и либо сами неизбежно ослепнут, либо превратят в слепцов всех окружающих.., отчего любые игры между ними станут бессмысленными, хотя бы потому, что победа одних будет казаться другим поражением, величие - низостью, жертвенность - корыстью, а сама любовь - одним из смертных грехов, если не всеми сразу... И стоит ли тогда заранее заглядывать в карты, если вашей ставкой сама любовь и является? Так у вас до смерти остается хотя бы мгновение неизвестности, какой-то миг Надежды. Да-да, и до смерти, в том числе, потому что в ином случае вы положили на стол фальшивую монету, фишку, и нам не о чем дальше разговаривать... Поэтому мы не будем и пытаться заглядывать в карты этому игроку, коли он и сам боится взглянуть в них, прижимая их к сердцу так, словно в них - его жизнь, Любовь, Муза, расставание с каждой из которых уже есть поражение, смерть или что-то еще более страшное! А у него их всего лишь три, причем одна из них та самая Дама... О нет, пусть увертюрой, экспозицией, предисловием, прелюдией ли будет тишина, молчание, молчание органов, флейт, птиц и даже сердец и, особенно, сердец, чья песнь самая правдивая на свете, почему даже сами мы порой, очень часто ли, стараемся его не слышать, глушим его крики, мольбы или стоны безжалостным боем часов, хвастливым звоном литавр, журчанием ли голубых рек... А ведь именно тишина в большинстве случаев и стала бы для нас истиной, ее ли экс-позицией, тем, что и было в начале Начал! Но при этом не стоит забывать, что в нашем мире "златогласого серебра" тишине доверяют, поклоняются ли ей тоже только Музы, творящие с ее чистого листа. Поэтому насладиться ею и вы, скорее всего, смогли бы только в их компании, став в каком-то смысле изгоем, презираемым остальными инвалидом по слуху, глухим ко всему мирскому, общественному, что могут назвать и бессердечием, жестокосердием, приводя в доказательство множество цитат из писания, но которые вы можете услышать только от них же... А если повезет, если вы воистину полюбите, то вам не нужны будут и наши советы, даже к ним вы будете глухи, слыша лишь одну музыку любви... И только тогда вы и сможете понять, чем же ради нее можно пожертвовать... А этого не сказать, не передать ни в каких предисловиях... Часть первая. Аватар Музы... Глава 1 Все то, давно напрочь забытое, и тогда не очень трогало его, потому что почти все свое личное время, и все свои мысли он посвятил Музе, этой романтичной, но также крайне эксцентричной девчонке, для которой, кроме ее песен, помимо ее впечатлений, не существовало ничего: ни каких-либо отношений, привязанностей, никаких условностей этого мира, как, видимо, и самого мира, по крайней мере, каким он воспринимался нами. Сказать что-нибудь о ее мире, о том ли, каким ей виделся наш, было невозможно. Надо было просто пытаться смотреть на мир ее глазами, довольствуясь лишь этим, не пытаясь переводить увиденное на свой обыденный язык, из-за чего видение вмиг исчезало. Увидев то однажды, он уже и не мог смотреть иначе или делал это лишь вынужденно, машинально, без какого-либо интереса, стараясь свести к минимуму время, проводимое без нее. Минуты, иногда и часы общения с нею были для него как бы щедрой платой за всю остальную жизнь, которой он вынужден был жить, но боясь потерять ее. В принципе, примерно так же и мы работаем ради нескольких часов свободного времени, хотя, по-честному, его даже близко нельзя сравнивать с ее временем. Скорее, наше свободное время вполне можно было сопоставить с его "работой", чтобы получить представление о его времени, проведенном с Музой. Что-то еще более понятное нам добавить трудно, к тому же, если бы он вдруг начал подробнее расписывать проведенное с нею время, то он бы только разочаровал нас, не вспомнив, не назвав ничего из наших представлений об удовольствиях, веселье, даже счастье. Наверняка мы бы еще и сочли то ужасной скукой и пустой тратой времени в отношении себя - окажись мы на его месте, рядом с нею - и мы бы оказались во многом правы, поскольку просто не имеем возможности представить себе, каким же может быть виден мир ее зрением... Естественно, что и ко всей остальной его жизни, где он, достигнув по нашим понятиям весьма многих возможностей, никак их не реализовал, мы вполне справедливо могли бы отнестись с полным скепсисом и даже с пренебрежением. По нашим меркам он вообще ничего не получил взамен своей борьбы, своих жертв и даже лишений, взамен ли того, что сумел все же сделать ради некоторых граждан, безответно процветающих по нашим понятиям ныне... Посчитать достойной платой за все это его многочасовое сидение поодаль от нее или его блуждания рядом с нею по площадям, когда она, почти не замечая его присутствия, была увлечена своим творчеством, не имеющим никакого отношения лично к нему? Но это, и правда, смешно! Не то ли это самое, как часами смотреть издалека, как кто-то там распивает в одиночку коньяк или еще чем приятным занимается? Трудно сказать, если ты не пробовал сам... Нет, это мы не про коньяк, это мы про него. Если он свою, по нашим меркам, полновесную жизнь пожертвовал этому, то, может, оно все же стоит того? Однако, повторимся, сказав еще раз, что понять это можно, лишь попробовав однажды самому и только. Чтобы это было понятно всем, скажем по секрету, что это несравнимо восхитительней впечатлений и от наркотиков, но это не кончается.., в том числе, и ломкой! Что при этом испытывала сама Муза, мы вообще сказать не можем. Что можно сказать, если она, допустим, плачет, когда нужно смеяться, и, наоборот, заливается смехом, когда впору стреляться?.. К примеру, она была невероятно печальна, глаза ее были полны крупного жемчуга слез в те дни, когда площади гудели от возбуждения и нетерпения, восторженно ожидая казни, кончины... великой, но старой, надоевшей многим Империи - пусть бесславной, какой-то шутовской, с юморком, когда руки тряслись не у палача, а у актеришки, исполнявшего роль жертвы, завершающей свое блистательное цар-ствование. Режиссеры переворота весьма удачно подобрали актеришку на ведущую роль, а сценаристы - создали под него ключевой образ интриги, превратив трагедию в постыдный фарс, над чем нельзя было не смеяться, забывая при том, конечно, о чем идет речь и, в первую очередь о том, что и сам ты являешься действующим лицом всего этого действа, а совсем не зрителем. Увы, площадь была полна активных, но все-таки зрителей и именно фарса, ну, может быть, с некоторой натяжкой и трагикомедии, поскольку галерка громогласно требовала от труппы скорой и кровавой, пусть даже с бутафорной кровью, развязки, но все-таки веселой, оптимистичной... - Я не знаю, почему, но из-за вашего самодовольства, беспамятства и бездумного веселья мне ужасно хочется плакать, - в один из редких случаев она разговорилась с ним тогда и, более того, вдруг прижалась к нему, словно искала защиты, ласки ли прямо здесь, в толпе, где в эти дни совсем не было любви. В этот день у нее все падало из рук, струны гитары рвались с насмешливым, язвительным звоном, а голос срывался, почему она молчала, безвольно странствуя с ним по митингам, где он с непонятной злостью, мстительно добивал и без того уже падшую, погребаемую заживо, словно гвозди, вбивая острые словечки в крышку ее гроба, который даже некому было отнести на погост. - Мне страшно, потому что, пока здесь кричат: «Добей старуху!» - там, в кабинетах ее как бы защитников, уже стоит звон делимого наспех ее наследства. У меня тонкий слух, я слышу его, хотя остальным он напоминает погребальный звон колоколов. А то не звонари, то мародеры срывают одежды, украшения с еще не остывшего трупа нашей, пусть плохой, но матери! И никто здесь - даже ты - не вступился за нее! Неужели не страшно оказаться на ее месте? - Милая, я могу лишь представить, что чувствовал, а, может, чувствует еще мой брат, слыша до сих пор, как она спешно покидала поле боя и его, вдруг забытого всеми! - мстительно говорил он, стараясь не смотреть в ее растерянные глаза. - Разве так поступила бы мать? Не была ли она все эти годы самозванкой, мачехой, только сейчас, на себе, вдруг осознавшей, что это такое - предавать родных? - Неужели ты думаешь, что смерть - урок?! Кто из нее извлек его? - печально спрашивала она пустоту, потому что и его мысли были тогда где-то далеко, и толпа, беснующаяся вокруг, была мыслями там, в столице, на теле-арене цирка, где шла пародия на бой безоружных гладиаторов, откуда до нас доносился лишь звон золоченых щитов. - Я вспоминаю сейчас совсем другие времена, когда, отпраздновав тризну, разорвав в своем сердце струны, на века смолкла лира там, где и теперь еще стоят дивные развалины ее храмов! Мне не жаль и ту Империю Волчицы, но меня ужасает гибель и ее мощного духа, его многовековое молчание среди разбойничьего посвиста варваров. Неужели мрак настоящего - достойная месть сиянию прошлого? Или ты уверен, что, так безжалостно разрушая свой дом, вы сможете сотворить что-либо, кроме его безмолвных, мертвых развалин? Неужели не видишь, что эта ужасно симметричная, словно специально подобранная дата – 1991 - разрывает нашу жизнь, само время на части, которые уже никогда не срастить, не вернуть?.. Это начало конца! - Милая, но зато не будет и кровавых стен, которые мешают и твоему голосу? - пытаясь улыбаться, спрашивал он. - Не будет стен лабиринта, которые мешают нам любоваться красотой Свободы!.. - Да, милый, и голос тот, летая над полем привольно, как ветер, ему подобным и станет, - пыталась она сказать ему в тон, закончив фразу совсем иначе, - и как ветер, его никто и слушать не будет, в лучшем случае воспринимая, как колыбельную. Полон мир и красоты без стен, но пусты его безграничные поля! Лишь слепцы бродят по их цветочным тропам, как и все устремляясь к стенам былых городов, где мертвые стены хотя бы можно потрогать. Милый, красота, как и все, как и любовь - ценны лишь тогда, когда ты стремишься к ним, борешься за них, преодолеваешь преграды, стены! Став обыденным, доступным, они теряют всякую ценность, перестают быть собой и... Нет, я даже не могу сказать, чем они становятся! Но я сейчас и не о том - просто меня и раньше никто не хотел слушать, у меня не было тебя! Просто я сегодня не могу не плакать обо всем сразу, потому что в любом малом мы теряем великое, все, что было потеряно и ранее, ведь потери тоже никуда не деваются, они тоже накапливаются, как и чьи-то богатства... Понимаешь, милый, а я совсем не умею терять, я этому никогда не научусь, если не перестану быть собой. И сегодня для меня день великого траура, потому что я словно в который раз уже теряю и будто бы сразу все! Или ты не помнишь иссеченные песками стены Вавилона? Или забыл мрачные стены Микен, куда вернулась некогда красота? Что от них осталось, оставило разрушение? - Милая, но гиперборейцы вообще не строили для себя вечных стен, отчего красоту им приходилось и удавалось сохранять в своих душах, - заметил он ей, - никогда с ней не расставаясь? - Поэтому они были счастливы - им не надо было ничего разрушать! - пыталась она согласиться с ним, и возражая, изумленно повторяя про себя его слова. - Но я боюсь, милый, что сегодня далеко не все думают так, как ты, не так, и как гиперборейцы... Сказав последнее, она все же слегка успокоилась и спела, пытаясь играть на одной, оставшейся целой, струне, новую песню, которая была полна такой жажды любви.., что он потом всю ночь не мог утолить ее, выпив практически все, что оставил ему Петрович в баре... В другой раз, когда они в тревожном напряжении не могли оторвать взор от теле-экранов, которые вначале были белыми, потом стали черно-белыми от снарядов, покрывшись мертвыми языками черного пламени, недвижно вздымающегося к небу из пустых бойниц окон Белого дома, она, наоборот, была невероятно весела, исполняя и сочиняя на ходу одну песню за другой, но тут же их забывая... - А зачем они мне: временные песенки о временном? - изумленно спрашивала она его. - Я вообще тебя не пойму, как можно печалиться о том, что буря, допустим, или даже просто дождик закончился не через три часа, а через пол? Мы сочиняем, не понятно - зачем, некие временные условности, а потом сами жалеем, что они вдруг исчезают. Да, ваяем некие трупы, и оплакиваем их смерть. Абсурд! Или скажи мне: разве разрушители не были достойны разрушения? - Милая, но о каком разрушителе ты говоришь? - неуверенно спрашивал он, невнимательно слушая и ее, и телевизор из-за этого. - О, я говорю и о нем, о разрушителе разрушителей! – смеясь, восклицала она. - Ведь это его заблуждение, что он стреляет по ним - он стреляет, плюет огнем в свое политическое зеркало! Я помню всех этих Маратов, Робеспьеров, Троцких, Лениных - прекрасно помню и то, что я их почти сразу же забыла! Зачем? Зачем их помнить, я хотела сказать? Достаточно знать последнего, пока и он не стал предпоследним. Они вообще не нужны моей памяти, поскольку кроме себя они там ничего бы не оставили. Но извините!.. Неужели их можно сравнить с Александром Великим, с Иваном Грозным, Тамерланом, да с тем же Иосифом, чья империя была самой большой в истории, вернув нам даже наши исконные земли и сокровища Нибелунгов? Нет, милый, я живу Моцартом, но даже не хочу вспоминать Сальери, для меня слово брутто и то благозвучнее, чем Брут. Рядом с именем Леннона я не хочу слышать даже имени Йоко, которое намекает мне, что он мертв! Для меня он жив, в моем мире он и все они живы! Но в нем нет других, кто в этом мире прожил дольше своих жертв. Я не дождусь дня, когда я забуду и того последнего Каина, освободив в памяти место для очередного Вивальди или Бетховена, Шекспира или Гете! Я понимаю, что в этом мире каинов, брутов гораздо больше, но, к счастью, они постоянно убивают, чаще убивают себе подобных, потому что для них это единственный способ остаться в истории этого мира, где основными вехами являются даты наиболее массовых или знаменитых убийств и смертей, который и начался с убийства... - Да, милая, если честно, то радоваться есть чему! Хотя бы отрицателям отрицателей, - соглашался он с ней, словно протрезвев. - По крайней мере, нечему печалиться! - добавляла она. - Я ведь согласен с тобой и насчет Съезда Разрушителей, - продолжал Андрей свои мысли, которые пока все же не покидали его даже в ее присутствии, и им не могли помешать чувства. - Они не извлекли из истории никакого опыта - только мнимую выгоду. А между этими категориями разница колоссальная: выгода - это ветер, гуляющий из кармана в карман, а опыт... - Это та самая дырка в нем! - смеясь, добавляла она, - зашивают которую заплаткой из него же! - И потому нас ждет лишь ветер карманных перемен, перемен карманов, пока не настанет затишье перед следующей бурей, - печально констатировал он, - зреющей в их дырах! - Ужасно! - горестно восклицала она после этого, бросаясь к нему в объятья, горестные и для него всем последующим.... Объятья ее были невероятно мучительны для него, поскольку он так и оставался ее лишь платоническим любовником, любимым даже. Но они были настоль сладостны и нежны, что он не мог вырваться из них, как его ни сжигала неутолимая страсть. Теперь в любую минуту их разлуки, какие бы дела его ни занимали, он мечтал лишь поскорее оказаться дома, ласкать ее хотя бы взглядом, испытывая при этом томительно счастье, надеясь хотя бы прикоснуться к ее источающему ласку телу, осторожно поцеловать ее волосы, плечико, отчего губы будут сладко стонать до самого утра. Лишь случайно, в порыве восторга она иногда целовала, точнее, касалась его губ своими пылающими губами, их нераспустившимся бутоном, и каждый такой поцелуй оставался призрачным лепестком на его губах уже навсегда, и он даже мог различить каждый из них. Он был мужчиной и не мог забыть об этом в присутствии ее восхитительно наивной девственности, которая иногда просто сводила его с ума, шаловливой девчонкой вдруг садясь к нему на колени, вжимаясь в него хрупким телом, словно пытаясь в нем спрятаться... Но больше всего он и сам боялся того невозможного... Словно смерти он страшился их возможной, случайной или все же закономерной близости, которая бы убила это восхитительное ожидание, притушив хотя бы на миг его неугасимый огонь, которым он готов был гореть вечность. Да, ведь и тогда, когда она была задумчива, печальна, холодна ли - его пламя не угасало, оно просто становилось другим, оно всегда было разным: или резвилось под ветерком ее вдохновения, или же устремлялось к ней заботливым потоком солнечного тепла, согревая ее, или же готово было вспыхнуть, пусть даже сгореть в один миг, чтобы осветить путь пред нею, когда она вдруг терялась, не могла найти выхода, нужного слова, ноты... Но на самом деле от него требовалось не так и много, поскольку это она в основном и служила его неугасимой путеводной звездой, иногда лишь нуждаясь в его заботе, когда ее небосвод, нотный стан вдруг затмят тучки или... Но это так редко случалось... Единственно, с каждым днем его все сильнее стал мучить страх, страх потерять ее – именно такой! Он даже боялся вспоминать те свои былые мысли о потерях, боясь накликать беду. Она стала не просто его жизнью, она стала дороже нее, потому что потерять ее он бы вряд смог даже в мыслях. К жизни своей он так никогда не относился. Без нее для него теперь ее, жизни, словно и не стало... Глава 2 Теперь почти все в жизни за стенами их дома он делал машинально, совершенно не задумываясь, как кто на то посмотрит, кто что скажет по этому поводу. Со стороны могло показаться, что он до сих пор ведет активный образ жизни, постоянно участвуя в каких-то политических событиях, появляясь то в одной партии, то вдруг переходя в другую. Когда советы кончились под веселый смех Музы, он без угрызений совести пошел работать чиновником к их политическому оппоненту, потом поменял еще несколько таких же мест работы. Кто-то его высмеивал за такую политическую беспринципность и неразборчивость... в связях, как они говорили. Кто-то, наоборот, подозревал в некой таинственной миссии, заводя с ним загадочные разговоры на полунамеках... Но, в принципе, для многих в эти годы подобные метания стали обычным делом, поскольку и сама система металась и никак не могла определиться. Вряд ли вообще теперь существовала какая-либо партия, с какой-либо идеей, которую принципиально можно было бы предать, ну, типа «райского яблочка»? Большинство же политиков изначала делали деньги на этом рынке, но на них никто особого внимания и не обращал, их как бы и не подозревали в противоположных намерениях. К нему отношение было другое, потому что... Да, причина и была в том: он все это делал лишь ради одного - ему было нужно как можно больше свободного времени для Музы. А этого никто, во-первых, не знал, а, во-вторых, естественно, не мог понять, потому и начиная подозревать его в чем-то невероятном, то есть, просто подозревать... Все ведь было странным, потому что не имело банального оправдания. Каков же это был, допустим, карьеризм, если он, не достигнув чего-то существенного в одном месте, уходил вдруг с явным понижением в другое, потом еще куда-то? Что еще? Деньги? Но ведь так их не делают?! Копейка рубль бережет?! Но и деньги его не интересовали, особенно, если бы потребовали полной самоотдачи. Попав раз в частную фирму с хорошей зарплатой, он через полгода сбежал оттуда, потому что рабочий день его с каждым днем все удлинялся, создавая лишь видимость, что рост количества зарабатываемых при том денег приносил больше свободы... Но дело было и в том, что она чуть было не ушла от него насовсем и никуда, ведь она не могла жить одна, без него, хотя он вроде и нужен был ей лишь где-то рядом, иногда, когда был нужен... Но кто мог в то поверить, если теперь свободное время коммуняк перестало быть чем-то недоступным, а, тем более, какой-то ценностью, если его было более всего у бомжей? Деньги, ну, и карьера стали единственным богатством, с чем он и столкнулся... Его же в работе, если что и интересовало, так только количество даваемого ею свободного времени, то есть, свободы - больше ничего! Потому он поработал и в нескольких некоммерческих организациях, где этого времени и денег было больше всего - от выборов до выборов, где надо было лишь составить план и сочинить по нему отчет, ну, как и в комсомоле! Но эти организации постоянно рассыпались, закрывались, хотя тут же возрождались в ином виде... В них никаких требований к функционерам насчет партийной чистоты, убеждений не было, поскольку все они ориентировались на политический бизнес, в котором деньги не воспринимались обонянием... Да, иногда он забывался и вдруг начинал доказывать кому-нибудь свои былые, но совсем не устаревшие взгляды, что не всегда случалось к месту. Поэтому со временем он вообще перестал говорить об этом, даже встречаясь порой с бывшими собратьями по идее, что вызывало у тех язвительные усмешки, доставлявшие им немало удовольствия, даже удовлетворения. Они ведь сами либо остались только с одними убеждениями, в абсолютной нищете, либо на практике были вынуждены заняться совсем иным, поэтому его апатия была как бы комплиментом для них... Но и это его не трогало, он даже рад был доставить им удовольствие, не пытался переубеждать... Да, чтобы поскорее завершить их разговор и уйти к своей любимой, ведь для него теперь каждый миг был на вес золота, если не дороже, ведь каждый из них он мог посвятить ей, в том числе, и в трамвае, и гуляя по улице, а не только дома. Она ведь могла творить повсюду, для нее этот мир был безразличен в своем разнообразии и изменчивости. Но, конечно, лучше всего ей творилось дома, благодаря, увы, стараниям Петровича, приезда которого Андрей как раз больше всего и опасался... Он не верил ему, но и не знал, что же тот на самом деле задумал, что было довольно тягостно переносить. Остальным он не верил, прекрасно зная, что же им всем было надо, отчего они и перестали для него существовать. Планы Петровича были для него до сих пор загадкой, они простирались дальше денег и карьеры, даже очень больших денег, даже дальше него самого... И, поскольку он чувствовал, что сам является некой деталью, пунктом тех планов, то было ясно, что понять их системно было не просто, раз нельзя было посмотреть на то со стороны. Вряд бы кто заподозрил его в том, что все его метания, кроме всего прочего, и были вызваны стремлением увидеть все со стороны, чтобы понять. Он и сам то не скоро понял, подзабыв, что всю предыдущую часть сознательной жизни был исследователем, что стремление познать было для него тогда не просто работой, но и образом жизни. О да, это уже и тогда было в нем где-то на уровне подсознания, где, в принципе, и гнездятся наши страхи, в том числе и связанные с Петровичем... Но пока и это тоже для него было второстепенным, было после нее, властвующей над ним и там, да и везде... Даже свобода, к которой он всегда стремился, из-за которой оказалась чем-то второстепенным перед нею. Увы, ради свободы для нее он, видимо, мог пожертвовать и самой свободой, частью ли ее. Да, он бы с удовольствием согласился быть прикованным к ней навеки, чтоб никогда не разлучаться, стать ее рабом. Однако, он все же сомневался в том, что ей был бы нужен безвольный, покорный раб. Он мог довольно терпеливо переносить ее капризы, но ей-то больше нравилось, когда он их не замечал, чем когда покорно соглашался с ними. Ей нравились, хотя и воспринимались с досадой, даже со злостью, его редкие, но крупные заскоки, срывы, из которых он возвращался к ней, но не побитой собакой, не винясь, не каясь, а так, словно ничего не случилось, поскольку он ничего обычно и не помнил из этого... Нет, она ни словом не напоминала ему о том, не упрекала, зато набрасывалась на него с таким азартом, щипая, терзая, требуя от него непрестанной ласки, внимания, словно его не было вечность, при этом немного исподтишка, но пристально поглядывая на него, будто в нем что-то сильно изменилось. Если бы между ними когда-то и произошло это, так только в эти минуты, когда она требовала, ждала ли от него нечто новое, неведомое ей, когда ей было недостаточно их прошлого... Увы, у него же подобный пик возникал именно перед этим срывом, когда он уже не мог терпеть, переносить себя в ее присутствии, когда его сдержанность становилась злорадством, а щепетильность - мелочностью. Буквально сгорая, кипя внутри, он опускал руки, боялся сделать лишнее движение, чтобы не взорваться... Боялся, потому что все-таки замечал, что в это же время она, наоборот, выглядела очень усталой, утомленной, и ее редкие нервные срывы были всего лишь попыткой взбодриться, ожить. Видимо, им обоим нужны были его срывы, без которых жизнь стала бы чересчур монотонной, двигаясь лишь в сторону нарастающей усталости друг от друга... Чем она занималась в его отсутствие, он мог лишь догадываться по россыпям дисков, журналов, книг ли на полу, по бутылкам из-под газводы во всех углах, по ее отдохнувшему личику и прояснившемуся взгляду... Но сам он просто уйти, совсем уйти от нее уже не мог, поэтому теперь во время своих кратких заскоков он искал и нашел для себя новые компании. Его собутыльниками стали теперь поэты, художники и артисты, люди вольных ремесел, которые сумели обрести в эти времена хотя бы свободу, свободу от всего, начиная с денег, оставаясь извечно добровольными рабами лишь своего творчества, в чем он немного был на них похож, что, видимо, и роднило их. К счастью, их застольные мужские беседы были посвящены не просто, как у большинства мужчин, работе, а их творчеству, почти их любимым, так как вряд ли они могли любить что-либо еще так же сильно и беззаветно. И он легко находил с ними общий язык, хотя и говорил при этом лишь о ней, втайне от всех находя ее самой прекрасной, самой восхитительной любимой из всех. И если бы он вдруг сказал это вслух, то среди них вряд бы кто стал это яростно оспаривать, поскольку все были увлечены... своими. Причем на какой-то стадии, когда память уже начинала сдавать, а, может быть, как раз поэтому, они вместе вдруг создавали своими рассказами некий не просто обобщенный, а совокупный образ их любимых, чем, естественно, уже невозможно было не восхищаться всем... И тогда он словно бы вновь возвращался к ней, но по каким-то темным галереям памяти, проникал в ее альков, укрытый завесой словесных образов, снимал с нее словесные же одеяния и мысленно, хотя это казалось ему самой настоящей явью, овладевал ею со всей накопившейся в нем страстью, от которой и пытался сбежать прежде. Через какое-то время он даже понял, зачем ему нужны были эти побеги... Да, только здесь, в мире слов и образов, он и мог овладеть ею, не боясь потерять ее навсегда, потому что это и был ее мир. Отсюда ей некуда было сбежать от него, потому что лишь здесь она и жила, в том их мире пребывая лишь мельком, лишь едва различимыми следами своих нежных, босых ног, лишь призрачным силуэтом, всегда готовым исчезнуть, раствориться, оставив в его руках только невесомое платье и тоненький нимб янтарного ожерелья... Но, все равно, пока что она хоть частично, но оставалась там, в том их мире, почему, возможно, и не видела их, всего лишь словесной, но страстной, настоящей любви, не могла ему помешать, смутить его своим очарованием, своей поразительной красотой, которая могла бы сковать его руки, отяжелить его веки, сделать его каменным изваянием своей любви. В конце концов, он и сам вдруг переставал быть свидетелем их нескончаемых объятий и ласк, чтобы его разум ничем не мог помешать полету их чувств в высочайших небесах образов, где не было даже слов... Не было и его... После этого он порой с удивлением, а то и с испугом обнаруживал свое безжизненное, брошенное влюбленными, тело в таких местах, под такими заборами, где никак просто не мог оказаться даже случайно, совершенно ничего не помнящим, помятым, стонущим от болей из-за ударов о землю бытия после падения из поднебесья... Конечно, после этого ему было, что скрывать от нее, но зато и он смотрел на нее словно бы новым взглядом, словно бы лучше зная ее, больше зная о ней, отчего ее неприступный вновь для него облик становился еще богаче, дополняясь многим тем, что сейчас он вновь не видел, отчего она, ставшая для него более близкой, становилась, наоборот, еще более таинственной и чарующей - он ведь не знал точно, что то все было на самом деле, как бывает в этом мире, но он верил в это, как в дивную тайну, одаряющую его всевозрастающим влечением к ней, к миру совсем иному... Может быть, именно это и влекло ее к нему, а может, она все-таки знала или догадывалась о том, что произошло между ними там, и просто не могла тоже перевести это на язык этого мира? Как это ни странно, но эти их краткие разлуки, его заскоки, срывы, которые ранее приносили ему одни моральные страдания, еще больше сближали их души, укрепляли их платоническую любовь, которая без этого, возможно, могла бы давно уже взорваться, покончить с собой, поскольку иногда она становилась просто невыносимой и для самой себя... Проблемы начинались, лишь когда он оказывался один, даже не просто один, а какой-то пустой консервной банкой, пустой тарой, пусть и с яркой этикеткой воспоминаний, даже со всеми известной лейбой... Да, тем самым,.. просто ли ее маской, за которой и сам не видел, не ощущал ничего... Такое иногда случалось... Глава 3 Сегодня, спустя почти три месяца с прошлого раза, вновь наступил тот день, когда он с самого утра не находил себе места, просто выпрыгнув из постели, в которой она, наоборот, необычно долго для себя лежала, притворяясь вначале спящей, а потом просто вяло улыбаясь в ответ на его нетерпеливые, немного раздраженные вопросы, отказываясь от всех его слегка навязчивых предложений куда-то неопределенно пойти, сготовить что-либо непонятное... - Милый, тебе просто надо снова... сходить куда-нибудь одному, ну, туда, - наконец выдавила она из себя эту не очень приятную для нее мысль, потому что она не любила расставаться с ним, терпеть не могла, когда он уходил куда-нибудь вообще, особенно, если мог с ней остаться. - Мне этого ужасно не хочется, но я боюсь... Нет, тебе это просто надо, а я не могу с тобой пойти... У меня нет сил даже ссориться, а это, я чувствую, поссорит нас. Милый, поцелуй меня в носик и иди, я не буду сердиться, я буду просто ждать тебя, а ты знай это. Ведь ты не убежишь от меня? - Нет, я вообще-то хотел пойти с тобой, потому что мы ведь и так почти никуда вместе не ходим в последнее время, - пытался он говорить как можно решительнее, скрывая за этим свое нетерпение. - Но ты ведь знаешь, что у меня порвались кроссовки, и я пока и не хочу никуда ходить, мне некогда, я должна закончить это.., - с натянутой улыбкой отвечала она ему, боясь сказать неосторожное слово. - Да к тому же, сейчас и некуда пойти, сейчас там везде такая серость толп, слякоть обмана и туман надежд, что я просто боюсь простудиться и потерять голос правды. Милый, а ведь я - то лишь он, голос, и что же тогда от меня останется... тебе? Но ты должен сходить туда, увидеть все иначе, чем есть, увидеть это и глазами тех, кто всегда видит иначе, и потом разубедить меня в моих откровениях безысходности, чтобы в следующий раз, когда мы купим мне кроссовки, я могла бы пойти с тобой без всяких сомнений неизбежности... - Милая девочка, я куплю тебе скоро самые быстрые на свете кроссовки, хотя я давно мечтал принести тебе хрустальные башмачки, но ты почему-то не любишь ничего лишнего, - начал он, склонив свою голову на ее подушку и легонько касаясь губами ее волос… - Но милый, у нас здесь с тобой столько всего, что я боюсь в этом затеряться! - с веселым испугом отвечала она. - Вдруг ты меня не найдешь? Как мне тогда быть, если я сама не умею находиться? - Но ты ведь была без меня? - робко спрашивал он, в душе радуясь ее признаниям. - Да, но я и была лишь для того, чтобы ты нашел меня уже навсегда? А навсегда бывает только один раз, и это хорошо, - шептала она ему, приблизив свои горячие губы к его уху, которое застонало, начало полыхать от ее дыхания. - Сегодня мне снился странный сон, словно бы ты так крепко обнял меня, так сильно прижался ко мне, что моя кожа не выдержала, раскрылась, и ты вдруг вошел в меня, став почти совсем мною, хотя я и чувствовала, что это ты... Мне вдруг так сладко стало, словно бы ты был большим леденцом, который таял во мне... Я и сейчас еще чувствую твой вкус и твой жар. Можно я лизну тебя? Да, ты почти такой же сладкий, как мне и казалось... - Нет, я весь прокурен, весь полон желчи внутри! - через силу, сдавленным голосом говорил он, почти заставляя себя оторвать голову от подушки, подняться, не смотреть на нее, ощущая, что его взгляд предательски выдаст его чувства. - Хорошо, милая, я схожу ненадолго и скоро вернусь... - Да, а я попробую досмотреть этот сон, поскольку, мне кажется, он еще не сбежал от меня в долину миражей, куда меня в последнее время саму так манит, - тихо соглашалась она, постепенно закрывая веки и тихонько шевеля лепестками губ. - Боже, любимая! - прокричал он про себя и, не удержавшись, склонился над ней и легонько коснулся ее губ своими, отчего тут же весь вспыхнул, словно доменная печь, и побежал к холодильнику - залить жар чем-нибудь. Но там была только ее газировка, и он не мог ее лишить удовольствия, потому что не знал, сколько же он будет отсутствовать. Быстро накинув на себя куртку, он стремительно вышел на улицу, подставив побыстрей лицо, шею, ладони страшно прохладным струям морского воздуха... После этого лишь он осмотрелся по сторонам и опять не узнал город, в котором был еще вчера, но, казалось, что не был с того самого дня, как ушел из него с нею. Небо было мрачным, из него к земле свисали клочья влажных, свинцовых с виду туч, чья серость словно бы растеклась и по стенам домов, и по клочкам асфальта между огромными, словно бездонными выбоинами, ямами, и по сникшим ветвям, пыльным листьям старчески поскрипывающих тополей. Серостью были забрызганы и лица, и одеяния уныло плетущихся никуда прохожих, цепляющихся до синевы пальцев за свои пустые котомки, вырываемые из их рук безжалостным, но тоже усталым и равнодушным к последствиям, ветром. Грязные, проржавевшие до самого сердца, трамваи с закрытыми от страха глазами медленно съезжали куда-то по мокрым проводам на железных, заевших удавках, поскорее мечтая умереть хотя бы от удушья ночи, освободиться от своего утомительного и бессмысленного блуждания между двумя тупиками с ненужной ни в одном из концов, копошащейся внутри себя ношей. Больше всего их раздражал этот циничный, вызывающий грим, которым несколько домов густо закрасили свои старческие морщины почти мумий, бесстыдно обнажая перед прохожими новехонькие протезы колонн, на которые, если кто и польстился бы, то лишь закрыв глаза разума на все остальное. Ничего отвратительнее этой молодящейся ради денег старости на улице не было, отчего даже убогость и нищета развалин могла показаться античной скромностью, возвышенностью ли, а ржавые трамваи - боевыми черепахами легионеров, громыхающих под их броней своими древними, тупыми мечами... Да-да, он вновь понемногу заставлял себя смотреть на мир ее глазами, и уже через какое-то время смог оказаться посреди кипящих весной Елисейских полей, на мостовой ли Монмартра, цокая каблуками по булыжникам которой, навстречу ему шли две артистические натуры, щеголяя богемной небрежностью одежд, благоухая ароматом эля и шотландского виски, чье название цокало мимо них серебряными копытами самовлюбленного вдохновения... - О, Андрэ! - воскликнул радостно Гог, распластав ему навстречу крылья объятий, вечно перепачканные разноцветьем его солнечных пейзажей. - Эндрю! - вторил ему и з тумана почти Альбиона слегка смущенный Вилли, широким жестом сняв с себя черную шляпу, зияющую сквозной раной, очевидно, после недавней дуэли... Он не мог удержать эти две сильные, вдохновенные натуры в своем мире, откуда они мигом выдернули его в свой, каким он был на самом деле и тогда, совершенно не мешая их воображению порхать на крыльях фантазии среди мерзости бытия, которое было вполне подходящим для их творений холстом, грубость которого лишь способствовала нанесению на него четких, честных мазков, из которых только и мог получиться истинный шедевр, а не размалеванная фанера рекламы, откуда взгляд соскальзывал, словно с русской горки… - Идем к Леону! - заявил Гог, обняв его. - Он сегодня творит новый театр, для чего и пригласил Вилли со мной, конечно. Разве они смогут зримо все то представить без нас? Без меня то будет лишь шум вечно падающего в небо кирпича, но не Тангейзер... - Ну да, лишь ты можешь сотворить цвет молча воткнувшейся в землю сосульки, - весело дразнил его Вилли, заткнув пальцем дыру в шляпе. - Черт, сквозит так, что чернила стынут. Может, мы сначала того, разбавим чуть, а то писать будет нечем или очень больно? - Вилли, в одной твоей фразе - целая драма! - воскликнул с восхищением Гог, круто поворачивая в сторону магазина. - Я думаю, что у нас театр получится, театр одной фразы! А что, это гениально! - Это хотя бы лучше, чем нынешний, состоящий из нескончаемого множества фраз, подразумевающих всего одно, постоянно, но попусту кончающее действие, - со смешком согласился Вилли. - Черт, это уже вторая, но трагедия! - торжественно изрек Гог, протягивая деньги продавщице, подозрительно окинувшей его холодным взглядом, не оставшимся безответным. - Нет, милочка, вы будете там первой... опереттой, если мы сейчас еще и Амадея встретим. А встретим обязательно, лишь купим водки... - И пару пива, - добавил Андрей, облизывая губы. - Подумаешь, - небрежно бросила она им вместе со сдачей, - я и сама могу петь. Хотите услышать? Слушайте... После этого она, действительно, запела, причем почти голосом Витаса, уже не замечая их, забыв им дать и стаканчики... Гог даже не стал закрывать двери магазина, по пути очень внимательно прислушиваясь, пока они не зашли под какую-то глухую арку. - Слушай, а здесь ветер завывает или все еще она?.. - с тревогой спросил он, откупоривая бутылку. - А, вообще-то, женщины так не могут петь, - с сомнением произнес Вилли. – Ну, по сценарию... - Почему? Это в тебе, что, литературные гены проявляются? - спросил Гог, передавая бутылку Андрею, уже выпившему пива. - Ну, потому что их нельзя, - ответил тот печально, - генерировать, пальпировать ли даже перчаточникам... - А вдруг она тоже дитя Гермеса и Венеры? - спросил Гог. - Но она же не свистит, а... поет? - спросил тот. - О, только не надо новых терминов! - запротестовал Гог. - У нас и так уже такой бардак в этом! Представляю, каково сейчас слепым, которые думают, наверняка, что у нас уже совсем другая страна, слыша столько новых слов! - Да, зато глухие спокойны, - предположил Вилли, вдруг задумавшись перед тем, как выпить по второму кругу. - Слушай, а что если политиков тоже кастрировать? - А что, их было бы куда приятнее слушать! - поддержал его Гог. - Тогда бы белый дом и сделали театром оперы... - Ну, это старый анекдот, - поморщился Вилли. - Кстати, Эндрю, скажи только честно, ты сам никогда не надеялся стать президентом? Ну, когда у тебя карьера шла еще неплохо? А что, думаешь, он такую же чушь не мог нести? Я думаю, что мог бы и не такое... Скажу откровенно, что сейчас у нас, увы, политический Олимп занят сплошь горшечниками, ну, кухарками... - Скажу честно, - начал Андрей, но все же поперхнулся, почувствовав, что хмель вдруг ударил в голову. - Нет, когда поперло, то, правда, я не считал это чем-то невероятным... Кстати, не буду врать, я и сейчас считаю, что моя программа единственная для страны, без нее получается еще хуже, чем было... Но только мне это совершенно не нужно, вот что. Я бы не смог, пожалуй, лишь одно: делать умный, бодрый вид, когда дела бы вдруг не пошли, когда надо было бы опять врать... - А откуда бы ты знал это? - смеясь спросил его Гог. - Разве тебе бы такое сказали? Там ты бы сразу стал слепым оптимистом... - Моя беда в том, что я не умею верить, - с усмешкой признался Андрей, допив жадно вторую бутылку пива и почувствовав, что огонь внутри опять ненадолго угас. - Да, это большой минус для политиков, - сокрушенно сказал Гог, посмотрев на пустую тару. - Я, кстати, это понял недавно, проработав где-то с месяц на нашего местного божка, на кого тут все старухи почти молятся, - с легким презрением сказал Андрей. - У мэра что ли? - с явным предубеждением спросил Вилли, но вдруг добавил уже с интересом, - но как литературный персонаж он тот еще, кстати! - Вот именно, персонаж персон, аж! А к Леону мы, что, с пустыми руками пойдем? - засуетился Гог, шаря по карманам. – А, вообще, какое счастье, что сие нас миновало! Мне тебя, Андрюха, даже жалко, я ведь вижу, как все это тебе... - Нет, мне плевать! - резко ответил Андрей, доставая из кармана желтую купюру и передавая ее Гогу. - Пива тоже возьми - пить хочу страшно, хотя не пил уже три месяца, кажется... - Я тебя понимаю, - задумчиво сказал Вилли, когда Гог скрылся за углом. - Я тоже на это смотрю двойственно, в основном, наблюдая. Понимаешь? Там, где не нравится, я могу и по другому написать. Хотя сейчас совершенно не надо, как раньше, выдумывать сюжеты, персонажей - в жизни всего этого столько! Я просто поражаюсь тому, что сейчас повсюду сплошная выдумка, вранье. Зачем? Да бери из жизни все подряд, и ничего больше не надо, кроме редактуры, структуризации там... Жизнь сейчас просто чрезмерно натуралистична, а где-то просто абсурдна - не надо никаких излишеств! К чему все это вранье, я не пойму, это же низкопробно, пошло! А правда жизни не пошла, она трагична, она абсурдна, она прямо прет из подкорки, из подсознания зверя. Это ведь надпсихология, суперпсихология, ни в какое сравнение с их надуманным психоанализом! И что? Все мимо! Дешевая пародия! Сери-алы! Я просто не дождусь, когда же это хотя бы пошлое эстетство снобов уйдет со сцены, но вместе с порожденными ею же клановым презрением, подстилочным сучением похотливых ножек и щекотанием потных ладошек. Нигде нет жизни, правды и банальной честности... - Мне трудно с тобой согласиться, не согласиться, ведь я давно обожрался этой жизнью, глотая ее огромными, неперевариваемыми кусками, - горестно признался Андрей, - но забыл... - Да нет, ведь и честный романтизм - это прекрасно, он хотя бы о том, какой эта жизнь хотела бы стать, быть, - вдохновенно говорил Вилли. - Я говорю о том, какой стать жизни нельзя позволить, какой ее нельзя видеть, потому что глаза покроются грязью, слизью плевков, станут замочными скважинами, сортирными очками, а вся литература - уже грязной туалетной бумагой. О натурализме жизни я говорю лишь как о субстрате истины, о почве, о живительной грязи, из которой должны все же произрастать не плевела, а злаки! Увы, сейчас же на камнях взращивают сорняки, поливают их кровью и поражаются, почему так обильно плодоносят маки, уже в бутонах лишаясь лепестков, истекая пустым семенем грез! - Друзья мои, а вот и Амадей! Он все точно рассчитал, но забыл одно - мы часов не наблюдаем! - радостно вещал Гог, входя по арку, однако, один. - Однако, теперь мы должны подумать и о маэстро - он наверняка уже догорает на работе без нас, пожарных души! Вперед, друзья, нас ждут великие тела! Пошли!.. - Товарищи нищие, подайте собрату! - услышали они хриплый, с зычными нотками, голос из-под груды сырых, набухших туманом, лохмотьев, имеющих форму чего-то живого, громоздящейся на мраморных ступеньках подземного перехода. Увидев, что они остановились, говорящий собрат высунул из прорехи нос и довольно вместительную ладонь с невероятно длинными пальцами, благодарно заверещав, - вы, господа банкиры разума, даже не подозреваете, какое это счастье, встретить на входе мрачных преисподней собратьев, но от слова давать, дарить, а не брать, естественно! Сози-дателей! Тем более, что любой ваш дар гораздо щедрее в относительном плане, нежели подачки тех, кто по этим ступеням не ходит, чья дорога в ад - там, наверху, где лежат ваши тернистые тропы на Олимп. Глупцы, они и по ним ухитряются мчаться в пекло, куда вы нисходите лишь для того, чтобы вновь взойти на вершину духа, а, может, и на пиршество богов, кратким посещением ада искупив будущий грешок чревоугодия, единственно для вас доступный... - А где Амадей? - удивленно спросил Гог, озираясь по сторонам. - Ведь я же с ним шел? - О, создатель своих образов и подобий, он - уже там! Ему не досталось индульгенции - только ваучер, и он вынужден гореть, жариться на сковородке сердца после вчерашнего грехопадения на самое дно бытия, потому что его не хотят слушать и те, кто слышит, - продолжала вещать груда лохмотьев, из-под которой вдруг высунулась вторая рука со скрипкой и смычком, и собеседник их, приложив скрипку к тряпкам, так заиграл Ариозо, что друзья прослезились. - Амадей, а я тебя уже похоронил неотпетым! - печально сказал Гог, бросив тому в тюбетейку рубль. - Но почему у тебя тюбетейка, ты что?.. - О, нет! - радостно воскликнул тот, сбрасывая с себя лохмотья и, прихватив рубль, вставая во весь свой длинный, как бы складной рост. - Это мне от сменщика осталось. А мне даже твое отпевание было бы не нужным, да здесь и вряд ли бы кто спел лучше меня, поэтому я и не спешил бы с этим... Нет-нет, простите, вот его бы Муза спела, но ее нет с нами, потому я жив! - А чего придуривался тогда? - разочаровано спросил Гог. - А у меня как раз рубля до плана не хватало, - отвечал тот, аккуратно складывая переходные лохмотья, и пряча скрипку в футляр. - Так, у вас, что, плановое до сих пор хозяйство? - поразился Вилли, что-то записывая в блокнот. - Должен же где-то быть порядок? - чуть ли не обиженно спросил Теодей. - Что мы оставим детям - лишь благие намерения? - Не переживай, Амадей, весь этот бардак идет строго по плану, - успокоил его Гог, - потому ты не оригинален, я скажу. Ты лишь мало берешь в отличие от них, почему и прячешь лицо от скромности... Но нам пора идти, Леон уже пересох, как Аральское море... - Я прячу не поэтому, - засмеялся Теодей, - а просто никто бы не поверил, что еврей с таким носом может побираться, ведь мы же сейчас все миллионеры! А мне нравится быть и среди наших белой вороной, что даже проще... Но я согласен, пора идти! - Черт, Амадей, и почему я раньше не знал, что ты - еврей, я бы женился на тебе, и мы бы уехали сейчас в Израиль. Я бы подался там по местам Христовой славы, а ты бы.., - сокрушался Гог, зажимая слегка нос, потому что в переходе пахло и в самом деле преисподней. - Извини, тогда мы и о таких браках ничего не знали, - заворковал тот с одесским приговором. - Но теперь я на такой мезальянс не соглашусь... Да-да, ты-то что мне предложил бы в качестве калыма? - Амадей, неужели моя страна дешевле Израиля?! - обиженно воскликнул тот. - К тому же, на калым то твой сменщик собирает. - Нет, он собирает на сказки Шехерезады! - сентиментально ответствовал тот. - Под них только ему снится его родина... Я пробовал, но мне все это же и снится, поэтому мне не понравилось, этого мне и бесплатно хватает... Глава 4 Театр был пуст, и скрип их шагов по паркету гулко раздавался под высокими, облезлыми сводами. В просторном кабинете, обставленном мебельным сбродом, в глаза бросался древний стол красного дерева с резными ножками, вокруг которого широким шагом расхаживал Леон, хлесткими фразами декламируя что-то вальяжно рассевшемуся в потертом кресле, местному банкиру Фруктозову: - О, я же говорил тебе, Боря, что, если мы не пойдем к Парнасу, то Парнас сам придет к нам и в полном составе! - восторженно воскликнул он, протянув в их сторону руку, словно памятник на площади, с укором добавив, - но если бы не господин Фруктозов, то ваше опоздание, господа боги, дорого бы обошлось Парнасу! Вы только представьте себе, что бы могло случиться, если бы Ниагарский водопад вдруг пересох?! - Леон, у нас он не пересохнет! У нас, Леон, тут десять таких водопадов! У нас, Леон, тут Гольфстрим, или даже гольф-клуб - я точно не помню, но куда им до нас! - важно вещал банкир, надувая щеки и доставая из дипломата очередную бутылку, но уже дорогущего виски. - А, может, Камю? - Не-е! - запротестовал якобы Леон, театрально размахивая перед собой руками. - Французу Москву не отдадим! Тем более, он опять к нам через Польшу пожалует... - Обижаешь, Леон! - продолжал важничать банкир. - Мне его прямо из Франции везут. - А во Францию? - вежливо спросил Гог, открывая бутылку и быстро разливая виски по разнокалиберным хрустальным стопкам. - Господа, у нас все схвачено! - заверил Фруктозов, беря самую маленькую стопку, но налитую до краев. - Через пять лет мы будем хозяевами мира, Франция станет нашим винным погребом, а штаты - табачным ларьком. А мы с Леоном построим самый... Нет, Лень, я тебе лучше куплю Глобус. На четыреста лет как раз и куплю. Нафига мелочиться? Нафига они будут там свои шоу ставить, если у нас есть свой, как ты говорил, Чехов, Стас и Вилли? Хватит нам их виски. - Так они тебе Глобус и отдали, империалисты проклятые! - заинтриговано сопротивлялся Леон. - Хотя, конечно, мысль стоящая. Я ничего не имею против их нынешнего театра, но это же полный застой! Дальше Годо они не пошли, ни на шаг - ждут! А мы идем в новый век, четыреста лет исполняется театру Шекспира, а мы все в прошлом! Вилли, ты не улыбайся, это тебя касается! Ты понимаешь, я ужасно страдаю, но здесь я твои пьесы ставить не могу, мне нужна другая сцена, да, целый Глобус. В новый век мы бы и вошли с новым театром, с эпопеями, достойными нового века, создающими новый век. Кто его создаст? Прагматики американцы, снобы англосаксы? Новая душа нужна, широкая, размашистая, у которой нет никаких рамок, шор! С нас их вдруг сняли, а надеть нечего, нет таких, подобных даже! Мы же те самые новые варвары, потомки тех вандалов, кто разрушил Рим, античность, кто создал новую эпоху, породившую и театр Шекспира, создавшую и его героев! Но эпохи крайне медлительны, сколько минуло веков мрака, безмолвия? А зачем ждать? Почему мы еще столетия будем стоять рядом с колыбелью героев и ждать, когда из них кто-то вырастет? Не театр будет зеркалом мира, а пусть тот глядится в него, строит себя под него, по его канонам. У нас нет никаких рамок, и мы не будем их создавать для себя, мы сделаем их для мира, но не шорами, нет, а тем самым видеошлемом, в котором обыватель увидит новый духовный мир, а не экзальтацию старого... Вилли, ты понял? Хватит тебе кастрировать свои пьесы под наш гарем, пиши, как пишется! Фруктозов, ты когда реально сможешь? - Без проблем! Я сейчас позвоню и все скажу, - уверенно сказал тот и достал почти игрушечный телефон с длинной антенной из кармана, небрежно набрав номер. - Иосифович, прикинь там, сколько у нас свободных, а я через полчаса звякну... Что, какие проблемы? Какие еще слухи, Иосифович! К черту слухи, нас они не касаются, пусть какая шелупонь волнуется! Все, хватит, считай и жди звонка... Блин, эта Москва уже достала, одни паникеры! Ладно, наливай, через полчаса я скажу точно. А ты, Леон, прав, у нас никаких рамок не должно быть, только так мы их и сделаем, потому что они все в этих рамках, зашоренные, но все, что за шорами - наше. Они даже не подумают, что я у них соберусь купить их театр, они даже не поверят этому... с месяц, пока не услышат там пьесу на русском. Во, будет хохма! - Нет, друзья, я, конечно, патриот, но зачем мне зрители, которые не поймут ни слова? - засомневался важно Вилли. - Слушай, мы лет двадцать их Битлов, Роллингов слушали, не понимая ни слова, и ничего, - буркнул на него банкир, - пусть теперь они послушают! Пусть учат наш язык. Через бизнес их не заставишь, а через вашу культуру можно. Куда они денутся? Заплатят за билет, а в ответ - тишина! Да они удавятся за свои фунты стерляди! Выучат!.. В это время дверь открылась, и в кабинет вошла довольно высокая брюнетка с длинными волосами, с черными же глазами, словно уголья сверкающими на слегка матовом лице с крупными, но просто невероятно выразительными чертами лица. Все обомлели... - Так, встали! Итак, она звалась Татьяной! - вскричал Леон, и бросился ее встречать. Манерно жестикулируя, он провел ее к столу и усадил рядом... с Андреем, который уже не мог оторвать от нее глаз, потому что за один раз ее рассмотреть было невозможно, а точнее, ею нельзя было насмотреться... Он даже с некоторой ревностью уже ловил взгляды Гога, Фруктозова, Вилли, просто впившиеся в нее, словно они пытались отнять у него видения совершенно неземной красоты, приснившейся только ему... Леон даже хрюкнул от удовольствия, наблюдая за ними. - Друзья, хоть с ее лица и боги были бы счастливы испить амброзии, но, может, кто нальет и даме? - Я! - громко рявкнул Фруктозов и, схватив свою бутылку виски, бросился к ней. На ходу он передумал, сунул бутылку в руки Гогу, достал из дипломата бутылку Камю, мгновенно откупорил и, достав из шкафчика заветный фужер Леона, наполнил его и, низко склонясь, поставил перед Татьяной, наконец, произнеся, - здесь больше нет джентльменов, Татьяна... В это время вдруг и зазвонил его мобильный телефон... - Наука соврать не даст! – рассмеялся Гог. - Да! - громко, властным голосом рявкнул тот, небрежно поднеся к уху свою тогда еще диковинку, которая здесь была еще большой редкостью. Но после этого его лицо начало буквально на глазах терять форму, твердость линий, а голос - тембр. - Что? Кто позволил?.. Что ты несешь, Иосич?! Как ты смел им разрешить, ты, что, не мог мне позвонить? Сам президент? Но почему? Кто-кто?.. Ничего не пойму... А что-нибудь осталось?.. Ладно, больше без меня ни шагу, хотя... Я сейчас буду... Гог, налей-ка в стакан. Полный! Ничего не пойму, какой-то Де, ну, типа французский болт прикрывает банк, снимает все мои бабки, хотя и не только мои, конечно, но теперь меня такая солидарность не радует... Слушайте, мы где вообще живем? Это что за страна такая, Леон? Кто дал право какому-то недоноску, киндеру, взять и обобрать меня? Среди бела дня, с улыбкой на подлых губах, с конституцией в руках? Леон, и это мы хотели покорить их? Мы ведь забыли о главном - о наших недоучках, Митрофанушках... - Скажи прямо - об евреях! - громко рявкнул Теодей. - Но он же сказал о каком-то французском болте? – рассеяно переспросил с натянутой улыбкой Леон. - Французы у нас - это тоже евреи! - великодержавно произнес Теодей. - У нас все, кто играет на нервах или на скрипке - евреи! - Ну да, я так думаю, что французский, - мямлил уже растерянно, ничего не слыша почти, Фруктозов. - Де, именно Де Болт какой-то, или я не расслышал... Я пойду... Танечка, мои извинения, я столько хотел вам сказать, но теперь я как пустая банка... Но пасаран, комрады! Но пасаран! - это он уже говорил из-за двери, где к удовольствию Андрея наконец-то исчез. - Леон, так что, плакал наш Глобус? - сдерживая нервный смешок, спросил Вилли. - Лучше бы он плакал над твоими трагедиями, неудачник, - не скрывая смех, отвечал тот, закрыв лицо ладонями. - Я ведь его перед вашим приходом просто уговаривал, чуть не умолял остаться, выпить с нами, не спешить в банк... - Леон, а тебе-то что с этого? - недоуменно спросил Гог. - Вопрос в том, зачем он туда спешил, вызвал срочно своего Иосифовича и прочих! - покатываясь от смеха, отвечал тот. - Он мне обещал прямо сейчас перечислить кругленькую такую, ну, почти как сам, циферьку с этаким хвостиком, а я его не пущал, уговаривал скачала это обмыть, пока Москва еще спит... - Ну что ж, все-таки обмыли? - спокойно спросил Вилли. - Точно! - уже и не сдерживался Леон, закатываясь от смеха. - Обмыли! Покойника авансом обмыли! Служенье муз не терпит суеты! Ой, не могу! Сам помру! У меня ж ни рубля! - Зато, Леон, столько друзей, - качая головой, продекламировал Вилли, крутанув по столу монету, - у которых есть он, этот неразменный рубль! - Вот, теперь ты знаешь, кто твой друг! - зычно воскликнул Теодей и со всех сил впечатал рубль в столешницу. - А ты, Гога, еще спрашивал, зачем бедному еврею рубль! - Еще бы, ведь это был мой последний, - сокрушенно произнес тот, пряча руки под стол. - Гог, но ты ведь его отдал другу? - сквозь смех спросил Леон. - Ну, так мы вообще могли бы обойтись одним рублем, - поддержал его радостно тот, - отдавая его друг как бы другу... - И это был бы самый лучший вариант, - поддержала их Татьяна, выложив и свой рубль на стол, - которому не страшны дефолты! - Танечка, неужто эта проблема и вас волнует? - спросил уже сквозь остатки смеха Леон. – Ну, этих Де Фолтов... - Нет, волнует меня другая проблема, противоположная, когда этих рублей настолько больше, чем людей, - с усмешкой отвечала она, - что их нельзя поделить между ними, потому что на нуль не делится, даже если их много... - И эти проблемы волнуют власть? - удивленно спросил Леон. - Нет, Леон, меня, - серьезно ответила она. - А теперь, вот, того джентльмена вдруг взволновали, когда и его дама-власть обобрала до нитки, хотя вряд ли до последней. Раньше его не волновали предшественники, хотя их было столько же, сколько у него было рублей... - Танечка, это такие мелочи! Те-то миллионы остались, мы-то живы! - успокоил ее Гог. - Вы правы, я совсем об этом не подумала, - улыбнулась она ему благодарно, отчего ее щеки покрылись легким румянцем. – Да, думала, зачем им все же твой театр... Неужели им телеграфа, телевизора мало для вранья?.. Что они смогут соврать, поставить здесь, где все – наяву, все – налицо, где каждый актер – хоть и некий Аватар, но и сам герой одновременно, хотя и временно?... - Взятие Трои, но в розницу... А я вначале подумал, точнее, удивился, что вас зовут Татьяной, - вдруг сказал Андрей. - Но, оказывается, Пушкин перед Онегиным прочел все же заново Гомера... - Браво! - вскричал Теодей, высоко подняв свою стопку. - Это лучший комплимент уходящего в никуда века! - Да, Андрюша, тебе его, видно, твоя Муза навеяла, - слегка холодно сказал Леон. – Хотя насчет розницы ты прав, похоже... - Леон, не ревнуй, ты - режиссер, а не драматург. Да, ты - демиург сцены, но позволь нам слагать и для нее комплименты, дифирамбы, а не только сакраментальные вопросы, на которые жизнь давно ответила, оставив нам хотя бы уста задавать тот вопрос, не говоря уж о глазах! - восторженно, но путаясь, говорил Вилли. - Сегодня мне мои глаза однозначно сказали - быть! Вчера еще я думал, что после Гомера нам сказать больше нечего, не о чем. Увы, теперь я хотя бы понял, ради чего была разрушена и наша Троя! Ну, Третий Рим! - Что ты, Вилли, я не ревную, поскольку я, как Онегин, сам любить не умею, - сдержанно отвечал ему Леон, - просто мне вслед за тобой жалко... неудачников Парисов, как и сам Парнас... - О, да, Леон, но сегодня нам стоит пожалеть недавнего Креза. Его сокровище просто не выдержало конкуренции и буквально на глазах поблекло, испарилось, обратилось в пар, едва он попытался сравнить его с Татьяной! - весело добавил Вилли, разливая всем Камю. - Выпьем, друзья, за вечные, бесценные сокровища нашей жизни, за сегодняшний прекрасный урок нам, мужчинам. За Красоту! - Господа, ваши слова я могу посчитать взяткой, что я больше всего ненавижу, - смущенно пыталась остановить их Татьяна. - Нет, ведь взамен мы у вас требуем лишь право давать эти взятки беспрестанно и только! - внес свою лепту и Гог уже слегка заплетающимся языком. - Хотя я, конечно, слегка кривлю душой, потому что я готов давать их за право еще и смотреть на вас глазами художника, которые подобны вору. Да, красавица, ваш образ у меня уже и по суду не изъять из памяти… - Часть, только часть, любезный Гог, поскольку твои краски вряд ли способнее моих слов, в которых я могу описать и цвета, и полутона, и борьбу света с тенью, и дня с ночью, и Менелая с Парисом, дав этому всему и ее настоящее имя, да, назвав эту красоту любовью, о чем ты лишь сможешь намекнуть, так и не признавшись ей, поскольку это можно сделать только словом, - спорил с ним Вилли. - Нет, я все равно чувствую себя среди вас взяточницей, да и не хочу отвлекать вас от разговоров об искусстве, о более высоком. К тому же, я вынуждена идти, - скромно сказала она, вставая. - Я провожу, - вскочил Андрей вслед за ней под протестующие взгляды Леона, который так и норовил оттолкнуть его в сторону. Но Андрей уже ничего не замечал, кроме нее. - Я провожу и вернусь... - Спасибо, но мне совсем близко, - пыталась она остановить его, сгладить немного неловкость, возникшую среди них. - Леон, я позвоню по поводу театра через неделю, после отпуска... Пока я, правда, не понимаю ничего... - Да, если мне и телефон не отключат, - пробурчал тот недовольно, возвращаясь в свое кресло. - Я ведь теперь полный банкрот, они ж мне пообещали погасить свет еще до начала представления... - Это ты-то?! Леон, даже если тебя лишат этого здания, ты, что, не сядешь на повозку, не поедешь со своей труппой по долам и весям, как то было во времена Гамлета? Разве в театре главное - эти стены, крыша, крышка ли? Разве театр может умереть? Я уверен, что останься от человечества всего двое, два последних человека, они вновь сыграют, не отступив ни на слово, ту первую божественную трагедию, разделив между собой роли Каина и Авеля, прежде чем отправиться, отправить ли друг друга вслед за остальными актерами за кулисы вечности! - горячился раскрасневшийся Вилли. - А кто будет у них суфлером? - спросил с усмешкой Леон. - Секундантом? Лучше спроси, кто будет режиссером последнего спектакля под названием жизнь неразумная? - тем же ответил ему тот, когда Андрей уже выходил вслед за Татьяной... - А разве бывает такая? – озадаченно спросил Леон, и тут теряя, все теряя в последние дни. – Это не жизнь! Я даже не смогу такую поставить, хотя сегодня на Западе и ухитряются, конечно, но у нас ведь такой не бывает, мне кажется... Ну, вот, как у него! Я бы совсем ее иначе поставил, с множеством прелюдий... А тут!.. Встал и пошел! - А ты вместо этого сел и сидишь, – с укором заметил Вилли, - ждешь, пока и твою Мельпомену уведут! А это ведь последнее пристанище Свободы, ну, хотя бы творчества! Другой я и не знаю... Глава 5 - Вы?.. Андрей? Скажите, Андрей, зачем вы пошли за мной? - откровенно спросила Татьяна, едва они вышли на улицу, по которой, визжа тормозами, носились джипы, Мерседесы, не обращая никакого внимания на гаишников, наверное, единственных пытающихся еще остановить вдруг нагрянувший на город, на всю ли навороченную страну, хаос. К счастью, пешеходы, еще ничего не знавшие, не осознавшие ли, по-прежнему безучастно топтали грязный асфальт, но лишь тротуаров, может, лишь чуть-чуть мстительно злорадствуя над растерянностью, пусть даже временным замешательством бывших невозмутимых, чересчур возомнивших себя победителями. Последние ведь не ожидали, что их тоже так могут кинуть, как пешеходов, которые давно уже не ждали ничего иного... - Если честно, то не знаю, просто не мог не пойти, - с натянутой улыбкой ответил Андрей, глядя ей прямо в глаза, взгляд которых буквально пронзал его насквозь. - Может, вы не знаете, и что сейчас произошло? - спросила она, направившись не спеша в какую-то из двух сторон, откуда вдруг выглянуло летнее солнце, развеяв сырость грядущей осени. - Мне все равно, - безразличным голосом ответил он, - все это ведь происходит не со мной.., а с такими же, как они сами... - И вы никакой ответственности за это не ощущаете? - с некоторым любопытством спросила она, вновь опалив его взглядом из-под слегка опущенных ресниц. - Вы же были одним из первых, насколько я знаю, одним из них как раз, кто сейчас там и правит бал... - Да, вы правы, для меня немаловажен вопрос: был или не был, - усмехнулся он добродушно и совершенно безучастно, - но сегодня, мне кажется, это уже совершенно не важно. Немного важно еще то, а был ли, есть ли я вообще! Наверное, я и пошел, чтобы убедиться в этом. Других критериев у меня почти не осталось... - Спасибо, но только критерий, я думаю, это уже не комплимент? - спросила она и засмеялась, словно рассыпала жемчужное ожерелье по мраморному полу. - Но я это не из простого любопытства спрашиваю. Я не была даже во вторых рядах, но жить, а особенно работать, мне приходится непосредственно среди последствий. Мне бы хотелось понять, все это ожидалось с самого начала, все только так и может, должно быть, или это все же непредвиденные обстоятельства? - Но почему это вас так волнует? Я не понимаю, - с удивлением спрашивал и отвечал он, пытаясь сосредоточиться, поскольку хмель не спешил выветриваться из головы. - Если вы работаете во власти, насколько я понял, и вас это действительно волнует, то знание вряд ли сделает работу более привлекательной... Знаю по себе! - Хоть это вряд интересно, но я работаю в так называемой разрешительно-запретительной службе, - немного смутившись, отвечала она, - и, к сожалению, хорошо знаю тех, кто запрещает, и тех, кто просит разрешения. Это знание и так вряд добавит оптимизма, потому что обе стороны стоят друг друга. Нет, я себя ни к одной из них не причисляю, я просто исполнитель. Но мне хочется знать, ради чего все это? Если только ради того, что сейчас и происходит, то это ужасно, но если перспектива всего этого была иная, то я именно своей даже честной как бы работой приношу, может, только вред... Это кошмар, но пока позитивного ответа я для себя не нахожу... Может, я хотела бы услышать подсказку? Не знаю... Но вы ведь знали, чего вы хотели добиться? Я не верю, что это был бунт ради бунта... - Честно говоря, я и оттуда сбежал... вслед за вами, потому что сейчас почти везде чувствую себя, как в ловушке, в которую попал с вполне благими намерениями, забыв, куда те ведут, - отвечал он, купив по дороге банку пива и отхлебывая прохладный напиток. - Видимо, я должен поблагодарить вас за этот вопрос, потому что мне давно хотелось на него ответить, но его никто не задавал, никому это не надо, и мой ответ, оправдания ли не нужны. Всем я, если нужен, то в роли виновника произошедшего, никто из них не хотел себя им назвать, даже просто считать. А я всем: чужим и своим - нужен был изначала именно в таком качестве, отчего я и стараюсь всех избегать. Да, таким я нужен и бывшим соратникам, которых предал якобы, потому что не хотел сразу уйти от ответственности, хотел повлиять на все это, считал возможным. Я нужен и противникам, которым не к лицу какая-то ответственность, даже причастность к этому, они ведь этого и не произносили, уступив право озвучить нам, мне. Всем нужен тот, в кого бросать камни. Конечно, я сам напросился, сам вылез на рожон, поэтому грех жаловаться, глупо... Я ответил?.. - Почти, - неуверенно, но, как показалось, с нотками жалости, сказала она. - На мой вопрос вы почти ответили, хотя... Но на ваш, мне кажется, совсем неправильно. Стать безмолвной мишенью для камней, то есть, не говорить правду - это не выход. Я понимаю, что разочарование - очень сильное чувство, но зачем его переносить на себя? Если цель еще не достигнута - зачем делать выводы? - Разочарование не в этом, - с горечью отвечал он, злясь на себя, потому что совсем не так хотел бы ей отвечать. - Мне иногда кажется, что цели здесь вообще быть не может... Ее и нет! - Но почему? Скажу откровенно, что происходит у меня: я либо разрешаю некое зло, либо запрещаю его, но опять в пользу другого зла! - с волнением говорила она. - Если цели нет, то неужели нет выхода и у меня, и я всегда буду работать только на зло, причем честно? Зачем? Может, лучше ничего не делать, и бездействие в такой ситуации - добро? Это не праздный вопрос, не философский - я так была воспитана! И к вам я потому обратилась, что вы... ушли, перестали сопротивляться, добиваться ли чего-то, очевидно, поняв что-то... - Могу ответить научно как бы.., - неуверенно начал он. – Штатовцы и их протеже, мои бывшие соратники, убеждены, что все у нас происходит по их якобы модели «управляемого хаоса». Наши спецы тоже уверены, что управляемого, но по их скрытому плану. Но реально сейчас все и во всем в мире просто обращается в хаос из-за приближения мира к некой точке сингулярности, вблизи которой даже математические функции теряют смысл, обращаются в бессмыслицу, стремясь, якобы, к бесконечным величинам. Для меня все началось с краха Госплана, Порядка, почему я понадеялся на другие планы, схемы... Но какая тут может быть цель – сама сингулярность, хаос? Не у нас - везде, хотя там еще надеются, но не все, правда... Может, в кафе? - Нет, пойдемте лучше ко мне, - спокойно предложила она. - Терпеть не могу нынешние... заведения, совсем не похожие на прошлые рестораны, где хоть и пахло столовой, но было светло, просторно. Сегодня там чересчур по-мещански уютно, и тебя словно вынуждают быть похожим на них. Мерзко! А мне тоже, видно, захотелось выговориться. Надоело играть. У Леона ведь тоже игра, и в то, что ничего будто не происходит, ничего не случилось, все - Театр! Мне нравилось, что у него можно как бы выйти из этого мира, спрятаться за декорациями, на вершине пусть надуманного Олимпа, откуда этого мира не видно. Это прекрасно, что мы можем хоть где-то спрятаться от той грязи, сохранить душу, культуру в абсолютной чистоте. Я читала и про чистое искусство, это уже было. Что и от него осталось? Всемирная уже массовка, буквальная Попса? Увы, и там самообман, наподобие новых забегаловок! Ненавижу ложь с детства!.. Последними словами она словно дала ему хлесткую пощечину, отчего он окончательно протрезвел, устыдившись некоторых надежд... Но они уже входили в ее однокомнатную квартиру, где было чересчур просто и на удивление просторно. Все было белым, светлым, и на фоне этого ее красота была еще выразительнее, ярче... Здесь невозможно было спрятаться, нельзя было спрятать, скрыть свои мысли, чувства - он это сразу понял, понял и смысл ее последних слов. Это была правда, отчего ему стало вдруг легче... - У меня есть только чистый спирт, ну, для медицинских целей, но я и сама бы немного выпила его, даже лучше, чем что-то такое, - предложила она, ставя перед ним пепельницу... Кому – Камю! - Раньше, в науке мы только спирт и пили, - с теплотой вспомнил он, проходя вслед за ней на кухню, где кроме холодильника, кухонного стола, плиты и пары стульев ничего почти не было. - Не люблю тесноты, а здесь и без мебели уже тесно, - оправдывалась она, поймав его взгляд. - Наоборот, мне так больше нравится, - признался он так откровенно, что она рассмеялась. - У вас все наоборот? - естественно спросила она его. - Это долгая и не совсем правдоподобная история, но сейчас я живу в абсолютно немыслимой для себя обстановке, к счастью, не в своей, - смущенно, краснея про себя, отвечал он. - Хотя это и закономерно, так как я вообще сейчас везде - не в своей тарелке... - А я только здесь, мне кажется, и могу чувствовать себя собой, - довольно сказала она, довольно быстро наполнив маленький, серебристый поднос всем необходимым. - Но кухню не очень люблю, если честно. Здесь мы жили с мамой, но потом я все переделала... сама. Больше я нигде этого сделать не могу... сама! - Я там не могу этого сделать, увы, - печально заметил он, немного замявшись перед журнальным столиком. - Садитесь в это кресло... отца - единственное, что осталось от прошлого, - сказала она, сев напротив и поставив перед ним графинчик со спиртом и банку с водой. - Но мне не хочется это вспоминать, потому что ностальгия сейчас так естественна, чтобы не казаться банальной. Сейчас все ностальгируют. Одни - по содержимому холодильников, другие - по равенству в нищете, третьи - по самим себе. Я стараюсь отключаться: читаю, пока не засну... - И так всегда? - не сдержался и спросил он. - Я, к примеру, не ожидала, что кто-то вдруг решится проводить меня, это было так удивительно, - понимающе усмехнулась она. - А Фруктозов? - спросил он тоже с усмешкой. - Фруктозов? - со смехом переспросила она, взяв рюмку с чистым спиртом и доливая в нее воды. - Да, он бы не смог уйти, не прихватив с собой что-нибудь! А вы - чистый? Или просто бравируете? - Я много работал на природе, где все чистое, где не принято разбавлять, где, кстати, так похоже на вашу квартиру, - откровенно говорил он, совсем не выдумывая слов. - Может, и выпьем за чистоту? - С удовольствием! - поддержала она, хотя не скрывала своего отношения к содержимому своей рюмки. - Следующую я попробую тоже так... Наверное, после чистого жизнь кажется еще прекрасней? - Да, но после этого уже нельзя будет разводить, - предупредил Андрей, вытирая слезу. – Я однажды попробовал... - Так и должно быть, - согласилась она, посмотрев вдруг на него непривычно тяжелым взглядом, который тут же рассеялся. - Извините, вы только не обращайте на некоторые мои слова внимания... Я после этого иногда становлюсь чересчур разговорчивой... - Но мы и пришли поговорить, - спокойно ответил он, налив ей немного чистого спирта и пододвинув стакан с холодной водой. - Внутренне я была уверена, что вы и не сможете не пойти, - сказала вдруг она, доставая из пачки сигарету. - Я имела в виду не то, что было там, а вообще, сразу... Вы мне таким и казались. Я даже немного была рада, что не ошиблась. Устала во всем ошибаться... - А мне кажется, что я никогда не ошибался, - с улыбкой сказал он. - Максимум, что я допускал в случае неудач, что это обстоятельства ошиблись, не поняв меня. До сих пор себя считаю правым, но и это никому не нужно. Все настолько привыкли к новой теле-лжи, напрочь отвыкнув даже от слова «Правда»... Я не имею в виду вас, потому что я тоже рад наконец-то ошибиться... - Но ведь вы живете с Музой? - открыто спросила она, глядя прямо ему в глаза. – Для Леона это больной вопрос... тоже... - Увы, я живу рядом с ней. Если честно, с Музой жить невозможно, нельзя, - совсем не испугался он вопроса, даже не смутился. - Почему? - с любопытством спросила она, но словно это ее как-то задевает. – Я о ней слышала только хорошее... - Она не может мне принадлежать, мне лично, иначе она перестанет быть собой. Для меня это трудная обязанность - оберегать ее, - пытался он объяснить то, что было не понятно и самому. - А я? - спросила она, после того, как выпила спирт и смогла говорить. - Что бы вы могли сказать обо мне, что вы сейчас думаете, если вы также не любите, ненавидите ложь?.. - Я? - переспросил он и растерялся, запутался в мыслях. - У меня, у нас ведь есть время, чтобы поговорить? Я не могу это сказать в двух словах, отвечая на вопрос. Хочу сам сказать... - Конечно, мы ведь и пришли поговорить, - с напряженной улыбкой ответила она. - Мне, признаться, не с кем поговорить откровенно, поэтому хочется скорее наверстать упущенное, хотя это глупо, может... Не обращайте внимания, если я тороплю - потом я буду просить вас не заканчивать, вновь ли возвращаться. Нет, комплиментов я наслышалась, но это же не обо мне… Это о мечтах... - Я это понимаю, ведь я, примерно, в такой же ситуации, когда обо мне и речи нет, словно сам я отсутствую, - с трудом собирался он с мыслями, едва сдерживаясь, чтобы не выпалить ей то, что он сейчас чувствовал, а не думал. - Я, может, потому и ушел от всего, потому что стал лишь с этим ассоциироваться, с тем, то есть, что я даже ненавидеть не могу... Мне сейчас очень трудно говорить, очень непривычно, но страшно хочется, и я просто боюсь выпалить это в трех словах, после чего мне уже сказать будет нечего... Мне очень приятно вам вообще что-то, хоть что-то говорить... - Не знаю, может, вы несете чушь, но мне ее приятно слышать, - тихо сказала она и, закрыв глаза, откинулась на спинку кресла. - Не знаю, может, я просто привык жить словами, мыслями, разучился просто жить по-настоящему, но я никак не могу представить себе переход из мира слов в мир чувств, да, любви, которая меня сейчас переполняет и рвется наружу, уже обнимает вас, целует, уже умирает у ваших ног, может, уже умерла, почему я только и говорю, даже удивляясь, что вы слышите, слушаете меня, - неожиданно для себя признался он ей, не сумев сдержать овладевших им чувств, которыми, как ему казалось, он жил уже давным-давно, но только не знал, что это и есть жизнь, что такая бывает вообще... - Мне кажется, что я и не слышу вас, - тихо призналась и она, не отрывая глаз, - а на самом деле чувствую на себе ваши руки, прикосновения ваших губ... Вы словно околдовали меня... еще там, и я не могу открыть глаз, не могу оттолкнуть, хотя... Говорите еще... - Я не могу говорить, потому что я так реально чувствую ваши губы в своих, - хрипло проговорил он и, отодвинув столик, упал перед ней на колени и прижался щекой в ее коленям, взяв ее ладони в свои. - Нет, скажи еще! - попросила она, сдерживая учащенное дыхание. - Я не хочу, чтобы это произошло здесь, в этом мире, где все так просто... Уведи меня сначала отсюда, туда, куда... ты пошел за мной... Я это видела, почему сразу же захотела вслед за тобой... - Да, я тоже это почувствовал! - обрадовано воскликнул он, гладя ее руками, целуя ее вздрагивающее от каждого прикосновения тело. - Но я ведь и выходил за тобой в иной мир, который на самом деле реальнее, чем тот. Даже то, что ты пыталась мне рассказать о своей работе, было не из того мира, там такого нет... Там не может быть такой, как ты... Мне сейчас кажется, что ты туда случайно заглянула, чтобы лишь забрать меня сюда, в мир истины, истинной красоты, в которой я сейчас купаюсь, словно в лучах солнца... - Но я ведь сожгу тебя, - предупредила она, обняв его голову, зарываясь пальцами в его волосы, - ничего не оставив для Музы? - А я уже чувствую, как сгораю, но в твоем мире невозможно сгореть, здесь можно лишь гореть вечно, или он исчезнет, - шептал он ей, ласково расстегивая ей пуговицы на груди, на волнуемой ветром шелковистой поляне живота, вслед за тем же ветром улетая в бездну, где зарождалось солнце страсти, неистово ждущее своего освобождения. - Мне кажется, что это уже и не я говорю, потому что я и сам все это слышу со стороны, потому что мне слова уже не нужны, я понимаю любовь и без слов, я вижу ее саму, трогаю ее, целую... - Да, пусть он говорит, а ты иди ко мне, иди в меня, - шептала она, притягивая его к себе, раскрывая ему навстречу трепещущий лепестками цветок губ, в котором он почувствовал себя огромной пчелой, тонущей в море нектара. - И ты прав, и я... Мы лишь вдвоем могли попасть сюда... Одна я и не могла... - Да, только я могу унести тебя на своих крыльях в его дали, - тоже между поцелуями шептал он, унося ее на руках в самое небо, на поляну невесомых, белоснежных облаков. - Да, но только я могу тебя спрятать в себе навеки, забрать тебя навсегда, оставить здесь, в бесконечности твоей ласки, - вырывалось у нее из груди очередное признание. - Да, но только я могу обнять твою бесконечность нежности нескончаемым Млечным путем, целуя тебя всеми его звездами, - доносилось до нее откуда-то из-за самого дальнего его созвездия... - Да, но только я могу стать нескончаемой вселенной любви для всех твоих лучиков, пронзающих меня стрелами любви! - вскричала впервые пронзенная вселенная. - О, да, только ты могла взойти алой зарей на моем бескрайнем горизонте, опалив, пробудив своим сиянием и жаром уснувшие цветы моей страсти! - летел он навстречу ее крику призывным курлыканьем белоснежных солнечных стай. - О, да, но только ты мог зажечь мой неугасимый огонь, прорвать пелену ночи своим властным лучом! - парила она над ним легкокрылым эхом их криков, слившихся в аккорде объятий. - О, да, но лишь на фоне твоего бесконечного, вечного неба любви, он и мог вспыхнуть пусть на миг, но самым ярким метеором, в одно мгновение счастья спалившим всю свою вечность! - пронесся он над нею всесокрушающим громом, сорвавшимся с небес к ее ногам ярчайшей молнией, вдруг погасшей в искрах водопада, преодолевшего, прорвавшего вдруг плотину ее тысячелетнего ожидания... - Боже, мне кажется, что это все была сказка, какой-то волшебный, неземной мираж, - шептали неслышно тихие травы ее дыхания, слегка волнующиеся под стихающими порывами вечернего бриза, отставшего от урагана. - Ведь ты все это лишь говорил, правда? - Мне кажется, что даже говорил это не я, потому что в это трудно поверить, - говорил ей чистую правду он, с изумлением паря бабочкой взгляда над волшебным цветком ее красоты, который вновь затмил собой все его видения... - Но я, правда, была и твоей вселенной, и твоей зарей? - недоверчиво, боязливо, но с затаенной надеждой спрашивала она. - Да, мне кажется, что я до сих пор лечу в ней лучом, все еще не погасшим метеором, - подтвердил он ей и свои предположения. - А я верила, что это так и должно быть, но совсем не надеялась, что это правда, - вдруг с испугом прижалась она к нему. - Самое ужасное, что я стала думать и об этом, как обо всем остальном, я начала подозревать, что и любовь стала частью их мира, стала подобной ему, такой же! Я ведь все это видела, замечала со стороны, боялась даже на шаг приблизиться к краю той пропасти, которая бы вдруг разверзлась на месте того слова... Я даже стала бояться произносить его вслух... Слышать лишь со стороны, со сцены – игру?.. - Поэтому ты и просила меня вначале сказать? - ласково прошептал он ей, все еще боясь закрыть глаза, чтобы это не оказалось все сном, из которого бы не захотелось пробуждаться... - Да, - ответила она, - но теперь я не хочу произносить это вслух, пока мы хоть немного, но в этом мире. Не произноси здесь этого слова. Если захочешь его сказать, то ты всегда найдешь меня там... - А ты меня, - сказал он, утопая взором в ночи ее волос. - Мне, правда, так хочется совсем уйти туда, - сказала она, вдруг став росою на лугах его ночи. - Меня здесь совсем ничего не держит, даже я сама. Ты знаешь, я сама себе теперь кажусь ужасно смешной, ну, та, до этого... Разве можно ей сравниться со мной, с любимой... Нет, в этом мире я даже не попрошу твоей любви, ни слова ее! Ты дашь ее мне сам, но лишь забрав меня отсюда. Я ужасно боюсь, не хочу, чтобы наша любовь даже попыталась жить здесь, приспосабливаться, обустраиваться... Только знай, что там я тебя буду ждать всегда, в любой миг!.. - А я всегда буду стремиться туда, как и свет летит в вечность, ощущая ее в каждом миге, - пообещал он ей. - И теперь мне даже не страшно будет жить в этом мире ненависти, - призналась она. - Может, его и нет, он и есть мираж? - с надеждой спросил он. - Я не знаю, - прошептала она, заснув у него на плече... Глава 6 Вечность ее выходных дней пролетели для них, словно миг, как и нам показалось, но домой он возвращался будто из долгого космического путешествия в другую галактику. Ему казалось, что у него появилась другая, третья жизнь, так же дорогая, как и вторая. И он спешил к той сквозь эту, первую, промежуточную, ставшую еще менее значимой, пустынной, похожей на хрупкий, скрипящий мостик меж двумя цветущими берегами счастья, пока еще так далекими друга от друга, но чем-то все-таки похожими. На полпути он четко осознал, что не сможет теперь жить без них обеих: без той, которая живет для него, и той, ради которой он живет там, идет по этому мостику... Мостик был пуст, как обычно по воскресным вечерам. Сегодня мир вокруг вообще казался вымершим. И пешеходы уже осознали трагичность произошедшего с ними и попрятались в своих тупичках от ужаса улиц, вновь напомнивших о себе... Скольких из них сожрал за эти дни страшный Минотавр неизбежности? Кто знает! Но ему вдруг показалось, что почти всех, потому что и редкие пешеходы, и даже пассажиры авто казались лишь бесплотными тенями людей, из которых вместе с уверенностью испарились и остатки жизни - они словно сами избавились от нее, ставшей чересчур невыносимой. Они тоже искали что-то, может быть, тоже другую жизнь, но искали ее среди этих развалин огромного лабиринта, где их повсюду гарантированно ждала только смерть... Они ведь и не подозревали, что, считая свое странствие по его галереям и тупикам жизнью, они сами неизбежно выбирали своей конечной целью ее противоположность... Да, они, в отличие от него, шли не по мостику от одного берега к другому, а неслись по течению той самой Леты, считая мелькание над головой чьих-то шатких, редких мостиков вехами, признаками собственного движения, прогресса, жизни. Если бы они хоть подумали, что за спиной-то у них, кроме тех чужих мостиков, ничего больше и не остается... Но куда там - они даже берегов не замечают, считая их мертвыми, недвижными призраками в тумане, самим ли туманом, если тот вдруг колыхнется, проявит признаки жизни... Протоки же этой реки забвения несли свои незримые воды и вдоль улиц, переулков, захлестывая и тротуары, если вдруг встречали на их сером пляже кого-то из слепцов, кто воспринимал жизнь, реальность лишь через удары о столбы фонарей, о стены домов, пороги, лишь взлетая и падая в ее бурунах и водоворотах... Но Андрей не смотрел под ноги и словно парил над их миром на крыльях мостика. Поэтому он и не замечал никого теперь, в отличие от тех дней, когда обитал на одном берегу с Музой, замечая все-таки несущиеся мимо него жертвы заблуждений. Позавчера еще он видел их нескончаемые разъезды от одного тупика к другому по кажущимся им бесконечными улицам, длинна которых чудилась им несравнимо больше ширины, в чем и состоял главный зрительный обман их пространства, свойство которого они приписывали времени, вечности, расставляя и там свои столбы, светофоры. Но в действительности они даже представить боялись, что время - это и есть тот его узенький мостик, ограниченный с двух сторон перилами сегодняшнего момента, так называемого Настоящего, поперек которого они якобы и мчались с закрытыми глазами, даже не замечая, что просторы истинно настоящего времени, вечности открываются совсем в ином, поперечном для их направлении, по которому он теперь и брел в одну из совершенно равноценных сторон жизни: от Любви – к Музе... Брел и удивлялся, как же тут, меж двумя перилами, они ухитрялись уместить хотя бы прошлый век, уже давно готовый кануть в Лету, как и он прежде, практически стоя на месте и глядя себе под ноги, на несущийся под ним ее мутный поток, мог счесть себя летящим сквозь время... Да-да, вот именно, сквозь тонкую пленку времени он и летел прежде из одного никуда в другое, и, каждое утро видя перед собой все те же перила моста, тоже считал их новой вехой, из которых слагал месяцы, годы, а кто-то слагал и века, тысячелетия... Ему даже страшно стало, что он вполне мог до конца жизни не заметить, что мост этот тянется в ином направлении, вдоль которого можно бродить вечность, всегда, доходя до одного из двух концов, имея всегда перед собой выход, за которым отрывался долгий путь ко второму, а, может, и к третьему, десятому... - это все зависело от него самого: сколько этих мостов он сумеет пройти, найти, не останавливаясь на достигнутом, но и не вычеркивая из памяти пройденные... Нет, в последнем он еще не был так уверен, думая, что у Леты всего лишь два берега, забывая, что у нее множество протоков, рукавов, как и улиц, проулков, галерей ли лабиринта. Но и это открытие его ошеломило, он решил хотя бы в этом убедиться, потому что это уже было громадным шагом вперед по пути в абсолютную неизвестность, за которым другие могли сделать следующий, множество других шагов... Ему сейчас этого шага было достаточно, поскольку еще совсем недавно он хотел уже сделать свой последний, шагнув через перила своего мостика, потому что, как и все, он смотрел только вперед, оглядывался назад лишь мысленно, а шоры его заблуждений или, точнее, чужих знаний, не позволяли ему взглянуть вправо или влево... Сегодня же он спокойно брел над этим жутким, запутанным лабиринтом Леты и даже не замечал его, поскольку это, оказывается, была всего лишь мысленная, иллюзорная ловушка, созданная кем-то в наших мозгах, в лабиринте наших извилин, где мы сами и пропадали, даже не пытаясь найти выход, даже не подозревая о необходимости, возможности ли искать его - выход. Никто и понять не мог, не подумал даже, на что же так был похож лабиринт, что же он напоминал такое знакомое, особенно, каннибалам, для которых его прообраз был любимым, одним ли из любимых лакомств... Увы, Андрей, увлеченный своими воспоминаниями и предчувствиями, так и не сделал пока следующий шаг и, неизвестно, сделает ли в будущем, сделает ли его, их ли в нужном направлении. Но не много ли мы с него требуем? Может, мы еще и обвинить его хотим в благодарность за его открытие, ленясь самим хотя бы взять с него пример, но не останавливаться лишь на самолюбовании, на достигнутом нами бессмертии любви, ради которой, конечно, можно махнуть рукой, и тысячелетиями махали рукой и на бессмертие, и просто на жизнь. Да и сама ведь любовь ему и подсказала разгадку, подвигла его к открытию, поэтому отплатить ей неблагодарностью тоже было бы неоправданно. Винить его за это было нельзя. В целом винить кого-то, кроме себя - бессмысленно. Вина другого - это порой самая непреодолимая стена на нашем собственном пути, а вот собственная вина, которая все же находится за спиной, порой может служить и опорой для движения вперед, а то и вдоль нее, где мы тоже вполне можем выйти на свой мостик через Лету... К тому же, перед Андреем, мостик которого был крайне шаток, хрупок, но пролегал над одним из самых бурных мест Леты, готовой в половодье одним махом, одним всплеском бытия снести его в пучину, стояла и другая не менее важная задача: удержаться на нем, доказать хотя бы на себе, что блуждания по нему - это не пустая, а вполне стоящая риска затея, чтобы дать надежду идущим вослед... Что говорить о тех, для кого он все еще шел старым путем, поперек времени, кто никогда бы не понял причин его счастья, счел бы его просто преступлением или сумасшествием, поскольку в их реальности этих причин не существовало - для него, как и для них. Все они и тут были его противниками, обличителями! Но опять же к счастью, он сейчас думал не о них, об этих вездесущих судьях, обличителях... Он беспокоился, страдал о своей Музе, и уже начинал скучать по Татьяне... Но не мы, вновь к счастью, были ему судьями - не подсудные своей собственной ограниченности и слепоты... И эти слова я лишь для вас произношу, в качестве подсказки для ваших собственных исканий во мраке собственных же заблуждений... Да, и моих заблуждений! Тут я даже вновь вспомню о той роли вины в наших поисках, когда и она, наподобие любви, может стать нашей путеводной звездой и открыть нам путь во времени. Сегодня она вместе с любовью и привела его домой, вернула его Музе вновь страстно и беззаветно любящим и преданным, опять же ее платоническим любовником, абсолютно безгрешным перед ней, хотя сегодня его объятия и незаметные поцелуи были куда более смелыми и откровенными... - Милый, ты сегодня, видно, чем-то чересчур провинился перед самим собой, если так ласков и нежен со мной?! - воскликнула Муза, удивленно взирая на него и глубоко вдыхая аромат неведомых ей до сих пор духов, не успевших выветриться с его щек, одежды. Она и сама, незаметно для себя, была более порывиста в своих девичьих ласках, доставляя ему больше сладких мук, чем только радовала его, недавно еще боявшегося своего к ней охлаждения. - Милая, я просто тебя еще больше люблю, настолько больше, насколько соскучился по тебе, насколько чувствую себя виновным перед тобой за это! - оправдывал он свои случайные прикосновения к ее девичьим, маленьким грудкам, отчего его пальцы заныли нестерпимой нежностью, свои ли более откровенные и смелые взгляды на ее хрупкие, гибкие, изящные формы шеи, талии, бедер, в которых лишь угадывалась, но уже сводила его с ума феерическая женщина. От этого он приходил в невероятное восхищение, которое почти ничем не отличалось от возбуждения, сдержать которое ему уже едва хватало сил. Он тут же вспомнил их последний поцелуй, и едва удержался, чтобы не впиться в алый бутон ненасытной пчелой, которая лишь и дышала нектаром... Чтобы остановить себя, он подхватил ее почти невесомое, но обжигающее тело на руки и закружил ее по студии... - Еще, милый, еще! - в восторге кричала она и счастливо смеялась, прижимаясь к нему, обхватив крепко его шею своими тонкими, но крепкими руками, отчего они слились в одно целое, и только страх уронить ее останавливал его от собственного падения... - Милый, я не хочу, чтобы ты останавливался, я хочу вечно так кружиться с тобой, словно мы летим среди звезд вечности почти одним любящим себя самого лучиком солнца, сгорающим в собственном пламени. Милый, настоящая любовь похожа на это? Ты ведь знаешь это?.. Последние слова она произнесла тихим голосом, с интонациями, похожими на ревность, хотя та была ей еще недоступна... - Милая, но это и есть любовь! - без тени сомнений ответил он ей. - Просто она не может быть какой-то одинаковой, она всегда разная, как и твои песни, всегда разные, но всегда дивные, прелестные, от каждой из которых я схожу с ума... - Да, но я чувствую на тебе запах другой любви, и мне ее ужасно хочется попробовать, подышать ею, - слегка порозовев, прошептала она робко. - Мне кажется, что в моих песнях именно этого немного и не хватало, я ведь только так могу понимать все остальное - как оно звучит в моих песнях... Милый, я понимаю, что этого нельзя просить, но... не мог бы ты мне дать немного этой любви? Или прости меня за эти слова, но я... помню, как ты меня тогда поцеловал, я до сих пор еще чувствую на своих губах твой поцелуй, и мои губы уже не могут без него, мне его не хватает, как воздуха, а вместе с ним и еще чего-то, что есть в тебе... - Но ведь это невозможно?! – вскричал он вопреки себе... - Нет, только ничего не говори, - сказала она с загадочной улыбкой, когда он рухнул на кресло, сжавшись в комок, а Муза, так и оставаясь у него на руках, вдруг склонилась над его лицом, внимательно его разглядывая. От ее близкого дыхания внутри него закипела кровь, но он не мог даже пошевелиться, ожидая, когда же слегка изогнувшийся лук ее губ вдруг пронзит его стрелой любви уже насмерть. - Нет, милый, ты должен чуть расслабиться, потому что твои губы тогда были не такими. И лучше закрой глаза, как я тогда... Я хочу узнать, что ты чувствовал, чтобы понять... Сама я не могу... - Это я не могу, не мог, но,.. – мысленно возразил он, но... - Боже! - вскричал она, вернув его криком в сознание, после того, как она лишь слегка поцеловала его, лишь на миг задержав его губы в своих. Она глубоко дышала, ее глаза поблескивали, нет, уже сверкали неведомым ему огнем, грудь ее высоко вздымалась, словно готова была разорвать, сбросить с себя путы и так почти невесомого платья. - Милый, это так... Я не знаю даже, как это передать словами, у меня пока нет этих слов, чтобы сказать о том, что ты.., что ты весь сейчас во мне, где до этого была совершенная пустота, холодная бездна, теперь вдруг наполнившаяся сладким жаром летнего солнца, живого солнца, которое теперь во мне навечно... Милый, я вновь должна это почувствовать! - воскликнула она и совсем немного сильнее, но невыносимее для него, немного больше взяла в себя его губы, отчего ему показалось, что он полностью исчез в ее поцелуе... - Любимая! - вскричал он, очнувшись из глубокого, бездонного забытья, с ужасом почти обнаружив, что он один, что ее нет, словно она сгорела в своем поцелуе, так он был жарок... Но он тут же услышал ее, точнее, даже увидел ее своим слухом, порхающим в невесомости, потом вдруг бросающимся с высоты небес в пропасть страсти... Да, он вновь пережил тот поцелуй в ее музыке, которая звучала вокруг него, в которой он плыл, как недавно в объятиях ее губ... - Любимая?! - изумленно и восторженно воскликнула она, перестав играть и вновь оказавшись в его объятиях. - Я, правда, теперь твоя любимая? То есть, это и есть любовь? Я так и думала, потому что без этого музыка моя была какой-то бесплодной, немного пустой, как и я сама до этого поцелуя. Только теперь мне кажется, что я стала на самом деле огромной, как вселенная, которую уже невозможно заполнить всеми моими поцелуями, если не целовать тебя вечность... Милый, не мучай меня! Я вижу в твоем испуге какой-то ответ этой загадки, а сама не могу ее разгадать! Нет, я прошу это даже не для себя, моя музыка требует этого, я не могу уже ей сопротивляться, музыка ведь не знает границ, не знает ограничений, как и вечность! Милый, я лишь немного поняла, что такое любовь, я лишь чуть вдохнула в себя ее воздух, и теперь я без него, без нее задыхаюсь! Милый, дай мне свою любовь, всю любовь! Или я сейчас умру, потому что я уже не могу без нее жить, ее жажда сжигает меня изнутри!.. Нет, это моя музыка умирает, потому что она не может остановиться, ведь остановка для нее - это смерть! Я не знаю, милый, что сейчас для меня важнее: музыка или сама любовь, - но они обе сводят меня с ума! А он почти не слышал ее, потому что и сам был во власти ее музыки, которая была и для него сейчас любовью, он не видел никаких границ, никаких преград меж ними. Прерванный аккорд зазывно звучал в нем, сводил его с ума, требуя продолжения... Он вновь подхватил ее дрожащее, словно струна, тело на руки, вновь закружился с ней по студии, отчего почти перестал ощущать землю под ногами, словно воспарил в небо, потеряв ощущение пространства, времени, их смысла, и всего остального... Закружив ее вокруг себя, он стал явно осязать, что она теперь вокруг него, словно вселенная, что он внутри ее объятий, что он и правда превращается в солнце, чей смысл - заполнить эту вселенную животворящим светом любви, заполнить каждый ее уголок звездочкой, своим бесчисленным подобием и повторением. Он уже не различал свои поцелуи, свои объятия, он даже не заметил, когда оказался в ней весь, очнувшись из забытья, когда лишь взорвался вместе с ней сверхновой звездой, родившей и новую вселенную, и их обоих, продолжающих вечно кружиться вокруг друг друга парной звездой томительных воспоминаний, облаком неостывших поцелуев, жаром спалившей их прошлое ласки... - Любимый, - сказала тихо она, опадая на него легким облачком усталости. - И ты это скрывал от меня? Почему? Зачем? Ведь любовь так прекрасна! Ну, настоящая любовь... А это ведь настоящая? Она же самое лучше на всем свете! Разве ее можно скрывать от любимых? Даже это слово - любимый - важнее всех тех слов, которые я тебе говорила в таком множестве! А теперь мне достаточно сказать лишь это слово «любимый», и я словно бы прочитала все сонеты о любви! Странно, но мне даже не надо все это передавать в музыке, потому что она уже звучит во мне одной этой нотой, одним этим словом, как самая дивная песня! Теперь я смогу спеть ее, даже если тебя не будет со мной рядом, потому что ты и есть теперь моя песня... - И это правда? – с глупой усмешкой спросил он, совсем не вдумываясь в слова, в интонации, да и не мог бы сейчас это сделать, пребывая все еще в ее власти, хотя и покачивался странно на той грани, за которую еще недавно не смел ступить, словно на канате, по которому надо было еще и пройти. – Я теперь – песня?.. - Любимый! Нет! - вскрикнула вдруг она совсем другим тоном, в испуге, вновь бросившись в его объятья, но совершенно иначе, словно пытаясь удержать его от падения в бездну, на краю которой он и стоял сейчас, как на канате, хотя, может, совсем наоборот, пытаясь ухватиться за него, вдруг прыгнувшего с обрыва в небо и воспарившего, хотя ее слова все же пытались его удержать. - Я боюсь своих последних слов! Это невозможно! Зачем я их сказала?! Как я могла их сказать? Ты не поверишь, ты даже не поймешь их смысл! Никто не поймет это, кроме меня! Ты ведь не знаешь, что такое песня, что такое стать песней! Еще миг назад я бы и не сомневалась, и сделала бы тебя ею... Знаешь, почему? Да, потому что ты мне был близок, дорог, ну, и все прочее... Я без тебя даже не могла бы жить, что знала, хотя и пугала тебя уходом... Но ведь жила и до тебя? И без тебя! Но сейчас... Нет, ты все равно ничего не поймешь, я даже не хочу тебе объяснять... Ну, дай мне сосредоточиться на мыслях?! Ты, я – сейчас я просто не могу найти в этом разницу, грань!.. Что ты ко мне пристаешь?.. Извини, это я к себе... Да, и к тебе! К тебе, сволочь, насильник, но... такая сладкая сволочь, такое волшебное насилие... Нет, я тоже не знаю: если ты уйдешь, то я.., конечно, переживу – не таких теряла на полпути... Но если... Понимаешь, что такое мое если?.. Да, именно сейчас, ну, после того... Ты ведь тоже так думаешь, правда? Ты ведь такой же? Я же вижу, знаю! Понимаешь? Ну, как ты это понимаешь?.. Нет, мне не нужна даже музыка, я ненавижу ее – она разлучает! Мне ничего не нужно, кроме тебя одного! Я и про других все придумала... У меня никого, кроме тебя, не было, хотя многие пытались... Скажи, что и ты не отдашь меня никому, даже ей?! Я молю тебя! Не отдавай! Даже ей! Возьми меня, возьми, но только навсегда!.. Стань моей жизнью – вот что я хотела просто сказать, простыми словами!.. Музыка – это все остальное... Ты же слышишь ее?.. Часть вторая. Аватар Любви... Глава 7 Да, случилось то, чего он и боялся больше всего на свете... Он влюбился и в нее, как в женщину, а не как в девчонку, не как в Музу, но даже не подозревал, какой может быть разница между этими двумя чувствами: любовью нежной, охраняющей, заботливой и... настоящей, в чем-то жестокой и к самой себе... Да, и к ней... Но беда его заключалась не в этом, не в нем, а только в ней. Нет, не в ее детской капризности, эксцентричности, и уж тем более, не в банальных изменах молодости, о которых все сразу же подумают, вспомнив некоторые примеры из земной литературы. В любви она стала даже очень женственной, хотя это лишь усилило ее страсть, сделав ее более глубокой, неудержимой, решительной. И любила она его самозабвенно, как только и может любить талантливый, даже более, чем талантливый, но взрослый ребенок, без тени сомнений, даже в шутку не обронив ни одного слова, взгляда, который бы заставил его усомниться в искренности ее любви... Но при этом она в своих чувствах, в поведении оставалась словно бы девственной, и каждая их близость была словно бы первой, сколько бы раз в сутки они ни бросались друг другу в объятья. Даже признаки этой девственности то и дело появлялись на их белоснежных простынях, воспламеняя их обоих на новые, просто безумные ласки. Она словно бы забывала о том, что было всего лишь час, а то и несколько минут назад. К тому же, что многое объясняет, эта любовь ее вообще была у нее первой в жизни. До этого она любила только музыку, которой беспрестанно занималась с малых лет, без какого-либо принуждения, отчего ее женские чувства не просто проснулись, а буквально взорвались в его руках, неизбежно сокрушив и его... Но беда была и не в этом, хотя именно невероятная сила ее любви и была ее причиной. Именно в том, что это была не просто любовь, а любовь, которая не знает отдохновений, усталости, которая уже и в жизни становится вечной, высшей любовью, которой и любили боги Олимпа, о которой смертные могли только мечтать или слагать стихи. В этом и была трагедия, потому что полюбила она не просто своей душою, но и своей музыкой, вместе с которой и вознеслась на недосягаемую для других вершину любви и творчества. Музыка и Слово любви слились в ней в такую гармонию, что ее песни стали не просто шедеврами - нет, их вряд бы кто смог оценить, а, оценив, дать им какую-либо земную оценку - они стали песнями богов, песнями песней - других названий к ним подобрать нам было невозможно... А иначе не могло и быть! Ведь она каждую нотку, каждое слово срывала с него чувственным поцелуем, не просто сочиняла фразы, а свивала из их объятий, сплетая строки вихрем их страсти... Весь день почти она проводила в его объятиях, внезапно бросаясь к своим инструментам, чтобы записать какой-либо фрагмент, фразу... Если бы кто мог только представить, кем он чувствовал себя в эти мгновения и дни! Он и был в это время богом, порхающая на руках которого фея слагала при нем, для него, из его любви дивные мелодии! Каждое слово и такт ее песен он ощущал созвучными ритму своего сердца, высоте своего дыхания! Она слагала свои песни на нем, словно на самом главном своем инструменте, вкушая вдохновение из его любви, слово бы пила ее из его Кастальского ключа... Но потом... Потом было два, три дня, когда она обрабатывала ее, быстро делала оранжировку, заставляя его страдать в ожидании кратких мгновений ее усталости, сомнений, когда она вновь бросалась в его объятия, пытаясь что-то уточнить, исправить... И вот торжественно звучали последние аккорды, и наступал час его падения, когда она включала их стерео-граммофон, ставила на него диск, и бросалась стремительно к нему на колени, не просто слушая свое творение, а улетая на его звуках к вершине самого Олимпа... Он же в эти мгновения вдруг превращался в обычного, стороннего слушателя, более того, ощущая себя порой лишь спинкой кресла, на которое вдруг присела богиня, чтобы послушать неведомую ему песню. Он, прекрасно зная все фрагменты, нотки и фразы песен, не знал, не мог узнать всей песни, так как целиком она была и задумана, и сложилась где-то помимо него, в недоступных для него божественных высях, стоя у подножия которых, он осознавал, зримо представлял себя лишь плебеем, самонадеянным ничтожеством, возомнившим себя неиссякаемым источником небесной гармонии... Возможно, он настолько сильно уставал за это время, поскольку действительно отдавал тому и часть своей души, и даже всю свою страсть ее песне, что в конце у него просто не хватало сил возвыситься до ее вершин. Но и в таких вроде бы спасительных мыслях он не мог найти утешения, поскольку и они не могли возвысить того, кто вдруг сам ощущал себя недостойным, опускал устало крылья... Более всего его угнетало в эти мгновения ясное, словно откровение, понимание того, что он не имеет права далее скрывать ее от мира, прятать ее у себя, в клетке своей любви, где ей пусть и прекрасно работалось, но только работалось, созидалось. Он ведь все-таки мог осознать, что здесь, на земле, лишь все человечество достойно высот ее творчества, принадлежащего, естественно, всей вселенной любви, которая и творила вместе с ее музыкой, которая и была ее музыкой. А значит, он предчувствовал, что неизбежно потеряет ее, что обязан потерять ее, вернув миру, которого сам уже давно был недостоин, сознательно отвергнув его ради нее. Он всего себя отдавал ей, отчего у него самого вскоре почти ничего не осталось: ни замыслов, ни идей, ни воспоминаний - все было в ее песнях, но совершенно неузнаваемым, уже не принадлежа ему, даже не напоминая его... Ее величие бросало его на самое дно отчаяния, где он никогда бы, может, не оказался при других обстоятельствах, хотя это вопрос весьма сложный... И он срывался, точнее, пытался оттуда выбраться, поскольку мог осознать случившееся, обладая все-таки достаточным диапазоном воображения! Он убегал от нее и потому, что и она была обессилена, не могла его удержать, хотя и нуждалась в его поддержке, ведь песня, естественно, забирала у нее всю ее, то есть, гораздо больше, чем он мог дать ей даже при страстном желании. Она просто падала без чувств на постель и, несколько раз жалобно позвав его, засыпала без снов на сутки, а то и дольше, пока он не разбудит ее, словно побитый пес падая перед кроватью на колени и целуя ее волшебные руки, и во сне продолжающие играть на струнах его любви... Он же в ее снах убегал к Татьяне... Теперь, когда Муза начала творить, ему больше и некуда было идти: работу он бросил вообще, потому что она ему совсем не оставляла ни минуты на это, сочиняя песни порой по несколько суток кряду, засыпая с ним лишь на час-другой... Жили они на то, что он порой продавал что-нибудь из других комнат, которые им теперь были совсем не нужны - они все время проводили в студии... Поэтому он стремглав, не глядя по сторонам, бежал по шаткому мостику к противоположному берегу с одной лишь целью - поскорее найти Татьяну и стать в ее объятиях вновь самим собой, только ее любимым... Она словно бы предчувствовала это, иногда тоже устремляясь ему навстречу, хотя чаще ему приходилось тратить чуть ли не весь день, чтобы отыскать ее. Ведь ей было гораздо сложнее стать совсем независимой от этого мира, потому что большую часть времени она оставалась одна, находя в нем совсем не поддержку, не свою опору, а лишь краткие мгновения отдохновения, возможность как бы такого же возвращения к самой себе... Возможно, только поэтому им еще ни разу и не довелось встретиться на том мостике, а, может быть, он просто забывал ей сказать о нем, или же она из некоторой ревности не хотела этого слышать... Глава 8 Увы, чаще всего он заставал ее на работе, в небольшом розовом домике недалеко от картинной галереи, с трудом пробиваясь к ее кабинету сквозь толкучку посетителей, среди которых как всегда все были первыми... Большой кабинет ее на самом деле был маленьким, потому что почти весь был заставлен широкими шкафами, заполненными папками разрешений и запрещений... До знакомства с ней он даже не подозревал, что после проведенной под их флагом реформы вседозволенности и неограниченности наиболее сильно в стране развилась именно разрешительно-запретительная система, против которой до этого они в основном и боролись принципиально. Да, почти принципиально, потому что раньше что-то разрешать или запрещать надо было лишь отдельно взятым личностям, которых в стране почти не было, и совсем в ограниченном перечне. Зато теперь разрешать и запрещать стали почти все, почти всем, причем за плату, не учитывая, конечно, взяток, которые, естественно, и не учитывались... Взятки эти больше всего мешали их отношениям!.. Да, мешали!!! Да, поскольку в других кабинетах и зданиях их системы с посетителей просто брали взятки, что занимало совсем мало времени, и стороны к тому же спешили быстрее расстаться и от стыда, поэтому основной поток клиентов и собирался у ее кабинета, где подобные древнейшие стимулы не работали, а Татьяне приходилось исправлять все то, на что во всех предыдущих инстанциях глаза закрывались сами собой, потому что смотреть было и не на что, кроме разве что самой взятки, которую опять же старались побыстрее спрятать от слишком раздутых и многочисленных надзирающих органов, пропорционально количественному росту которых возрастало лишь качество обходных путей вокруг них, количество постовых уже на них,.. ну, и количество посетителей у ее кабинета... В принципе, они все должны были просто оставить свои бумаги и прийти потом за решением, но почти все хотели присутствовать при этом лично. Он понимал их, но все равно в свои редкие посещения легко избавлялся от них, точнее, избавлял ее от них и от работы, которой все равно не было конца, как в любой замкнутой на себя системе. Да и у нее на каждое разрешение и запрещение отводилось почти по месяцу, хотя она их делала за неделю, поэтому запас времени у нее был тоже безграничен, хотя этого никто не признавал, поскольку никто из толкучки никогда интересами, масштабами самой толкучки не жил, словно не подозревал даже об ее существовании... Сегодня, когда он зашел к ней в кабинет, она слушала вообще из ряда вот выходящее дело, точнее, даже два встречных... Как он сразу понял, одна сторона требовала от нее запретить театр Леона, а вторая - разрешить его, но причем ни одна из них к самому Леону отношения никакого не имела... - Но, господа! - видимо, в который уже раз пыталась объяснить им она, на этот раз с нетерпением поглядывая на него, - мы не можем и в нынешних условиях запретить театр! - Я требую запретить не театр, а запретить Леону играть там! - упрямо бубнил свое стриженый под полубокс крепыш с невидимыми из-за щек ушами. - Теперь, когда у нас, наконец, разрешили официально играть, и слово игра обрело вполне конкретное, правовое значение, Леон не имеет права неофициально играть в своем театре, тем более, в такие азартные игры, как чуждая нам мешанина во дворянстве некого Маляра, ну, а тем более, с участием чуждых нам классически субъектов из компашки некоего Чеха, которого наши славные органы давно имеют в перечне... - Прошу пардону, уважаемая, но я с вами, наоборот, согласен под завязку! - перебивал того другой крепыш. - Я, наоборот, требую разрешить!.. - Но и вам я должна заметить, что мы не имеем права и разрешать театр, которому не нужно разрешения, чтобы.., - пыталась образумить и его Татьяна. - Ну, нет, тут я согласен с оппонентом, но только я требую не запретить, а разрешить, - набычив шею, настаивал второй. - Да, разрешить играть в театре Леона пусть даже и Мишане во дворняжстве, но под более авторитетной крышей, чем не известный никому Маляр, пусть даже и все достающий ему. У меня же как раз есть все необходимые реквизиты, очень точные рулетки, а тем более сплошь дипломированные крупье и банкометы, которых у Леона играют полные дилетанты, без лицензий, пусть они и от Федьки, ну, Гоголя, идиота... - Господа! - бросился на помощь ей Андрей, которому из-за своего длинного черного пальто удалось напустить на себя авторитетный вид. - Вы попали в некоторый порточный круг. Чтобы разрешить вам, надо вначале запретить по-вашему. Но чтобы запретить по вашему, надо вначале разрешить, поскольку, если до того никто не разрешал, то запрещать и нечего. Поэтому вам, Татьяна батьковна, вначале надо будет разрешить театр Леона как таковой, потом запретить его с их, вот, подачи как этакий, после чего уже разрешить под крышей этих господ как такой-таки... Стороны согласны?.. - Согласны, господин представитель! - с готовностью воскликнула она за всех, захлопывая толстые папки с бумагами... После этого они, вывесив на двери табличку: "Все сегодня запрещенное разрешено" - уходили быстрым, деловитым шагом, едва сдерживая смех и слезы радости... - Я вам запрещаю разрешать запретный плод! - комично пародировала она его, пытаясь смеяться хотя бы на лестнице... - А я не могу вам разрешить запрещение не разрешенного запретного плода! - копировал он ее серьезность, пытаясь скрывать за смехом свою радость хотя бы на улице. - Но я ужасно хочу разрешить тебе запрещенный разрешением запретный плод - так сладок! - шептала она, когда они мчались в гору на медленно ползущем по склону фуникулере, потому что не могли оставаться там, в низине.... - А я не могу ждать разрешения запрещенного разрешающей запретные плоды, - кричал он ей, когда они скрылись от всего мира в густой пелене низких туч, зацепившихся, словно юбка неба, за ретрансляционную вышку на самой вершине сопки, откуда им был виден белоснежный подклад ее юбки, ставшей давно уже серой снаружи, испачкавшись о сплошную серость камня, дыма и взглядов. Здесь же, на вершине сопки Орлана был совсем иной мир, они словно бы летели на его огромной шее, покрытой гладкими перьями цвета сиены, касаясь осторожно мягкого пуха его белоснежных, словно бы лебединых, крыльев, распластанных от края до края небес. Шпиль же ретранслятора был так похож на стрелу, пронзившую их Орлана, пригвоздив его к небу или же к земле, что ему постоянно хотелось раскачать ее и выдернуть из него, выпустить его на волю вместе с ними, его случайными спутниками... - Нет, это ведь стрела Купидона, которой тот пригвоздил нашего Орлана к небесам, хотя и целился он в тебя, но, видимо, промазал, - переубеждала она его в нетерпении, пока он вдруг не соглашался с ней, начиная возражать... - Нет, милая, он и попал в меня, поверь! - бросал он ту башню на землю и возвращался под юбку облака вихрем объятий. - Но это была самая большая его стрела и она пронзила не только мое сердце, но и сердце самого Бога, откуда я и хотел ее выдернуть, потому что не хочу делить свою любовь ни с кем в этой вселенной! - А мне кажется, что она до сих пор летит, и мы летим в вечность, пронзенные ею вместе с тобой, мой любимый, вместе с самой Вселенной, чье подвенечное платье проказник также не пожалел!.. - О, нет! Это ведь твое подвенечное платье, это твоя, самая белоснежная в мире, фата, - кричал он ей, прячущейся от него в облаке, - которая лишь и достойна моей любимой, хотя и она не сможет скрыть твою красоту от меня, как и это облако цвета фаты...... - Но у тебя нет свидетелей, чтобы доказать это мне! - смеялась она вместе со своим счастьем тоже просто над глупостями... - Вот они! Разве ты не видишь ветер, срывающий с тебя фату? Разве ты не слышишь солнце, ласковыми пальцами снимающее с тебя подвенечное платье? Разве ты не чувствуешь, как горячи прикосновения небесной лазури, укрывающей нас одеялом любви? - Да, любимый, но теперь мне и не нужны свидетели! Прогони их! Я хочу быть только с тобой! - кричала она ему из галактики его объятий, рассыпаясь по ней звездами поцелуев... - Нет! Зачем? Ведь они все теперь во мне, они тоже стали мной, потому что и всему миру невозможно налюбиться твоей красотой! - кричал он эхом всех своих прежних слов, потому что не мог уже произнести ни слова сам, став ее дыханием, ее жаром, ее телом, ее душой, ощущая лишь, что и она в этот миг безмолвна... - Боже, если бы только можно было насовсем отгородиться от земли облаками, никогда не возвращаться туда, где все тленно, где все мелко, где и нет ничего! - шептала она, кутаясь в облака его усталости. - Ведь сейчас это можно? И столько было этих сейчас - разве нельзя оставить только их, убрать между ними пустые промежутки, сделав их пусть даже всего лишь одним мигом? - Любимая, но зато у нас с тобой столько этих мгновений! Вскоре их столько соберется в одну стаю, что они уже смогут навсегда улететь отсюда в дальние края любви! Ты же слышишь, как поднимаются, занимаются с севера птичьи ветры, зазывая нас в полет? - пытался он оправдать свое промедление, которое и его самого уже тяготило, поскольку он все же чувствовал себя пригвожденным к земле и стрелой Купидона, а, точнее, не мог поверить в обратное... То, что ему давала почувствовать порой Муза там, в рощах Парнаса, он пока не мог узреть на земле, а, может, просто боялся увидеть это здесь, в жизни, где бы он все равно умер от ностальгии... В эти мгновения он ужасно страдал от того, что не может и ее забрать с собой туда, в тот мир, который принадлежал все-таки не ему, а ей, Музе! Сегодняшний счастливчик - там он был никто! Более того, он прекрасно осознавал, что ему сегодняшнему туда вообще нет ходу, даже самому! Что он мог пообещать ей? И она своей тонкой душой, которую в ней никто, даже он, не подозревал, видела, как его душа буквально разрывается на части в эти мгновения... после любви, когда души беззащитны, когда их может постигнуть истина, откровение, почему она, не понимая причин, только мучилась от ревности к его Музе... - Ты все равно любишь ее больше. Ее гораздо легче, проще любить, я понимаю, - пряча горечь в сладости поцелуев, шептала она. - Она только одна, сама в себе, даже ты... для нее лишь инструмент, хотя она, может быть, и любит тебя гораздо проще, гораздо чище и гораздо настоящее, чем может обычная женщина... - Любимая, но зачем ты говоришь об остальных, обычных женщинах? - спрашивал он ее, веря в это и сам. - Я понимаю, любовь к тебе и к ней, хотя они совершенно различны, и я бы не смог их называть одним именем, но они все же из одного мира, вот в чем дело... Из мира, где нет обычных, остальных женщин. Понимаешь, я, возможно, сильно люблю ее, ну, в чем-то, может, сильнее тебя, но лишь в том чем-то, что я до сих пор и не могу понять, осознать, почувствовать... Я словно бы раб этого, я - плебей той улицы, по которой разъезжает она под паланкином... Но, ты не подумай только!.. Спартак был фракийским царем, а не просто римским рабом, гладиатором! И я, скорее, не просто ее раб!.. - Но я-то с улицы римских рабынь? - со смиренной улыбкой вопрошала она, ни в чем не упрекая, но ни в чем не уступая Музе. - Милая, любимая! Это могла сказать про себя любая из всех, кроме тебя! - вскричал он, наконец, тоже кое-что поняв. - Но только не ты! Не ты, кого так же сильно, еще гораздо сильнее ревнует... моя Муза! Я боюсь даже открывать тебе ее секрет, но не в силах и хранить его, пока не осознавая его ценности... Мне кажется, что моя Муза... - ничто без твоей красоты, ее любовь - не настоящая без твоей любви, понимаешь... Я здесь совсем ни при чем, я не горжусь, не стыжусь этого, я просто... не могу жить без вас обеих! - Ты хотя бы понимаешь, что ты говоришь?! - вскричала она, кутаясь в холод кристально чистых облаков. - Ни я, ни она с этим бы никогда не согласились! Да, я знала, что я красива, но это было ничто! Пока я не полюбила тебя, пока не поняла, что моя красота любима, что она и есть часть любви, что она и есть любовь, мне все было безразлично, мне все было чуждо... Правда! Теперь же это все мое, это все - я, я в таком огромном смысле, даже осознать который я ранее не решалась! Теперь я, благодаря твоей любви, стала всем этим и... Я, и даже она, моя, надеюсь, знаю, равноценная соперница, должны вдруг одновременно признать, что мы... Нет, я не хочу даже говорить это, я не могу вдруг вырвать кусок своей любимой тобой души, тела ли, красоты ли своей и выбросить его, поскольку вместо него во мне – тут же она! Боже, неужели я должна была познать всю твою любовь лишь для того, чтобы убедиться, что часть ее не моя? Что меня ласкают не твои руки, а лишь одна из них, потому что другая в это время ласкает не меня, а другую? Не знаю, может я не права, может, только ты и мог так сильно полюбить меня, умея любить другую... Но как мне больно, любимый!!! Я готова умереть сейчас же, пока эта случайная мысль еще не стала моей, пока я в нее не поверила!.. - Что ты делаешь со мной?! - вскричал и он, потому что ей он мог сказать самое сокровенное. - Ты разрываешь меня, а ведь я, если и люблю вас, то совершенно по-другому, я если и люблю тебя страшно, невыносимо, то лишь тебя! И если я люблю ее, то лишь потому, что люблю тебя! Если я люблю ее страшно и невыносимо, то лишь потому, что так я полюбил тебя! Любовь к ней - это та сказка, тот миф, который я сочиняю на слова твоей любви, любви настоящей, для которой я этот миф, может быть, и сочиняю, потому что я пока бессилен забрать тебя, твою любовь в тот мир мифов... Если бы ты могла поверить, то ты бы поняла, что она и ты - это и есть только ты, но сразу и в этом мире, и в том, где мы мечтаем с тобой оказаться, но... Ты же сама знаешь, что здесь, сейчас это нереально, что только там... Нет, я не хочу, не могу это говорить, даже думать так не могу!!!.. - Но почему? - вдруг совсем спокойно, даже чересчур уверенно спросила она. - Если ты, правда, любишь меня, по-настоящему любишь, настоящей любовью, то разве это страшно? Да, я говорю про смерть! Для любви ведь ее нет? Смерть - лишь та грань, которая нас с тобой отделяет от вечной, чистой любви! Ты боишься ее? Из-за нее? Я не боюсь... Я готова хоть сейчас прыгнуть в ее пропасть даже с этого холма, где я достигла ее вершины. А ты сомневаешься... - Любимая, по-настоящему я люблю только тебя, даже потому, что лишь тебе я могу все это сказать! - кричал он обессилено, призывая в свидетели весь мир, который до этого отверг. - Ты понимаешь, что там я - никто?! Я чья-то игрушка, игрушка вечности! Лишь с тобой я чувствую себя настоящим, мужчиной, почти... богом! Да, то - моя страсть, то - моя вторая, параллельная жизнь, без которой я уже не могу жить в этой. Но живу-то я здесь. Только здесь я - это я! Только здесь я – с тобой! Только здесь я могу любить так, как могу и хочу! Там я – раб и в этом. Не я, а словно кто-то другой во мне! Не осуждай меня - пойми! То моя единственная слабость, побороть которую я не могу даже... То будет моя смерть, но та смерть, которую я не смогу разделить ни с кем. Та смерть - не вечность, а ничто, пустота, где меня не будет. Без той любви не будет и этой, как без твоей не будет и той! Прости, я запутался, но только ты сможешь это понять, потому что!.. - Я понимаю, наверно, что она страшная эгоистка, она просто девчонка, которая и не может думать о ком-то еще, даже о своем любимом... Я понимаю это, потому что и сама хотела бы любить тебя так же, безраздельно, не жалея, не думая,.. - крайне неуравновешенно, взлетая и падая голосом, отвечала она, тоже разрываясь, как и он, на части, понимая, что в любой из них для любви места мало. - Но, видимо, любовь все же сильнее и меня, почему у меня нет сил ей сопротивляться, переделать ее... Я не могу ей не сдаться, потому что меня сейчас сильнее влечет к тебе, чем отталкивает... она, я хочу тебя сильнее, чем хотела бы... даже убить, уничтожить! Боже, и я счастлива уступить своей любви, потому что просто не могу без нее, без тебя... даже бороться с тобой! Даже против нее... Даже ее я, может... И, сказав то, она просто сбрасывала с себя покрывало облаков, бросаясь в его обнаженно правдивые объятия, обнаженно наивные, ничего не понимающие, ничего не ждущие - только ее любви, после которой ничего нет и не может быть, после которой влюбленные либо должны умирать, как Ромео и Джульетта, либо банально перестать быть ими, влюбленными!.. Третьего не бывает, наверно... Но он находил в себе силы возвращаться и к своей, тоже любимой Музе, чего, в принципе, быть не может! Что и было его страшной, но все же в чем-то прекрасной трагедией, которую лишь единицы в этом мире могли написать для себя, как драматурги, поставить для других, как режиссеры, и сыграть, как артисты! Да, как артисты, которые, увы, не умирают по настоящему на сцене!.. Только на сцене... Именно это и было выше его сил! После каждого такого бегства-возвращения он все больше осознавал, что должен либо просто умереть для них обеих, либо... Любить их одновременно с той силой, которая, может, присуща любви, но любви к одной женщине, он, видимо, не мог вообще, а не только в этой жизни, где любви и вообще давно уже не было, где она походя, шутя ли легко путала компании, была неразборчива в парах, считая их только по головам, по торсам, в насмешку уступая место своей подруге-приживалке с чрезмерно развитыми органами чувств, но не с самими чувствами... Ему, возможно, совершенно несправедливо достались сразу две любви, две настоящие, ведь, если даже просто подумать, то рядом с одной настоящей вторая и не могла быть игрушечной, ее бы просто не было, первая ее бы просто уничтожила или ушла! А две равные друг другу соперницы могли существовать рядом, не имея сил победить другую, ну, пока бы они обе не уничтожили его одного!.. Представьте лишь, как он жил! У него не было наших подъемов-спадов, бегств и возвращений! Падая якобы вниз с вершины одной, он лишь возносился на другую, возвращаясь потом вновь на первую! Отраду в объятиях другой он находил лишь для того, чтобы потом искать отрады в объятиях первой! Но от чего отрады? Не от горя и разочарования, а от нестерпимой силы любви, когда уже был не в силах ту превозмочь! После этого взлететь на более высокую вершину, которую он сам взращивал в сравнении с каждой предыдущей?! Чем мог закончиться этот бег, это постоянное восхождение, во время которого ищут и отдохновения? Трудно сказать, не испытав подобного хотя бы раз... Это вообще невозможно сказать, передать обычными словами, да и незачем... Если Муза и Любовь не всегда это поймут сами, то что говорить о нас, их общих незнакомцах?! Да, завидовать ему было трудно, хотя в чем-то было можно... Будучи любимым Музы, он в своей другой любви не страдал некоторыми комплексами, почему, кстати, и смог довольно легко, как могло показаться многим, завоевать сердце Татьяны. Но легко лишь для него, что не стоит забывать. Ведь он даже на миг не усомнился, а достоин ли он любви Красоты?! Он не стал компенсировать свой комплекс внешними достоинствами, как Фруктозов. Он не страдал и комплексом Леона, который на сцене мог разыграть... чужими руками что угодно, даже более высшую любовь, не знающую трудностей жизни, но оставаясь за кулисами, но по чужому сценарию! Андрей же, влюбился в нее именно в тот момент, когда бежал от своей роли плебея Музы к роли достойного ее, в этой роли и полюбив Татьяну. Да, это очень грубая, примитивная конструкция, но она в чем-то точна. Даже будучи плебеем, он был все же плебеем Музы, почему другим плебеям не стоит спешить с ним брататься, спорить... Вначале стоит хотя бы мысленно пережить то, что он испытывал, вновь восходя от любви Татьяны к любви своей Музы, а потом возносясь от нее к любви Татьяны и так далее, и постоянно... А с ним именно это и происходило постоянно, что, конечно же, было в основном заслугой провидения, может, случая, подарившего ему обеих... Но мы тут о другом... Только поэтому, видно, ему и завидовали его друзья Гог, Вилли и Леон, предъявляя к нему и чрезмерные требования, прощая ему многое, но только не то, что простили бы другим. Только Амадей, будучи вечным однолюбом, просто жалел его, как бы понимая... Глава 9 А попытайся они хотя бы представить себя на его месте, когда он вдруг решился повести Татьяну хотя бы просто пройтись по его мостику! Сегодня он на это решился, наверно, потому, что разлуки с ней, да и с Музой, для него стали уже просто непереносимы! Конечно, он и представления не имел, как это сделать, но они сами подталкивали его на это, проявляя друг к другу довольно странный интерес, выражающийся порой в яростных вспышках ревности, либо, наоборот, в виде просто ошеломляющего цунами страсти, готового погубить... его вместе в незримой соперницей. Сегодня он, видимо, не выдержал... - Но зачем? - скованно смеясь, спросила Татьяна, не пытаясь сдержать его, остановить, заупрямиться, что для нее было просто... - Не знаю, но иногда мне кажется, что ты тоже там постоянно присутствуешь, - глухим, чужим каким-то голосом отвечал он ей или себе. - Ты не поверишь этому, пока..., пока не познакомишься с ней... Нет, пока просто не побываешь там, где ты всегда со мной. Понимаешь, это и есть тот мир, куда ты просишь меня забрать себя отсюда, но его не надо выдумывать, потому что он есть уже среди этой реальности, хотя и совсем не в ней. Я не знаю, как это объяснить, доказать, но он, правда, намного более реален, чем все это остальное, и даже ты там вроде бы более реальна, хотя всегда остаешься здесь без меня. Я хочу тебя забрать отсюда навсегда, потому что именно там это навсегда, но куда попутчицей совсем не смерть... - Конечно, там, где я - это не навсегда, это лишь иногда, ненадолго, понарошку! - вдруг заплакала со злостью, с болью ли она, устремившись от него в глухой, заросший кленами двор, отгородившись от него непроницаемым взглядом ночи. - Ты хочешь привести меня туда, чтобы... Нет, я не хочу даже говорить это, даже думать об этом! Я ненавижу ее и тебя вместе с нею, хотя... Пусть я и люблю тебя, но без нее... С нею тебя ведь нет для меня, я это постоянно чувствую, когда ты отсутствуешь целыми вечностями, лишь забегая ко мне мимоходом... Если ты приведешь меня туда, к ней, то тебя не будет для меня уже всегда... Я боюсь этого... Ненавижу! - Но мы можем хотя бы прогуляться по этому мостику, с небольшой даже высоты которого этот мир становится совершенно другим. Ведь я забираю тебя отсюда не куда-то, а именно в тот мир, о котором и ты говорила, каким я представляю его, но другим взглядом, с моего мостика, - пытался он убедить ее в том, что впервые придумал и сам, что открылось ему сейчас. - И как же я должна буду возвращаться сюда? - опечаленно, обреченно ли спрашивала она, не дождавшись от него главного. - Но ты и возвращайся уже в другой! - наивно предлагал он, хотя и осознавал какую-то безысходность в этом. - Понимаешь, сейчас я еще пока твоя любимая, но вдруг, увидав ее, я перестану себя таковой ощущать? - испуганно спрашивала она. - Вдруг я сочту себя недостойной твоей любви? Даже своей любви! Ты понимаешь, что получится? Я не смогу тебя любить, быть ли твоей любимой, как и прежде, как сейчас! Вдруг это случится? - Ты же не перестаешь ею быть после того, как я возвращаюсь от нее? - мягко спрашивал он, прижимая к себе ее голову, чтобы не видеть слез растерянности. - Ты не представляешь себе просто, какой я представляю ее! - пыталась рассмеяться она. - По тому, как твоя любовь становится с каждым разом все сильнее, я могу это представить, - пытался он убедить ее. - И она также обо мне думает, так же представляет меня? - неестественным голосом спрашивала Татьяна. - Наверно, - неохотно отвечал он. – Не знаю... Не спрашивал! - А вдруг я влюблюсь в нее или она - в меня, и мы разлюбим тебя обе? - мстительно спросила тогда она. - Ты нас так расписал, видно, друг другу, что это произойдет автоматически, мы и увидим ожидаемое. Ты не боишься этого? Сейчас это запросто... - Но я тебя не разлюблю, - с сомнением отвечал он, - и не будет этой трагедии постоянных разлук с тобой. - О да, я стану для тебя живым портретом любимой, - немного с издевкой добавила она. - Мне кажется, это невозможно! - твердо отвечал он. - Любовь к ней совсем не ослабляет моей любви к тебе, а даже делает ее просто невыносимо сильной, просто непереносимой во время наших разлук... - Но ты не знаешь, что будет, когда не будет разлук, когда мы постоянно будем обе с тобой, - с сомнением сказала уже она. - Но ты же не сомневаешься в себе? - врасплох застал он ее своим вопросом. - Нет! - решительно сказала она, бросив взгляд куда-то вдаль. - Тогда пойдем? - спросил он ненавязчиво. - Да! - твердо ответила она и подала ему руку со слегка подрагивающими пальцами. - Но, чтобы вступить на мой мостик, ты должна на миг закрыть глаза, чтобы я перенес тебя на него своим поцелуем, - ласково прошептал он, подводя ее к краю ее берега. - Если ты меня здесь поцелуешь, я уже никуда больше не захочу идти, - предупредила она его, закрывая глаза и поднимая свое лицо, слегка изогнув губы ожиданием поцелуя. - Но это почти одно и то же, - говорил он ей тихо, потому что и его губы уже подрагивали предчувствием... - И на мосту не будет никого, кроме нас? - совсем тихо спросила она, добавив почти безмолвно, - тогда я тем более согласна.... Однако, он и не предполагал, куда унесет их на своих крыльях и этот, столь долгожданный поцелуй просто умирающей от жажды любви, которая и сама становится для любящих мостом в миры иные, во множество миров, которым нет конца, как и ей самой... Возвращались они оттуда, уже напрочь забыв обо всем, что было до этого... - Любимый, мне просто невыносимо, что ты вновь уходишь! - обессилено шептала она обветренными в полете губами. - Но я так люблю встречаться с тобой, что готова даже и на разлуку и, возможно, даже на смерть, если за ней будет только наша нескончаемая встреча. Смерть - это ведь последняя разлука? - А я сейчас боюсь даже смерти! - горестно восклицал он губами, все еще целующими солнце. - Тот мир ведь так огромен, в нем столько любви, что я боюсь в нем затеряться для тебя! Я боюсь, что там я вот так же буду чувствовать на себе твой поцелуй, когда ты уже целуешь... не меня! Иди ко мне, любимая, я задыхаюсь без твоих губ, я уже не могу дышать и жить без тебя!.. Но эта жестокая жизнь их все равно вскоре разлучала. И вы были бы не правы, сказав, что это он сам, его ли Муза их разлучала, что он мог бы... И вы были бы не правы, предположив, что более жестокой она была по отношению к ней, поскольку он де возвращался к любви Музы, а она - никуда. Любовь его Музы, к его Музе делала еще более невыносимой для него их разлуку, постоянно напоминая ему - чего же он сейчас лишен... Постоянно восходя на вершины их любви, почти сгорая уже от этого нескончаемого сияния счастья, он все больше погружался и в бездну страдания от постоянной разлуки с кем-либо из них двоих... Одно для всех нас было очевидным: бесконечно здесь это не могло бы продолжаться. Все земные вершины имеют некий предел, выше которого их просто здесь не бывает, потому что там уже начинается небо... Ну, как бы... Небо... И в какой-то момент они втроем и почти одновременно осознали это или просто почувствовали, увидели, что уже достигли этого предела, оказались на этой самой высокой в подоблачном мире вершине любви, с которой было только два пути... Нет, не они – она!.. Он сегодня застал ее на самой середине мостика, точнее, увидал еще издали, хотя вначале спутал с облачком или с чайкой, бьющейся в незримых сетях ветра. Спутать ее с ней было нетрудно, потому что на ней было лишь тонкое, белое платье солнцем, край которого едва скрывал ее босые, порозовевшие от холода пальчики ног, с простотой чего их вечный спутник ветер никак не мог наиграться, создавая из податливых линий и граней тончайшей ткани, а также из солнечного веера ее лучистых волос самые невероятные композиции мгновения, аплодируя в восторге творимыми из него же крыльями ангела, неожиданно попавшего в ловушку мига. Впервые он так явно ощутил, что на его мостике нет обычного времени, что он - это вечность одного мгновения, поскольку всего лишь несколько десятков метров, разделявших их, он бежал почти век, чуть ли не с ужасом наблюдая за почти недвижным, застывшим движением своих рук, ног, вокруг чего, правда, металось едва различимое черное облако его пальто, ожесточенно хлеставшего крыльями по липким поручням настоящего... Возможно, со стороны кто-то бы увидел лишь два трудно различимых облачка: белое и черное - несущихся навстречу друг другу по мостику, скорее, похожему на стрелу молнии или на раскаленную радугу, смотря откуда смотреть. И когда они наконец встретились, и он обнял ее дрожащую белизну черными крылами тепла, то все со стороны могли бы увидеть лишь вспыхнувший над радугой веер солнечных лучей, словно зимнее солнце вдруг выглянуло из-за черной тучи, из-за огромной ли черной Луны, сгорающей от желания спрятать его в своих объятиях от всего мира... И ему это удалось, он укутал ее дрожащее от вдохновенного волнения тело в черные крыла своего пальто, подхватил ее на руки и помчался по шаткому, трепетавшему от напряжения ответственности, мостику к их дому вечно восходящего - как он думал, надеялся - солнца, рассыпая вокруг лишь искорки, созвездия ли слов любви... - Боже, любимый, я думала, что потеряла тебя навсегда! - дрожали в его руках серебряные струнки ее чуть расслабленных нервов. - Так трудно поверить вечности счастья здесь, в этом лабиринте нескончаемых преград, непроницаемых стен разлуки и совсем не зримых, хрупких тропинок встреч, мимо которых так легко ступить... Я ведь только сейчас и увидала, какой он этот мир, только отсюда, с твоего мостика разглядев то, что раньше просто не замечала за вуалью своих фантазий, за миражами своих впечатлений. Мне он казался лишь пустым нотным листом с тонкими, строгими струнками линий, на которых я создаю свою музыку, он мне казался белым небосводом, на котором я зажигаю черные звезды нот, сплетая их в созвездия аккордов, слагая из них зодиаки мелодий... И только страх заставил меня увидеть все это иначе! Очевидно, страх - это главный способ видения, орган ли зрения этих людей, если они и видят мир таким всегда, и мне их просто жалко за это... - Любимая моя, это не страх, это главный инстинкт самой жизни, борьба со смертью, или сама смертная жизнь, - говорил он, думая сейчас совсем о другом, о своем счастье держать ее на руках, спасать ее от холода и невзгод этого мира, быть ее хранителем, ее любимым, без которого она все же не смогла, навстречу кому она все-таки выбежала в эту жизнь в своем небесном одеянии. - У тебя нет его, потому что ты... бессмертна, для тебя это лишь жалость, сострадание к ним, к... нам. Да, любимая, да, и ко мне... тоже! Увы, без тебя я ведь - простой смертный, который также не мог без этих преград, не мог не создавать даже сам эти стены, преодоление которых он и считает жизнью, ее победами... над смертью, поскольку иных доказательств у него нет, ведь он не знает, что такое смерть на самом деле, вот и создает себе всевозможные ее подобия, скорее отгораживаясь ими от нее же самой, отдаляясь от нее как можно большим числом ее поверженных прототипов, идолов, потому что не знает, чем же еще можно победить смерть, кроме нее самой... О, да, самая главная его надежда, самый важный его миф - это то, что и она смертна и умрет раньше него, на одном из промежуточных барьеров... - Любимый, но неужели в этом мире все смертно?! - вскричала она, вырываясь в отчаянии из его объятий, но только чтобы обнять его, крепче обхватить его за шею, попытаться спрятать его в себе - в бессмертной! - Неужели смертны и его красота, и его музыка, и... его любовь?! Этого не может быть! Это абсурд! Да-да, такой его реализм просто абсурден!.. Откуда доносится этот плач? Ты слышишь? - Любимая, я давно уже его перестал замечать, я привык к его повседневности, он для меня как и ежедневный теперь звон колоколов, как шум машин и молчание заводских гудков, он уже стал почти позывными некоторых станций, почему я и не слышу их, - старясь скрыть печаль, успокаивал он ее, торопливо взбегая по лестнице их дома с нею на руках. - Но если я вдруг услышу, то стараюсь порадоваться за виновника этого плача, жалея лишь плакальщиц, которые не знают, что оплакивают они себя, все еще живущих, все еще плачущих, не подозревающих даже, что обозначает слово «летальность»... - Нет! - вскричала она, упираясь руками в косяки входной двери их квартиры. - Я не должна этого допустить! Там все - абсурдно! Как ты там жил? Зачем ты уходишь туда? Там нужно все изменить или... Нет, я пока не знаю. Но мне жаль даже ее, от кого ты сейчас пришел, к кому ты уходишь иногда. Я, наверное, поэтому лишь и прощала это ей, только сейчас осознав - почему. Ты тоже потому уходил к ней? Твоя любовь - это жалость? Но это же страшно!? Она же похожа... на смерть! Как он мог создать мир таким?!.. Нет, войдем в дом, любимый. Я все поняла... Там я ничего не исправлю. Только здесь, где моя музыка, где нет этого ужасного реализма абсурда, абсурдного ли реализма! Как схожи они, и как жестоки, резки удары этих двух слов друг о друга, словно они оба бьются в зеркало! Но я теперь знаю.., и ты это увидишь, услышишь! Я обещаю, хотя, может быть, ты не сразу это поймешь, далеко не сразу... Понимаешь, музыку трудно, очень не просто, может, даже невозможно перевести на этот язык, почему я и ушла оттуда, только сегодня вдруг... Любимый, нет, это не жар, это во мне вспыхнуло оно, это ты его сам возжег во мне страхом! Вознеси меня скорее в нашу студию, пробуди во мне вновь любовь, в жажде которой я чуть было не сгорела без тебя... Андрей не узнавал сегодня свою девочку, как и в эти недели, а, может, и годы, века - он потом не мог точно сказать, - проведенные с нею в студии. Нет, наверно, не век, потому что тогда бы они с нею просто умерли с голода, потому что она почти совсем не отпускала его от себя, хотя, как он иногда с болью замечал, она словно бы и не замечала его присутствия... Да-да, порой он сам казался себе чашкой остывающего чая, которую приносил ей и по полчаса так и стоял с нею в руках перед синтезатором, слева ли от ксилофона, около столика с флейтами или рядом с арфой, другими инструментами, извлекаемые из которых звуки, отрывки, фрагменты неуловимой еще мелодии так завораживали, интриговали его, что ему чуть ли не наяву начинало казаться, что это его руки перебирают их струны, порхают над клавишами, над отверстиями и клапанами флейт, что это его тело склоняется над пюпитром, прижимается ли в экстазе к благородным линиям арфы, переставая быть его, не оставляя ему ничего, кроме той едва теплой, подрагивающей в волнении чашки, с готовой расплескаться, янтарной кровью, с огромным ли куском застывших солнечных слез, формой слегка похожих на сердце... А она, совсем не замечая его, перепархивала, словно фея, от одного инструмента к другому, переходя от одного отрывка к прежнему, или обращаясь совсем к новому, так ли измененному старому, что он уже не узнавал его, тем более, что все они были настолько не похожи, что казались фрагментами совершенно разных песен, разных мелодий, связать которые в нечто цельное он не мог, тем более, что почти сразу она отбросила в угол блокнот для записи слов, либретто, разговаривая и с ним только музыкой, словно оберегала его от чего-то, от ее истины... Он не мог понять, не слышал слов, хотя в первые два дня чувствовал явно, что разговор только начинается, что кто-то лишь задает вопросы друг другу, переиначивает их на разные лады, словно бы любуясь их формой, своим ли голосом, совсем не ожидая и не слыша ответов... Явно уловив три разных голоса, он понял, что по смыслу это гораздо сложнее простого сонета, могущего ответить лишь на один вопрос. Скорее, это уж баллада, хотя... Может, сонатина? Не знаю... - Но о какой эпопее, героике ли может идти речь? - думал он про себя, когда превращался уже в кресло для нее, ожидая ее мимолетных вдохновений. - Что героического даже в войне брата, в этой ли, грядущей, можно передать музыкой? Какая героика и где герои в этой беспросветной повседневности, где их просто увидать невозможно в кровавом мраке пошлости! Понятно, пронести свой дух нетленным сквозь это - почти подвиг, поскольку это невероятно трудно, но кому петь об этом подвиге? Ходить потом и мурлыкать это самодовольно под нос? Для всех это сейчас, наоборот, слабость, неприспособленность, сдача без боя. Героика - в честности? Но, чтобы быть честным, надо вообще отвергнуть все, стать слепо-глухо-немым. Нет ни одной идеи, которая бы ни была извращена, испачкана ими настолько, чтобы отстаивание ее не стало втаптыванием ее же в грязь! Увы, все перевернулось, и сегодняшние герои - это лишь незримые персонажи театра теней, действие которого проходит в полном мраке, при абсолютном затмении нашего солнца их черным светилом... Нет героев, потому что и слово герой ныне опошлено, им стыдно, бранно стать... И какая может быть эпопея? Гнилостного разложения поверженного колосса? Новый Дон-Кихот, воюющий с трупными мухами? Как она была права, безмолвно права!.. Может быть, новая сказка о спящей красавице, о спасении любви, красоты? Если, допустим, опустить детали самой битвы героя с этой нечистью, которая в каждом конкретном случае побеждается лишь нечестивыми же способами, отчего только множится, как в тех кровавых боевиках? Опустить, замолчать фрагменты триумфа, победы над ними? Умолчать весь путь героя к ее хрустальному гробу, смыть даже следы?.. Но о чем повествовать, если умалчивать придется и об их дальнейшем пути из темницы, как то и умалчивалось во всех сказках? Ни слова не сказать и о пире, где гости мед, пиво пили.., поскольку он тут же перекликается с этим нескончаемым пиром во время чумы, который чумой и стал почти? Что ждет красу за порогом ее хрустальной, но все же могилы? Та же смерть, но в один день? И разве это спасение? Ведь она сейчас стала главным ходовым товаром, блюдом их пира, его приправой и прислугой, украшением даже центра стола... Обречь ее спасением на постоянное бегство отсюда? Но куда?! Обратно в гроб хрустальный?.. Нет, это не может быть баллада, если она не будет лишь описанием самого акта ее пробуждения, который, конечно же, стоит вечности, ради которого все остальное можно вычеркнуть, уничтожить без каких-либо сожалений... Да-да, красота спасет мир, сохранит ему жизнь, но лишь уйдя из него, чтобы он не заблуждался хотя бы насчет нее... Нет, это не баллада... Трудно сказать, как его мысли перекликались с ее поисками, но вскоре он все же уловил и лирические ноты в диалогах трех главных голосов, перебиваемых множеством диссонирующих отголосков. В какие-то моменты, когда он слышал уже более длинные фрагменты, где мог уловить даже некоторую полифонию голосов, порой просто воспаряющих в воображаемые небеса, ему ее сочинение казалось подобием фуги, хотя он уже улавливал в содержании развитие нескольких тем, выразителями которых лишь и были разные голоса, причем две темы, в чем-то перекликающиеся, никак не могли сблизиться, как и их голоса. Андрею даже жалко стало, что он ошибся. Иногда ему ужасно хотелось навсегда остаться в мире музыки Баха, воспарив под своды храма какой-либо нотой, эхом ли, превратиться в голубя и уже никогда не возвращаться... При этом он почти всегда невольно начинал представлять себя стоящим на краю высокого уступа над далеким, неслышно волнующимся морем, до которого невозможно было долететь мыслью... Уступ, который он почти реально осязал подошвами босых ног, возвышал его над всем, но ему ужасно хотелось оторваться от него, слиться в едином полифоническом полете с теми несколькими голубями или чайками, белые точки которых он видел издалека... И он даже с некоторым сожалением начинал осознавать, что это была не фуга, что темы ее творения обретали все большую глубину, становились серьезнее, порой даже трагичными, хотя, однако, совсем не теряли возвышенности, но как бы полет их становился более похожим на орлиное парение, не выпускающее из своего зоркого взгляда и детали земного ландшафта, тревогой отдающиеся в сердце орла. Он даже узнавал многое из того, что было совсем недавно, чуть ли не лица знакомых..., с тревогой обращенные к небу... Не смея покинуть Музу в таком совершенно отрешенном состоянии, когда она не замечала даже его самого, ну, в его реальном, земном обличье, он все же несколько раз бегал к телефону-автомату, но Татьяна почему-то не отвечала... А покинуть надолго Музу он не мог именно сейчас, когда две ведущие темы ее произведения буквально рвались навстречу друг другу, причем с такой страстностью, слово жаждали схватки... Причем это как бы и происходило над простором волнующегося, штормового моря - фоновой, крайне сложной темы. А он-то знал, как реально она воспринимает все созданные ею образы, в том числе, и его самого - он это давно понял, - поэтому страх за нее не покидал его, переплетаясь в мыслях с тревогой и за Татьяну, настроение которой в последнее время его тоже беспокоило, хотя она и не относилась к этому так эмоционально, буквально взрываясь чувствами только с ним рядом... Чем-то, кстати, две эти темы напоминали их обеих, какой-то удивительной контрастностью сходства возвышенных и сочных звуков. Мелодии их различались и ритмом, и тембром и даже гармонией, но развитие их шло как бы параллельно, постоянно возвращающиеся их лейтмотивы перекликались, как бы споря, но так, словно спор этот был главным для них... Тревожился за нее он потому, что в этих двух темах и в той, фоновой, многоголосой все чаще мелькали трагичные нотки, словно бы над штормовым простором моря вдруг проносились черные вороны, мерцали вспышки молний... Но она вновь успокаивала его, воспаряя вдруг ввысь каким-нибудь новым мотивом надежды, вплетая его в одну из мелодий... Как он проклинал тогда свою бездарность, свое плебейство, из-за чего не мог сложить воедино создаваемые ею крупные фрагменты, словно бы при этом он мог получить некий ответ на волнующее его сейчас. Увы, когда она воспаряла, он вновь падал в ту пучину, которая постоянно бесновалась внизу, сливаясь порой в сплошной шум хаоса, грозящего поглотить, заглушить, сделать ничем все остальное... И тогда он на какое-то время забывался, банально засыпал... Пробуждался он всегда резко, словно бы от сильных уколов совести, от пощечин страха. Иногда при этом он ловил на себе ее рассеянный, задумчивый взгляд, полный, как ему казалось, сожаления неизбежности. Смысла его он понять не мог, поскольку, как ни надеялся, но своей темы там уловить пока не мог. Его даже брала некая обида при пробуждении, словно он боялся оказаться одним пусть из ведущих голосов, но фоновой темы. Но вскоре он смирялся с этим, вслушиваясь в новые фрагменты, где две мелодии все больше и больше сближались, порой сплетались в одном полете, словно жаждали вырваться вместе из фоновой темы, разорвать ли ее общими усилиями, чтобы освободиться... О да, это было слияние борьбы! Они как бы обе осознавали, что олицетворяют собой нечто самое важное, некие главные контрастности мира, цельного произведения... Но он не слышал его в целом, не мог проникнуть в ее головку, на хоры ее храма, чтобы слышать все... Сейчас, как и в жизни, он был вынужден метаться между впечатлениями, в виде которых и воспринимал все окружающее, из которых, естественно, мог сложить только собственную, иллюзорную картину невероятно сюрреалистического мира новой реальности... Но он все же улавливал, что те две темы, мелодии сблизились на критическое расстояние, что они слишком поглотили собой все ее творение, что та их борьба как бы за освобождение от уз фона, выливается в схватку меж ними, что освобождение от мира для них становится как бы освобождением друг от друга, что, став всем миром, они могут освободиться, уничтожить и его, только... Он в ужасе закрыл уши и побежал вновь к телефону-автомату... - Да, - как-то отрешенно, словно пряча испуг, наконец-то ответила Татьяна, но тут же замолчала, хотя и поняла, что это он. - Любимая, где ты? Почему ты не отвечаешь? - засыпал он ее пустыми, горячечными вопросами, остановиться с которыми не мог, потому что она все молчала... - Не знаю, что-то страшное грядет, но я не знаю, - неохотно, сдерживая себя, все-таки ответила она, хотя он чувствовал, что ей многое хочется ему сказать, он это хорошо чувствовал, но по телефону не мог ее убедить. - Я боюсь, потому что тут так все закрутилось... вокруг его театра, и только я... как бы мешаю им, хотя... Это как бы последний барьер, последняя помеха для них... Нет, не я, конечно, не думай так! Я про театр говорю, которого они, они словно боятся, почему и хотят уничтожить, сорвать занавес... Ну, а я волнуюсь... - Милая, не надо! Я сейчас прибегу к тебе, я буду с тобой! - с тревогой прокричал он. - Нет! - как-то слишком резко, с испугом оборвала она его, потом пытаясь оправдать это, но не очень убедительно. - Не надо, мне надо побыть одной, принять решение... Они ведь столько сейчас и про меня говорят, и про... Да, и про театр... И про тебя... Не надо, не приходи! Они говорят, что я заинтересована, раз противодействую всему, всем им, всей политике... из-за тебя... Я должна быть одна... - Нет, это глупости! Пусть говорят! - торопился он, хватаясь за словесные якоря, боясь, что она повесит трубку. - Понятно, но слишком ответственно, - уговаривала она, скорее, себя. - Ведь не они, другие говорят, что ты... Ну, что ты был первым в этом, ты и открыл этот ящик Пандоры, поэтому ты тоже... Они – только жертвы этого! Ведь это же все из-за тех реформ, перестройки стен? А театр мешает, потому что там врать пришлось бы живым людям, а они не всегда могут, краснеют на сцене, у них разрываются сердца!.. Ты ведь был первым, ты должен был знать, что вы... - В чем первым? С кем первым? С ними?! - не мог скрыть возмущения Андрей. - То, что они ворвались сюда за нашими спинами, в нашем Троянском коне, еще не значит, что я... Нет, я не снимаю с себя ответственности, ничуть! Глупость - не оправдание! Доверчивость - это не вера! Но ты ведь не веришь, что я на самом деле?.. - Нет, - неуверенно ответила она. - Но все равно не надо... Я должна одна принимать решение, я должна все сделать сама, любой ценой, чтобы не допустить этого, иначе это конец всему... Тогда уже ничего не останется, откуда и куда бы можно было вернуться... - Любимая, мы останемся, друзья наши останутся! Пойми, главное не сцена, не трибуна, а кто там... играет! Да, играет... жизнь настоящую, - пытался успокоить он ее и себя, слыша, как от обиды разрывается его сердце, хотя тут же вспоминал свои заблуждения насчет совета, перестройки, своей роли там, на их трибуне... - Этого мало, - слышал он, как пробивается издалека ее сдерживаемый изо всех сил плач. - Мы все порознь... Мы - каждый сам по себе и даже не за себя... Мы ужасно слабы этим и ничего не сможем, потому что мы боремся с собой, против себя же. Понимаешь, честность и правда - это самое сильное оружие, но мы честны только по отношению к себе, только мы слышим правду, которая нас же и убивает. Ведь стрелы любви безвредны для тех, у кого нет сердец, хотя они могут быть сражены - ее ядом! Нет, выхода нет!.. Прости... - За что?! - крикнул он изумленно, не понимая ее тона. - Это я должен был бы просить у тебя прощения за то, что... - Нет, не надо! Не смей! - прервал она его, повысив голос и не давая вставить ни слова. - Любовь не может быть виновной ни в чем, пусть даже сейчас, в этом мире, она только и делает, что ошибается, но здесь нет ей судей! Поэтому я тебя никогда ни в чем не винила, не обвиню, ведь я и сама... Нет, все! Я должна идти, у меня сейчас много дел, поэтому не звони... пока. Прости, но мне, правда... Она положила трубку... Когда он забежал ненадолго домой, то застал Музу в каком-то странном, подавленном состоянии. Она играла совершенно другую мелодию, ироничную, чуть ли не шуточную, но полную сарказма, хотя знакомые мотивы он все же узнавал, улавливал и две темы, но сейчас почти заглушенные многоголосьем той, похоже, фоновой, которая приобрела несколько иной вид, заполонив собой все, запутав вдруг и его мысли, чувства. Но он все же понял, что это была, скорее, уже Интерлюдия, вставка, которой она отреагировала, видно, на его уход. Видя, как он мечется по квартире, она скомкано закончила ее и, глядя на него просто умоляющим взором, вдруг собрала в себе последние силы и почти на одном дыхании сыграла бурный, неожиданный финал, репризу ли. Он услышал и знакомые темы, хотя они были более прозрачными, неуловимыми. Шум фоновой темы стих, две мелодии слились наконец, воспарили... Но самый конец, последние аккорды, ноты, не совсем похожие на финальные, а словно взмывшие в небо и зависшие над землей... черные вороны, может быть, и голуби, казавшиеся отсюда все равно черными точками, ему показались просто ужасными, видимо, потому что он разрывался сейчас на части... Глава 10 ...Сегодня бежать было невероятно трудно, тем более, вместе с непростым намерением, с бесповоротным решением!... Страшный ветер дул навстречу, развевая полы длинного, черного пальто, хлеставшие ожесточенно по перилам мостика, то и дело уходящего из-под ног, словно он собирался повеситься на своем длинном, черном шарфе, цепляющемся за мерзлые, звенящие мелким бисером прозрачных льдинок, ветви деревьев, еще вчера плакавших бурной капелью по умирающей осени. Слезы замерзли, и мостик был чрезвычайно скользким! Стоило бы ему хоть на миг остановиться, и ветер бы понес его обратно на парусах пальто, с которого он уже оборвал почти все пуговицы, словно не хотел позволить ему спрятаться от дурных предчувствий, от которых он, как ему казалось, и пытался сбежать. А ведь его они и считали ветром перемен, словно забыли, что в их края он приносит лишь жуткую стужу... А теперь этим ветром возвращающейся к ним зимы задуло не только солнечный костер, но даже факелы уличных фонарей и живое, теплое сияние окон, испуганно, с ужасом глядящих на мир черными, пустыми глазницами домов, кажущихся в сумерки черепами сотнеглазых циклопов, из которых сквозило холодом смерти... Он даже не удивился тому, как быстро, почти на глазах темнело, словно ветер хлестал ему в лицо не колючими снежинками, а мертвыми секундами времени, стремительно уносимого тем отсюда, где оно тоже могло умереть... Однако, темнело довольно странно, словно бы воздух и самое брюхо неба все более и более насыщались серой краской, которая никогда не смогла бы стать настоящей, чистой чернотой ночи, способной порождать жемчуг звезд. Таким же серым был и снег, свиваемый ветром в длинные седые прядки, змейками шуршащими на обледенелом черепе Горгоны, по которому редкие прохожие растерянно ползли испуганными, истощенными вшами, цепляясь за щетину фонарных столбов, стволов дерев. В глазах их застыли едва тлеющие останки дневного света, и они прикрывали их от ветра, боясь, что тот задует их вместе с отсветами угасающей памяти жизни. Да, их жизнь осталась лишь в памяти. Вокруг ее нигде не было, нигде не ждал их домашний очаг, чье сердце давно погасло, замерзло и влекло к себе лишь по привычке. Обреченно они ползли в свои холодные и мрачные склепы, где хотя бы не было этого безжалостно правдивого ветра, словно рентгеном пронизывающего насквозь их совершенно пустые души, не способные ни только сопротивляться, но даже захотеть разжечь костерок из лживых книг, хотя бы попытавшись оживить свой домашний очаг, отогревши, разбудивши, ожививши с ним и свои сердца, превратившиеся в обычные, механические будильники, ходики. В страхе эти тикающие эхом жизни ходики жались к стенам, ныряли в норы подъездов, когда мимо с шипением проносились летучие мыши машин с черными стеклами, сверкая огнями ворованного света, золотые раструбы которого выискивали перед собой какую-нибудь замешкавшуюся жертву, но лишь ради забавы, шутки, потому что мыши знали, что все их возможные жертвы, давно не евши, не пивши, не певши, пусты даже сукровицей, поэтому им оставалось охотиться друг на друга... Андрей в ужасе парил на своих черных крыльях над этим шевелящимся кладбищем города, только сейчас осознав, что его Муза создала свое величайшее произведение, пред которым вся его прошлая жизнь вдруг поблекла, погасла, потеряв даже видимость жизни... Но он же не мог этого понять, он - плебей!.. А сейчас он понял и то, откуда.., а, точнее, куда уносится этот ветер времени из его бывшего города, бывшей страны. О, да, она создала свою вселенную любви, всепоглощающая бездна которой способна поглотить свет и тепло всех звезд, всех жизней, их домашних очагов, где только чуть теплилась душа маломальской любви... Нет, она даже не прикоснулась к золотым раструбам машин, по-прежнему светится матово-бледными, неживыми огнями и огромный "Белый дом" власти, словно помои выплескивается на тротуары голубой, мертвенный свет роскошных витрин ночных клубов, ювелирных магазинов, за которыми порой вспыхивают, ощетиниваются ли стальными иглами мертвые звезды бриллиантов. Но из-за этих огней еще шевелящееся кладбище совсем не казалось ему живым - он уже не умел, разучился воспринимать мертвый свет фосфоресцирующей трупной плоти... Боже, а ведь он даже не обратил внимания на то, что в этот раз Муза, доиграв до конца свою первую сонатину, не сказала ему ни слова, а просто рухнула на пол около рояля, бросив на него только полный мольбы... взгляд, сверкнувший в его памяти ярким, быстро погасшим метеором, и уснула беспробудным сном. У него же хватило терпения лишь на то, чтобы перенести ее на диван и укрыть темно-фиолетовым, почти черным покрывалом ночи, и выбежать из студии, с трудом открыв входную дверь, которая просто трещала под напором дикого ветра, чуть не зашвырнувшего его обратно... Но он на этот раз был просто растоптан и осознанием своей ничтожности, и тревогой, чтобы обратить тогда на все это внимание, осознать величие случившегося, перед которым его мирское тщеславие, его плебейская гордыня могли бы легко обратиться в ничто, исчезнуть, рассеяться, вернув ему разум, рассудок ли... Что вы, перед ним словно бы встал ужасающий своим откровением вопрос: поверить ли в ее божественность, в бога ли вообще, или же стать самому... дьяволом, способным на все ради... Нет, от окончания этой фразы он и сбежал, только сейчас припоминая все то со стыдом... Боже, но ведь и не любовь влекла его сейчас к Татьяне, а осознанный вдруг страх за эту любовь, которой грозила опасность со всех сторон! Лишь сейчас он вспомнил тот ее взгляд, случайно пойманный на лету, когда он вдруг ударился о косяк и резко обернулся... А он-то принял за сияние испуга его мстительный блеск, тут же погашенный лучиками ресниц, слезами сопереживания, едва она увидала на его рассеченной брови капли крови. Но с самого начала работы над этой песней, когда она вдруг отвергла какие-либо слова, все-таки понятные ему, и постепенно превратила ее в сонатину, как она сказала, в которой шла смертельная схватка трех тем, а он мог уловить лишь два отчетливо различимых голоса, Муза постоянно прятала свои взгляды даже в его поцелуях, подставляя ему вместо губ свои полузакрытые, влажные глаза... Неужели?! Или он что-то забыл? Что-то не мог вспомнить? Нет!?.. Да, ей вдруг стало не хватать той части его любви, которая оставалась у него от Татьяны. Она возжелала все! Но эта, вспыхнувшая в ней неожиданно, жажда уже не знала пределов и утоления... Очевидно, подсознательное озарение и унизило так его? Да, он начал тогда догадываться, что и всей его любви для нее в тот миг стало ничтожно мало... И от этих догадок он тоже пытался бежать, в первую очередь предчувствуя, кто может стать ее следующей... Нет, слово жертва тут совсем не подходит! Это не правда! Нет! Жертвой мог стать только он, виновник всего!.. «Да где же она?!»... В этот миг он проносился мимо одной из мышей, уткнувшейся разбитым носом в театральную тумбу, оказавшуюся бетонной. Крылья дверцей распахнулись, и за одной из них он вдруг увидел фосфорный свет голубого экрана, в котором еще теплилась ее мертвая жизнь. Да-да, теперь эти голубые экраны, к счастью, светились только здесь, да в домах власти, в храмах злата... Она, да, именно Муза погасила их сейчас в домах простых людей, убрав их из своей трагедии... С экрана передавали новости из их же мира, и он успел услышать, что, оказывается, свет погас не только в их городе, не только в их стране, но и там, погрузив во мрак почти целый континент... Возможно, это были и не новости, а один из их фильмов смерти, питающий их красным адреналином, позволяющим имитировать жизнь. Это одинаково было для него неинтересно, и он помчался дальше. Его больше мучило другое: ее окна были также мертвенно черны, ее белая комната была полна мрака, там не горели свечи. Его страх теперь стал намного сильнее ветра, и он беспрепятственно мчался вперед сквозь гулкие галереи улиц, пронзая тупики дворов, ямы площадей... В одном из окон театра он заметил слабое свечение. То было окно Леона, и он устремился туда, переполняясь надеждами... Увы, ее там не было! За столом в одиночестве сидел Леон, обнимая ладонями похожий на бокал подсвечник, в котором, слегка потрескивая, едва светился слабый огонек свечи, с которого тот не сводил зачарованного, заторможенного ли взгляда... - Да, жду, когда кто-то за меня поставит мой последний спектакль, под названием «Театр», - сокрушенно покачав головой, заговорил он, произнес ли вслух, о чем думал. - Увы, сам я - не Павка, не выхвачу маузер, да и зачем? Чтобы сдвинуть с места их поезд, где и пассажиры - только они? Нет, я уже ставил ту трагедию там, где меня все равно не поняли, поняли наоборот. А я не понял, кто мне аплодировал, для кого подбрасывал дрова в топку. И ты аплодировал... Жаль, то был последний спектакль, а я хотел поставить еще один: «Исповедь пассажира». Хотел тебе дать аванс,.. даже всю сцену, срежиссировав лишь освещение, декорации – мрака... - Я мечтал о том, - сказал Андрей, так и стоя в дверях. - Но кто были бы зрители, перед кем бы я метал и свой соленый бисер? - А то не важно, - покачал Леон головой, не сводя глаз со свечи. - Всегда считал, что спектакль ставится не только для зрителя... в зале, что он обретает и свою собственную жизнь, если получится живым, честным, искренним... Искря! - Почему только я, именно я? - серьезно, но пытаясь усмехаться, спрашивал Андрей. - У нас еще никто не исповедался, а куча тех мемуаров - лишь описание исповедальни, но глазами одиноких, беседующих с самими собой, но лишь исповедников же... - А кто еще? - горько спросил Леон, бросив на него единственный взгляд, не пробившийся сквозь тьму. - Музам исповедоваться не надо, у них каждое слово, нота, мазок - исповедь души! Это то же самое, что исповедаться Создателю, но перед кем? Про тех ты сам сказал. Другие молчат - заняты, загружены расплатой за свои грехи, к тому же, все они считают себя невинно пострадавшими, ведь им уже указали виновника их мук, искусителя. Да, это ты! Пусть ты всего лишь сыграл его роль, но мастерски сыграл, тебе поверили! Почему? Потому что ты сам верил... себе. Ты не лгал, почему тебя вскоре и перестали слушать, потому что правда оказалась слишком страшной. Другие бы так не сыграли, ведь им нужно было переигрывать, а ты бы и играл самого себя. Я это признаю... Просто ты не понял, в каком спектакле, какую роль играешь, наивно, явно по-научному, видно, полагая, что истина всесильна везде... Увы, ты ведь даже не заметил, наверняка, что, пока ты произносил слова своей роли, их смысл уже подменили, и зрители в программках видели иную их расшифровку, иное толкование... А, да зачем все это? Теперь уже поздно об этом и говорить. Для твоей исповеди нет теперь даже сцены... - Заметил, Леон, - сказал Андрей, хотя его волновало сейчас другом. - Но ведь она сказала, то есть, я понял с ее слов, что не все еще потеряно? Где она? Она ведь должна сейчас именно театром и?.. - Ее нет, - спокойно, словно равнодушно отвечал тот, упрямо не глядя на Андрея. - Ты же сам увел ее, как украл, спрятал от всех и Музу до этого. Но Музу я тебе простил, ее ведь и невозможно украсть, она очень своевольная девочка, сама решает - кто ее украдет, кто станет тем самодовольным счастливчиком. Я тебя не винил, а просто завидовал, ведь она - не просто редкое сокровище - она бесценна, поскольку творит, как и Создатель, неповторимое, чему нет эталона, цены, сцены. Завидовал не зря, ведь театр мой без нее так и не выжил, превратился – для зрителя - в банальное шоу. Не твоя вина, ведь как ни странно, поклонников у этой гениальной девочки вдруг не стало, и я бы тоже в одиночестве восхищался ее творениями на нескончаемых репетициях, разрывая сердце состраданием ко всем обездоленным. Но мои муки были бы мучительнее - кроме меня ее бы никто никогда не узнал, ведь и творения театра, как бабочки, тут же умирают, едва расправят крылья! Я и не знаю теперь, в чем вечный смысл: в его творениях или в самом Театре, как и в Жизни? Да, ты говорил, что сотни миллионов лет до нас жизнь просто была и просто бабочек, даже рушащих мир взмахом крыл... Говорил и о сотнях ее катастроф, трагедий, когда не было лишь критиков, зрителей! Может, ты знаешь, как сохранить их, тогда я благодарен тебе, поскольку твоя услуга вечности неоценима. Но Татьяну я тебе, как и Онегину, не прощу! Ты украл у меня и самую красивую в мире бабочку, которая сама по себе - неповторимое творение, Идеал! Нет, красота ее, даже пропав в их мире, не пропадет для вечности - не верю в такую расточительность Создателя, в смертность Его творений! Увы, не уверен в ином - что сам достоин той вечности! А ты и украл у меня мое дивное мгновенье, которое было бы равноценным... Ты же рассказывал о муках больного уже неизлечимо Олега, находящего среди трех тополей памяти лишь Татьяну, и о ней, вспоминающей чрез слово - пусть обидно - но лишь его? Тебе доверились, змей! И после того ты не знаешь, как трагична планида театрального режиссера, могущего остановить действо, но не сыграть далее, особо заново?.. Нет, я верю в бессмертие, знаю, что Создатель не мог избрать для себя иную планиду! Сколь в сих стенах умерло спектаклей! Не бессмертных пьес - спектаклей! Сколь ролей, сыгранных живыми актерами! Ты не поймешь, не испытаешь моей боли, моих страданий из-за того! Если бы Бог создавал смертных, он бы сам умер от горя! И ты просто добил меня. Больше, чем эти поклонники шоу! В этих кордебалетах я хотя бы намеками, подтекстом мог показать для зрящих скрытые черты настоящего искусства! Из пошлых в понимании тех сцен и па я мог сложить даже гениальное в целом произведение, которое слепцы не увидят, не поймут и таинственный язык жестов, движений, глядя лишь на ножки и под юбки моих талантливых актрис... А с ней мне не нужны были бы никакие намеки, ухищрения, хотя, конечно, то не я - ее создатель... Возможно, что ты даже спас меня уже от жгучей зависти к Нему? Возможно! Ведь я, как любой творец, страшно завистлив, могу признать чье-то превосходство над собой, но лишь возжелав устранить это. Зависти могут быть лишены, наверно, только гении, точнее, объектов зависти, хотя и они всегда стремятся уподобиться Создателю во всем, в чем-то отдельном, может быть, и походя на него, может, и превосходя... Однако, и они были учениками, хотя бы Его? Но зависть к тебе все-таки менее мучительна, чем к Нему, хотя и... более унизительна!.. - Хотя унизительнее зависть к самому себе, - безучастно проговорил Андрей. – Шекспир, явно, сам пустил слух о своих знатных двойниках... Зачем? В светской жизни ему, сыну перчаточника, было неуютно рядом с высочайшей Музой, пред которой он, да и все его окружение были,.. извините!.. Он все про них написал! Пред ней ему было неудобно! Даже умер он, якобы, банально, чтоб не хоронить с собой Ее, бессмертную, оставив ей столько имен для жизни... Да, кроме гения – тут еще и признаки величайшего самопожертвования!.. Нет, не ради Любви – он и в этом не изменял своей Музе... - Тогда зачем тебе другая?! Конечно, я мог тебя оправдать с твоих собственных позиций униженного ничтожества, но как ты тогда мог посметь даже посягнуть на ее высочайшую любовь?! Именно из-за этого? Доказать себе, что ты?.. - вскричал Леон, успев все же заслонить ладонью пламя свечи, которое бы наверняка погасло... - Ты сам ответил, Леон, - усмехнулся Андрей. - Я бы не стал заслонять его, а сам погасил. К тому же, мне, в отличие от тебя, некогда сейчас философствовать - я должен найти ее... - Негодяй! Словоблуд! Боже, неужели я могу ставить только... чужие жизни?! - вскричал Леон в отчаянии, уже не прикрывая пламя, которое и погасло от последнего порыва его чувств... Но Андрей уже не видел этого, поскольку мчался дальше сквозь серый мрак подоблачного мира, мгновенно забыв их разговор. Вся его память сейчас была нужна для другого. Он вдруг ясно осознал, что помочь ему может сейчас только память, а вовсе не логика и не интуиция... Именно память должна была сама вывести его к ней и помочь спасти ее, а интуиция, чувства его лишь могли подсказать ему и подсказывали, что она должна быть жива, что его Музе не так-то просто было бы ее... забрать у него, хотя она и превосходит ее силой музыки, но все же равноценна, равносильна в Любви, как и Любовь сама себе, в скольких бы лицах она ни выступала! Он не хотел доверяться полностью интуиции и даже чувствам, потому что еще верил в бессмертие и своей любви, для которой не существует условных преград... Но он ведь искал ее здесь! В жизни... Поэтому он в первую очередь бросился в подземный переход, где должна была быть почти ночь, которая не знала полутонов неопределенности, но всегда была переходом куда-то... Но там он застал лишь целую толпу цветочниц, теснившихся вокруг своих полупрозрачных цветочных домиков из целлофана, внутри которых мерцали трепетные огоньки свечей, согревая умирающие цветы, чьи лепестки с тоской ожидали последнего поцелуя. - Почему вы здесь? - удивленно задал он глупый вопрос. - Здесь же никого нет - только цветочницы! - Чтобы не задуло ветром свечи, - недоумевая его глупости, ответили они хором. - К тому же здесь есть они, наши цветы! - Но здесь нет ее, Красоты! - горестно воскликнул он, грея руки на стенках одного из живых домиков, внутри которого цветы вдруг ожили, распустили свои бутоны, ласкаясь словно кошка о его руки сквозь тонкую пелену. - Боже, вы хронически глупы, - закачали те своими головами, похожими на фарфоровые. - Зачем тогда цветы, если красоты нет? - Нет вопроса «зачем»! - упрямо спорил он, при этом ласкаясь ладошками об опосредованные ласки самого красивого и ласкового цветка, который растолкал все остальные... - У нас это и не вопрос, а ответ в виде вопроса, - недоумевая его непонятливости, продолжали настаивать цветочницы, окружая его со всех сторон своими домиками, внутри которых быстро оживала целая оранжерея, чуть ли не сад. - Вопросом можно считать лишь слова, что, мол, если красоты нет,.. но он сам собой отпадает, как и... Что вы сделали?! Наши цветы опадают! Отпадают лепестки! Уйдите!.. - Я же говорил вам! - сокрушенно обвинял он их, но его уже не было слышно из-за рева ветра, вдруг ворвавшегося в переход, погасившего все свечи, вылетая в противоположную сторону вихрем счастливых лепестков, целующихся друг с другом. Цветочницы словно исчезли, и Андрей последовал вслед за цветочным ветром к вороху лохмотьев, дрожащему от холода на другом выходе. - Амадей, ты не видел Красоту?! - с мольбой воскликнул он, присев рядом от изнеможения. - Увы, - раздался оттуда глухой голос, постепенно угасающий, - я, на горе, могу ответить только на один вопрос, поскольку у меня не хватило даже сил убежать отсюда, но, если ответ тебя не устроит, ты сам виноват... Мой ответ отрицательный: Амадей видел красоту... - Где Татьяна?! - воскликнул Андрей, вскочив на ноги и пытаясь разгрести лохмотья, добраться до их... К нему под ноги посыпались скрипка, смычек, тюбетейка, рассыпая звонкие монетки по лопающимся струнам и трескающейся на холоде деке, на что оставшийся внутри сменщик Теодея даже не отреагировал, не возмутился, застылым взором провожая улетающее вслед за цветочным ветром облачко пара, закружившееся игриво вокруг целого роя подобных, но каких-то более изящных, округлых... Он знал, куда они летят, и чуть было тоже не сдался, так сдавило тоской и тревогой сердце! Да, они улетали туда, что он больше всего и опасался... Но пальто уже распластало свои черные крылья, и он, подняв на память новенький, блестящий рубль, помчался дальше, сквозь множество арок, под каждой из которых находил целые горки пустых бутылок, из которых давно уже улетучился аромат амброзии, оставив только видимость... Ветер перемен с ревом бушевал за арками, заглядывая лишь исподтишка под их своды и, словно в насмешку воруя последние капли пьянящего запаха... Он тоже ужасно не хотел потом копошиться в ароматах смерти... Глава 11 Одной из последних была опять Надежда - встретить друзей в картинной галерее, хотя он тут же содрогнулся внутри, подумав лишь об этом, либо вновь увидев перед собой черные окна ее кабинета. Ту он заслышал издалека, так как знал уже скрип ее массивной двери, громко хлопающей от порывов ветра, то распахивающих, то с грохотом захлопывающих ее так, что со стен здания лавиной сыпалась разноцветная штукатурка нескольких уже столетий... На первом этаже, в большом зале галереи он, как и ожидал, то есть, подозревал, увидел лишь несколько картин с нетронутым переменами изображением, но сейчас его взгляд сразу привлекли к себе остальные... холсты в золоченом багете, но именно холсты, трепещущие на ветру и совершенно девственные, даже без грунта, тоже унесшегося в вечность... Во всем доме на всех этажах то и дело громыхали двери, словно кто-то шумно хлопал в ладоши, кричал, хохотал... Но он думал не об этом... Он уже понял, что лишь в одну из мастерских ветер вообще вряд ли заглянет, да, того самого художника, чьи картины и висели нетронутыми... Если они здесь, так только там! Он оказался прав: ветер даже не касался совсем не запертых дверей этой мастерской, за которой он давно не был в этом веке. Друзья его сидели там вокруг маленького костерка, в котором горели похожие на те картины, горели шумно, надувая пузыри, кипятясь, выпячивая невинные холсты колесом... - Гог, скажи, где может быть сейчас Татьяна?! - с порога задал он внятным голосом заранее обдуманный вопрос, устремившись все-таки поближе к огню. Сидевшие вокруг костерка друзья молча кивнули и разомкнули свой прочный круг, уступив немного места. Вилли, более того, молча сунул ему в руки полупустую бутылку водки, из которой Андрей с жадностью отхлебнул большой глоток... - У нас очень много водки, - заметил настороженно Гог, кивнув влево, где и правда стояла целая пирамидка коробок с «Губернатором», - поэтому можешь не торопиться. Мы, кстати уже выговорились, поэтому, пока не забыли это, ты бы мог что-нибудь... - Гог, ты не слышал вопрос? - спросил Андрей, не спеша отпив несколько глотков согревающего и души идущих напитка. - Ты понимаешь, что художник не может доверять слуху? - капризно спросил тот. - Я видел, зато, что тебе сейчас больше нужно... - Вилли, быть может, ты ответишь? - жалобно, вдруг заплакав, словно водка растопила в нем целую глыбу морского льда, спросил он того, промокая слезы о его плечо. - Опять это быть или не быть?! - с необъяснимой злостью спросил тот, подавая другую бутылку вместо опустошенной. - Неужели ты был первым в городе бунтарем, звавшим к ломке всего, и, в первую очередь, стереотипов, шаблонов? Вот, Иван и то уже не задает этот вопрос, комбинируя разные глаголы. Иван, пить или не пить? - В чем вопрос! Жить! Естественно! - крикнул Иван, высунув свое ехидное лицо из-за плеча, а, точнее, из-за носа Амадея, и выхватил бутылку из рук Андрея, отпив сразу с половину. - Но он сразу был подозрительным, я вам скажу. Да-да, все подозревал и меня, в том числе. Именно этот вопрос его, наверно, но точно погубил. Скажешь, нет? Не ты ли сомневался постоянно: бить или не бить? - Андрей, а ты уже знаешь, где моя скрипка? - как-то безнадежно спросил Амадей, отобрав у Ивана бутылку и передав Андрею. - Если знаешь, то выпей... Сам ответ смысла не имеет! - Нет, пусть он сначала скажет: бить или не бить? - настаивал Иван, опять прячась за носом Амадея. – И кого! - Иван, это уже прошлый век! - укоризненно воскликнул Вилли, подложив в костер еще одну холстину. - Ты не возражаешь, Ваня? В прошлом почти веке мы его столько раз решали позитивно, что от него самого почти ничего не осталось... Одни осколки и обломы... - Я вообще-то – Иоанн Рыбак, если уж мы решили начистоту... поговорить о моем творчестве, как и о своем, - пробурчал тот недовольно. - Но, друзья, я не виноват, что мои остались целыми, правда! Это время виновато... Я же писал не для него – для людей! - Ничего, Ваня, твои тоже должны стать редкостью, раритетом, чтобы каждая, то есть, одна стоила сразу миллиарды, обесценив их! А если их останется даже две, то это уже будет не последняя в мире картина, понимаешь? Ты знаешь, какую оставить? - Да, - в противоречивых чувствах ответил тот. - Я ее на первом занятии кружка... в доме пионеров написал, пока меня еще не научили ничему... абсолютно,.. хотя вдруг захотел писать... - Это чистое искусство! - восторженно воскликнул Гог и, подав каждому по бутылке, высоко поднял свою. - Но и этот век будет вряд достоин его, как я уже начинаю подозревать, прозревать!.. Нет, Иоанн краситель, мы оставим последнюю... - Я ее еще не того,.. не закончил, - скромно признался тот. - Искусство, Ваня, не может вот так закончиться, пусть это и будет свидетельством его вечности! - торжественно произнес Гог, вытирая слезу с пола. - Скоро уже ею будут восхищаться, как эталоном... - Стой, Гога, не продолжай! - крикнул Андрей, вскочив на ноги, зная, о чем тот говорит. - Дай, я сначала уйду! - Нет, Андрэ, не уходи, послушай меня! - одернул его Иван, усаживая жестом. - Понимаешь, что я тебе и всему миру хочу сказать этим? Правильно, мир не может остановиться на полпути, но не имеет права останавливаться в конце! Татьяна была вершиной красоты, красивее ее уже не могло быть в принципе, даже теоретически! За это надо выпить!.. И что дальше? Конец? Что делать мне, художнику? Что делать всем этим шоуменам и красавицам, претендующим?.. На что претендующим? Быть жалким подобием? Думаешь, ваятели античности не понимали этого, творя Венер с земных женщин? Или модернисты не осознавали, что делали шаг назад, когда появилась фотография, но два вперед? Какой выбор нам оставило бы кино, если б Мэрилин сама не была посетительницей искусственного рая? Или считаешь, что апологеты просто так приписали Еве первородный грех, хотя можно было обойтись показательной карой искусителя, растоптав его голову, семя? Они оставили всем нам, каждому из нас открытую перспективу, потому что от греха можно двигаться только в одну сторону - от него, не плясать от него, а уходить! Выбор у всех прекрасен! Потому и твои Истины были отвергнуты, как отправные! И красота должна быть... Нет, мне это, конечно, трудно говорить. Но, Андрэ, или ты и есть тот антихрист, кто пришел погубить мир, пустить вспять, возвести и низвергнуть с вершины в бездну? Каким бы я стал творцом, если бы не мог сотворить ничего лучше того, что создано Им? Стать ксероксом коммиксов? Понимаешь теперь, что уничтожило все и наши творения, оставив только это? Понимаешь, для чего? Чтобы у мира вновь появилась перспектива, цель, будущее, смысл... - Я знаю – кто! Но мне наплевать на ваш мирок, если он весь не стоит и улыбки ее! - зло оборвал его Андрей. - Он весь был только для того, чтобы однажды стать холстом для ее божественного портрета, почему он и создавался таким серым, грубым. И ты ради этой холстины захотел бы уничтожить сам портрет? Ради средств - пожертвовать целью? Да, ты ведь так и не написал его? А ведь хотел?.. - Но тебе ли нас в этом упрекать?! - перебил его, сверкнув глазами, Гог. - Я-то хоть понимаю, что не достоин... - А не так ли был распят и Христос? - виновато спросил Теодей. - Не для того ли его и распяли на вершине, да еще и воздев выше нее крест? Каким мир остался после него, Андрей? Опять виноватым, вымаливающим прощение, и достойным лишь костра… - Амадей! - дико заорал Андрей, словно бы хотел уличить его этим криком. - Уж тебе ли не знать, кто и что в действительности уничтожает сейчас и ваш мирок, и даже Его, от которых я бы и сам не оставил камня на камне, хотя кроме камня тут ничего и не?.. - Неужели Муза?! - радостно воскликнул тот, пылающим взором глядя на Андрея. - Боже, я так надеялся на это! Свершилось!.. - Но ты же понимаешь, что это абсурд! - пытался образумить его Андрей. - Музыка уничтожает и Красоту?! Этому нет определения! Это и не коллапс - это нелепость!.. Это... Сингулярность... - Но почему уничтожает, Андрюша? С чего ты взял? - с упреком даже спрашивал Теодей. - Просто на свете не могут быть одновременно две равноценные, но противоборствующие красоты, которые бы разорвали его в клочья, в лоскуты, и они должны... - Как и его самого!.. Проговорился, наконец? – вскричал вдруг Иоанн, встав посреди своей мастерской незыблемой статуей. – Или думаешь, я не помню и твоей лекции в Горкоме про Горгону, не понял смысл Сингулярности в космосе, математике... Но с Синая бродя по миру, с креста – Амадей прав! Они ее типа в транзисторах, в искусственных схемах обнаружили! Смехота! Хотя бы вспомнили, что Человек за десятки тысяч лет до вашего соображающего, обзывающего, пишущего, не только писающего меж сонетами, был Творцом, Мастером, Человеком Искусства, расписывающим стены пещер, «Гротов Венеры», первых галерей полотнами, фресками из своей примитивной по-вашему жизни, ваяя уже тогда статуэтки Мадонн, и тогда уже сугубо реалистически, социально реалистически – какими те и были в социуме... Создавал новый Мир Красоты, саму Красоту! Что создали потом твои умники, лишь обозвавшие, рушащие все то – увидишь вскоре и сам... плоды и своих... творений! - Но я же не спорю с этим, Иоанн? – удивился и Андрей, даже заинтересовался, хотя и спешил. – Но при чем тут Сингулярность? - И я про то же! – рассмеялся тот почти гомерически. – Слышал звон, да не знал – где он! Так и во всем, в той же политике! И тебе еще верили! Но ты хоть представляешь, откуда, с чего началась ваша Сингулярность в этом мире, ну, если я правильно ее понимаю, вся эта бессмыслица, весь этот хаос, абсурд ли? Увы, не с Кафки и прочих абсурдистов! Может быть, с джаза, да, салонного разрушителя! Но воочию - опять с живописцев, первопроходцев и тут! Кто первым рассыпал весь ваш буржуазный, пошлый и бессмысленный мирок на хаос абстрактных форм, линий? Не Кандинский ли? Нет, не пытаясь его приблизить к кажущейся сути, отдалить ли чуть от нее некими искажениями форм, цветов, зрительными глюками, игрой мазков, а просто рассыпав в абсолютную бессмыслицу по холсту! Просто ли запихав его в якобы бессмысленный «Квадрат» Малевича» – универсум абстракционизма... Согласен, примерно в то же время, как и все ваши цепные, почти рабские радиации и прочие относительности, мало кому очевидные... Но ты взгляни на любую картину Василия – разве тут не относителен наш мирок обывателей, разве у него есть какой привычный, бытовой, общепринятый смысл? Полный хаос, но как бы привычных со школы форм. Кто после Васильевича, первого композитора кисти - те промежуточные, примиренческие Дали, Пикассо, все же цепляющиеся за привычные образы, не говоря уж о консервных Поп-Артах, кого сегодня нам навязывают в салонах, рекламах? Промежности барышни Искусства! Кандинский и обозначил, прочувствовал начало твоей эпохи Сингулярности, рассыпав всю эту реальность в бессмыслицу но осмысленных, математических форм! Не знаю, что им двигало... Жизнь? Музыка! Я – ведь тоже промежуточный, прятавший хаос среди мазков, ну, почти как Ван-Гог, но без лишних цветов... Но Василия-то я прекрасно понимаю, в отличие от вас! Мы же с этим и боролись, пытались остановить, исправить сей хаос Смерти буржуазного, мертвого, как мы считали, строя! Нет, тогда я не думал ни о какой Сингулярности, бессмыслице, хаосе... Мы просто создавали, творили противоположное, как творили то и живописцы пещер, понимаешь? Мы могли с этим и бороться, а не просто подчинялись воле партий, культработников – всякой шелухи. Сегодня мало кто сопротивляется вашей «воле»: диктату валюты, демократии денег – Сингулярности Золотой дыры! И что ты там, кроме хаоса мазков, пятен и относительности форм, увидел, если смотрел? Да, слава Богу, если не заметил и Попсы... На это наши художники еще не сподобились, хотя школа и плакатистов была мощной, но, наоборот, обрубая строгостью линий слащавость, тошноту их мещанства. Дело-то не в соц-реализме, а в том, какую ты реальность изображаешь, совершенствуешь в нем! Чью! Увы, сегодня она – для моих даже учеников – ваша, продажная, но... Но не для меня! В мазках, цветах я, может, и модернист, постимпрессионист ли какой, но только не в сути, не в цели, целостности картины. Но, как я с той лекции понял, и не для тебя, Андрей? Да, Гог, он ведь и стал потому ни тем, ни сем в этом, не выбрал в этом, якобы, новом свой жанр, своей цели, задачи, не вписался в сей новый мирок, который сам и создавал разрушением, но списывая все на Сингулярность, на неизбежный хаос, который и наступил, конечно... Нет, я, Гог, не про твои театральные декорации, хотя... - А о чем? - сокрушенно остановил его тот, сбившись с мысли. - Хотя он прав в чем-то, Андрей, поскольку это и могло начаться с тебя, именно с тебя, может, даже тобой самим: слепым, сознательным ли орудием, ну, Аватаром, тарой Аввы... Он прав... - А то я не знал, а то не я первым пришел к нему? - гордо высунулся тот вновь из-за носа Теодея. - И не я ли предусмотрительно припас все эти припасы? Для тризны! Для вас! Да-да, именно для вас, кто бы так просто ко мне в гости не зашел. А я все понял сразу, лишь встретив его и его вожака, продюсранца Петровича. Ну, не все, конечно, но главное понял. Остальное - это издержки, так сказать, производства процесса производства масляной продукции, если научно. Я ведь сразу заметил в нем коренное противоречие между словом и делом, между сердцем и мозгами, так сказать, обнаружив, где пролегает в нем червоточина - лазейка для других... И я не ошибся! - Ты? Ты?! - даже захлебнулся негодованием Андрей, почувствовав невыносимое унижение. - А то боги горшки и разбивают! - самодовольно продолжал тот, пьяненько усмехаясь. - Ты-то где, в чем искал причину, мотивы? В Ментурове, Петровиче? Может, в Адке, найдя там раздвоенность замыслов буквально? А уж хаос и подавно... – в черной дыре!.. - Не смей! - заорал обессилено Андрей, но вместо выражения протеста просто допил свою бутылку. - Вот, еще одно подтверждение коренного противоречия между битием и питием, бойцом и пиитом! - ткнул в его сторону трясущимся пальцем Иоанн. - Еще раз не скажете мне, в чем истина? Бывает ли она в Сингулярности, среди хаоса, бессмыслицы, как ты сам говорил задолго до того? Или ты «Квадрат» Малевича опровергнешь? Может, чей треугольник отвергнешь? Против тебя ж все кубисты восстанут! Или тебе некая справедливость, честность, даже истина - дороже твоей Музы, Красоты? Бывает ли что дороже? Нет! Не отвечай! Это все я тебе подсказываю... Мне-то ответ давно ясен! А ты и тут сомневаешься, почему и получишь это в итоге: ни то, ни се... Нет, не хочу даже говорить, что именно... Не люблю каркать! Я бы и сам этого не хотел, потому просто предупреждаю, хотя... - Заткнись, Иоанн! А то я и твою последнюю мазню спалю! - грозно рявкнул вдруг Гог, бросив в костерчик целую охапку сразу зашипевших ехидно картин, точнее, пустых холстов. - И весь этот мир станет лишь черно-белым, да и стал почти... Вот и ответ, Эндрю! - Молчу, как вина в рот набрал! - испуганно съехидничал тот и с готовностью захрапел, сев и не закрыв один глаз, из-за чего и рот его словно бы продолжал насмехаться над ним одной половинкой. - Прости, Андрюха, мы ничего не знали про весь этот хаос, о котором ты раньше знал, выходит, - виновато промямлил Гог, морщась от водки, - хотя странно... Но сейчас другое важнее! Это мы знаем и, если что... – сам понимаешь!.. Зови! Даже в ее «Грот»... - Все это чушь! - выпалил, немного отойдя, Андрей. - Нашли кого слушать! Потом таких пророков опосля будет еще больше. Но это не важно! Важно другое: не причина, не средства, как я уже сказал - только цель, он прав, а она неуничтожима, как вы понимаете, если не достигнута! Кто из вас, из нас достиг ее? То-то! То есть, цель ты знаешь... Дайте мне с собой бутылку, и я пошел... В «Грот...» - У тебя два кармана? - заботливо спросил Гог, засовывая ему в каждый по бутылке вместе с припасенной на черный день конфеткой. - Вдруг поможет? Две чисто белые... Привет Венере, кстати!.. - До встречи, хотя и.., - не закончив печальной фразы, вышел Андрей на улицу, сразу попав в объятия вихря, кружащегося словно в вальсе Венского леса по пустынным проспектам и площадям пустого города, невесть кем опустошенного, хотя он и знал - кем... ИНТЕР-ЛЮДИЯ нелюдей. Глава 12 Нет, пуст и черен город был, конечно, относительно... Огромный "Белый дом" вовсю сверкал огнями своих девяти кругов.., точнее, овальных этажей, уходящих вверх, и столькими же примерно вгрызаясь в землю. В полной беспросветной серости чернооконного города он сразу бросался в глаза даже слепым летучим мышам, безошибочно, на слухи слетающимся к нему со всех сторон подоблачного мира. Плотным кольцом они облепили его стены, присосавшись к ним своими золотыми хоботками световых раструбов... Цель его, возможно, как и в прошлые годы работы в этом доме, была не здесь, но средства ее достижения - вполне, не исключено. Если честно, он просто не знал, где еще их найти - слишком громаден был мрак, сгущающийся вокруг него по мере приближения к "Белому дому", из глубины которого доносился мерный гул собственной электростанции, отчего тот напоминал автономный от города, страны космический корабль, чуждый здесь и всегда готовый покинуть эту землю, эти края. К тому же, и нынешний столь обильный слет, съезд летучих мышей словно бы свидетельствовал о спешных сборах, приготовлениях к скорому отбытию, к важному ли событию, что и его заставило поторопиться. Вряд бы они устремились куда-нибудь, не достигнув здесь некой, прежде не достигнутой цели, не высосав все?.. Где бы и она нашла их, искала ли сама, хотя найти тут что-то было практически невозможно, почему он и начал не с практики, однажды уже заведшей его в тупик, а с Былого и Дум... А в былом, часто забывая пропуск дома, он знал, что беспрепятственно внутрь можно войти с черного хода, который был для своих и не охранялся потому. Обычный человек даже не подумал бы, что в Крайком, как в Гастроном, можно войти с Черного хода, хотя последний в совковые времена был основным для подобных заведений, почему, видно, тогда никто и не называл его "Белым домом", каким он ныне кажется многим, не смотря на явно серый оттенок стен... Но в нашей стране, исключая отдельные неоспоримые вехи, многое было кажущимся, почему, видно, у нас и не было государственных идеалистических теорий, а преобладала, наоборот, тяга к реализму, материализму - и в идолах, кумирах, иконах, злате церквей, а не только в ГЭС, ТЭЦ... А зачем, например, идеалистический взгляд на сказочную почти действительность Иванушек и прочих персонажей? Масло масляное, хоть и постное! Более актуален материалистический подход к надуманной кем-то реальности. Будь он другим, он был бы совершенно излишним, без него вполне можно было обойтись, как обходятся сейчас, когда официально нет никакого: ни идеи, ни реализма – голый патриотизм. Но перед голым... и встает вопрос о нужности заведений, через кои сей подход осуществляется ныне, когда его нет, а их, аватарчиков якобы былого - даже чересчур. Но ведь Патриотизм – это не любовь, преданность заведениям, правительствам, властям, а как бы Отечеству, Отцам – Patris, всему былому?.. А в Языческом Былом, однако, все то и называлось своими именами, никто не скрывал, да и не от кого было скрывать, что и Природа наша сугубо идеалистична, поскольку и считалась, и виделась воплощением, проявлением разных божественных сил, живущих буквально среди нас в виде лешаков, домовых, банников, сенников и прочих... Не было и этой избыточной, многоэтажной иерархии, пока не зазвали себе на голову королей с Янтарного брега, уже тогда с «заморского» Запада, откуда сами бежали сломя голову, устав спотыкаться и о них, и о их банкиров Нибелунгов. Хватало партсобрания, то есть, вече и выбираемого там всеми председателя, ну, или воеводы... Нет, были, конечно, и Терема(издревле Чердака), а не только избы, точные копии их хором с такими же чердаками, но только не жилыми, а именно и предназначенными для тех самых «постояльцев»... Да и зачем такой громадной Стране(Country – Eng, как и «деревня»), и созвучной со Сторонами(Anbar – Шумер) Света, строить многоэтажные амбары, башни(An-Zagar - Шумер), взбираться наверх, к небесам(An - Шумер), если и все ее боги жили тут, на Земле, среди нас, и всем хватало места даже загорать – не только для Страды? А многоэтажные хоромы и достались нам по наследству от ужасной по нашим меркам тесноты тех Babilon, Rome-1, 2... Иной природа, да и все у нас и не могут быть, если четыре раза в год одно и то же, вполне незыблемое, реалистичное на ощупь, постоянно на глазах трансформируется, превращается в свои противоположности: белое - в черное, черное – в зелень, зелень - в золото, золото – в.., да еще на таких просторах! Зачем было нашим художникам изобретать сюрреализмы, абстракционизмы у нас, если мы сами знали, что в реальных формах передвижнических, особенно, соцреалистических картин - вполне иллюзорное содержание, а по-детски правдивы, честны как раз фантазии Шагала, а в свете современности – и черные «окна» Малевича? То же самое можно сказать о литературе, искусстве, о всей жизни и стране, а сегодня, увы, и о власти, начиная с ежегодных муму-аров Мин-Эков, Мин-Финов, Минобразов.., в жанре если не абсурда, то тоже импортного постмодерна, из смеси пародий на нашу реальность и античные мифы... Но уже не реализма!.. Думал он о том, глядя на дом власти, настоль строгий, непререкаемо реальный с виду, что и предположить трудно, насколько нелепым то могло оказаться с обратной стороны, с черного хода. Когда входишь в парадный подъезд, огромный холл, отделанный черным мрамором, перегороженный стеклянными стенами и дверьми, он кажется просторным, цельным, строгих линий и плоскостей. Если же входить с черного хода, то попадаешь в путаницу узких коридорчиков, изломанных множеством поворотов, соединяющихся друг с другом такими же дверьми, что вели и в тупики кабинетов... «О, ужас, эти каменные сети и Зевсу не распутать!», - воскликнул бы и в этом лабиринте Борхес. При этом на всех дверях подряд висели одинаковые таблички с номерами или их вообще не было, поэтому пройти от черного входа к вестибюлю было практически невозможно, не попав в руки охраны, которой здесь было не видно, почему могло показаться, что она всюду, а так и было. Охрана, располагаясь в одном большом, сложной формы кабинете, спокойно ждала, когда чужак сам найдет ее, потому что лишь "свой", зная дорогу, без отклонений пройдет через все коридорчики, ни разу не спутав двери. Чужак гарантированно даже из двух дверей в одном из коридоров выберет именно ту, за которой сидит она, в один кабинет которой вела по регламенту Ментурова почти половина дверей... Случайные посетители даже мечтали попасть скорее в ее руки, потому что вконец запутывались в этой чреде коридоров, так похожих один на другой, даже не успев осознать, что здесь-то они и могли бы понять основную суть всего этого заведения, не утруждая себя дальнейшими изысканиями... Если вы, кстати, бывали в подобном учреждении, то вы могли бы пропустить эту самую длинную и запутанную главу его размышлений, тем более, что все это увидите наяву во время его посещения самих этажей Белого дома. Мы же последуем за ним... Сам холл со стороны черного хода казался тоже иным, темным на фоне улицы, тесным, полным подозрительных взглядов, не скрывавших своей сути, так как смотрели они не на тебя, пробравшегося сквозь путаницу черного входа. Иной казалась и совершенно симметричная лифтовая, если входить в нее с этой стороны, а не из холла. Но сегодня он не обращал и на это внимания, без задержки миновав все двери и коридоры, в которых не встретил никого, сразу направившись не в лифтовую, а к боковой лестнице аварийного выхода, так как мимоходом заметил, что все сегодня только входят сюда или что-то вносят. Заблудших душ, не знающих, куда им податься, зачем ли вообще они пришли сюда, сегодня и на первом этаже не было. Входя по аварийному выходу, наблюдая за всем со стороны, как бы наоборот, он видел все, как то должно казаться внешнему, внесистемному наблюдателю, который не должен увидеть ничего, но который только и мог уловить общий смысл, замысел системы... На второй этаж охраной направлялись обычно сомневающиеся, не знающие, что конкретно из множества им недостающего можно здесь получить, или чьи запросы были слишком расплывчаты, и они не могли их сами сформулировать, были далеки от дел, думая обо всем вообще, например, о всем своем голодном семействе, живущем лишь святым духом, о всей своей жизни, отданной борьбе за счастливое будущее человечества, оказавшегося столь неблагодарным... Для них тут размещался "Общий отдел", меж множеством дверей которого посетители бестолково толкались, обмениваясь тычками и словами, из которых ничего не могли понять, словно разговаривали на разных языках еще с времен Столпотворения, и подарившего миру многоэтажные сооружения иерархической системы, сделавшие много выше и сложнее мир проблем, до них, даже на дереве, знавший только одну: как занять место вожака стаи, стада, племени. Те и походили одномерностью проблематики на гаремы, вожаком которых и среди их предшественников, макак становились или любвеобильные искатели блох, или более активные и в сексе драчуны, блюстители «нравов», кстати, и своего Права. Голод, если и был главным лейтмотивом, так только сексуальный, то самое либидо! У кормушек главным было лишь соблюдение очереди. Стать единым целым стая могла лишь в войне с чужаками! В мирные времена процветали непотизм, кумовство, даже самки высокого ранга могли унижать и нижестоящих самцов, пока их, как и вожака, вдруг самих не скинут с трона... По официальной версии с помощью тех сооружений люди собирались возвыситься до бога, но, скорее, то вожак пытался отдалиться от них, залезая повыше, как и на памятное «древо». Видимо, вторым этажом Вавилонской башни после того, как вожак взобрался на третий, и стал этаж «общих проблем", где для конкурентов придумывали - чем бы их занять, отвлечь от главной, общей цели, нагрузив множеством надуманных, общих вопросов. Для этого, кстати, в империях, потом и везде, внизу были организованы подобные иерархические структуры, которые поглощали, как вакуум, отвлекали массы потенциальных вожаков от борьбы за главный "гарем", поскольку им с тем же успехом приходилось сперва штурмовать промежуточные «зияющие высоты». Не зря в Шумере вожаков звали уважительно “Massu” (по-Аккадски), явно подразумевая под этим их массы в нашем, северном понимании, где проблема гарема была, вроде, не актуальна, если не вспомнить князя Владимира с его 800-ми наложницами, не переплюнувшего тут лишь Соломона с его 1000-й, что невольно заставит любого стать весьма изощренным политиком, а, может, и поменять веру хотя бы для всех остальных, конкурентов... Напомним, что в Туманном Альбионе, в условиях постоянно ограниченной видимости, счет этажей потому, видимо, и начинался с этого, нашего второго, то есть, прежде с чердака, который, кстати, в многоквартирных домах – уже общий, откуда, возможно, у нас и повелось, и сохранилось его название, даже когда «чердак» перебрался выше... Однако, как уже упоминалось, на этом этаже сохранились и все признаки исходного Столпотворения, особенно, в нашей многонациональной и многоязыкой стране, какой ныне за весь бывший Союз приходилось отдуваться одной России, самой многоязыкой... Потому и потребовался некий "письмоводитель за нос", располагавшийся выше. На третий этаж "Кан-Целярии" напрямую поднимались пришедшие с конкретным требованием и намерением получить конкретный же ответ. У дверей "канцелярии" всегда была очередь, хотя все приходящие направлялись прямиком к двери, делая вид, что они по другому делу, поэтому, не смотря на очередь, почти все проходили первыми. Очередь, видно, состояла из зевак или завсегдатаев очередей, которые из ностальгии по другим, уже исчезнувшим, предпочли хотя бы эту, которая была стабильна и почти не продвигалась, и те, кто раньше пришел и занял ее первым, вечером уходил ни с чем вместе с последними, сполна поняв суть, возможно, зачатков Информационной Системы, симбиоза ли их “Inter...” и нашего «...Нет», ну, или в полном переводе «Меж Нет», если не вспомнить их книжное, почти поэтическое “Inter” – «хоронить, зарыть»... Да-да! Сей этаж тоже появился в Шумере, для оного, явно, и создавшего письменность, даже особый жреческий язык, когда на нижнем скопились – не в том смысле – претенденты на место вожака, чьи претензии уже нельзя было игнорировать, но как-то и оскопить надо было... Как? Чего проще заменить конкретные вещи, дела и прочее весьма загадочными, замысловатыми, но пустыми знаками, буквально буквами? Для потенциальных претендентов были созданы публичный и даже детский письменные языки, которым обучали всех в публичных школах типа Ликбеза. Гаремные мотивы были просто налицо в некоторых идеограммах, похожих буквально на рисунки озорников на заборах, в пещерах(справа Gi – судья, убить...), порой соответствуя тому и по смыслу, как, например, следующий (слева), весьма знакомый нам, буквально и означающий в переводе Vulva(Mug, Gal) или же, к примеру, глагол «говорить, делать» и все подобное, обозначаемый тоже знакомой с виду идеограммой Dug(справа), составной частью и весьма интимных дел и членов... У этрусков, не имевших гаремов, письменность была проще, хотя некоторые буквы тоже что-то напоминают... Отсюда все уходили довольными собой и положением дел, одаряя очередь улыбками превосходства, поскольку их требования были официально приняты, «скреплены печатью»(Gug – Шумер, слева), и у них было полное право требовать ответа! Теперь они как бы присутствовали в здании власти, и уйдя, и после того, как им дадут ответ, ведь их запрос с фамилией, номером, датой останется почти на века в архиве, то есть, в анналах истории, которая и состояла лишь из тех фактов и дат, что так или иначе были связаны с властью. Кто бы говорил и сейчас о божественной красоте Елены, не стань она дважды женой царя Менелая? Стала бы божественной Жанна, сгори она просто при пожаре? Кто бы знал Роксолану, удостоенную кисти Тициана, не стань та любимой женой в гареме Сулеймана? Страшно представить, что было бы, не назови они распинаемого Христа меж прочим и Царем иудейским... Вполне понятны гордость и оптимизм даже простолюдинов, чьи жалобы на невозможность «так дальше жить» попадали в "канцелярию", в этакий бумажно-пыльный кабинетик, но с названием высших государственных учреждений прошлого. Кто не слышал таких названий, как Тайная Канцелярия, канцлер, канцтовары?.. Четвертый этаж был завершением предыдущих и основанием для вышележащих. В принципе, он делал то, что должна была делать "Канцелярия", ныне как бы почта. И не будь его, пришлось бы обеспечить такой порядок, где слово не расходится с делом, с актом, потому и был особо выделен этаж "Делопроизводства", где на самом деле никаких дел не производилось, но на них тут напрямую намекали чересчур вдохновленным, окрыленным предварительным ответом на вопрос, заданный ниже! Здесь просителям давалось весьма конкретное, четко сформулированное весомыми словами решение их проблемы, или чаще строго официальная, юридически грамотная формулировка оной. На самом деле то и другое было уже другой проблемой, имеющей вид решения или перефразирования предыдущей. Этот этаж реально оформлял всю проблематику нижних этажей, но так, чтобы не пропустить ее выше, для чего ей надо было придать солидный вес, что та и обретала в слове «Папка», хоть женского рода, но с явным намеком на почти родного Отца(Pap - Шумер) семейства, а то и гарема... Тем вожак как бы давал понять конкурентам, что предварительные переговоры закончены, но могут быть продолжены в более деловой обстановке, выше, где акты, вещи называют своими именами или имеют при себе. С этого этажа посетители уходят либо вновь озадаченными полученным решением, либо сразу решительно идут выше с новой задачей, проблемой, с деловым ли, весомым предложением... Но главное иное: за чрезмерной регламентацией процедур "делопроизводства", превращенного чуть ли не в научную дисциплину, вряд кто мог разглядеть то, что само его название отражает чуть ли не коренную суть нашей нации, точнее, многонациональной, но моноязычной государственности, заключающуюся в нашем отношении к существительному и глаголу с корнем "Дел". У альбионцев слово Do чаще используется как глагол с множеством значений, но, главное, как вспомогательный! Как те здороваются? «How do you do», что звучит буквально "как делаешь ты дело" или «как обстряпываешь делишки»? Или спрашивают: What do you want? – «Что делать ты хочешь?», а не просто «Чё хочешь?» Глагол «делать» тут на равных с «быть», «есть» (Am)! Да, Ам, Ем! Как существительное, их Do – тоже не подарок: «обман, сделка, веселье, доля», ну, и, конечно, само «дело», хоть и устаревшее ныне. Но в их бизнесе обман и дело – синонимы, почему наши дельцы учились тому и у Маркса, и у Адама кузнеца, но прежде всего у «Деловых людей» О’Генри – особенно «школяры» Гайдара, т.н. Ти-МУР-овцы... Но, однако, наш глагол «Делать» даже ближе по смыслу к шумерскому Du, особенно к Dug(см. выше), означающему сразу делать и говорить, где слово буквально не расходится с делом, как и на четвертом этаже! Потому оно чаще и используется как существительное "Дело", еще и с большой буквы, фигурируя в таком виде на мириадах Папок, где, видно, является их собственным именем, раз для расшифровки к нему пришлось добавлять синоним "производство". Термин "дело-производство" ведь можно счесть тавтологией, этаким ду-дуканьем из старой песни(колыбельной!): "А, ду-ду, ду-ду, ду-ду, потерял мужик Дугу, шарил, шарил, не нашел, ко сударыне зашел". Смешно? Увы! Шумерский глагол Du означает «делать», «оплодотворять» - «все», изображаясь весьма знакомым треугольником! И вышеупомянутый Dug имеет и смысл «иметь», всесторонне раскрывая суть нашего делопроизводства, и все перипетии делопроизводителя из колыбельной, особенно, если учесть созвучие слов «Дело» - «Тело» (kuš - Шумер)! Обратите внимание и на странную морфологию слова "про-из-ВОД-итель", явный корень которого "вод" прямо указует, что же «изводит» тот при этом! Кажется бредом? Но возьмем их «производство» - "Pro-duct-ion" (словарно якобы Pro-duc-tion, но «продукта» – Pro-duct!). Корень duct - в медицине «канал, проток железы внутренней секреции». Duct-or – и в латыни «вождь», чуть отличный от соблазнителя(Se-ductor). Pro- указует на административное подчинение, подверженность чему-то. Их «производство» буквально проистекает из семенного канала вождя. А «производитель», ну, «Pro-ducer» - про кого? Про Duce, да, Дуче, который и в Римской империи «водил»(Duco, Duxi) за собой, в том числе, и за нос! Не странны ли аналогии, тайная этимология сих слов, имеющих прямое отношение к нашим экономическим базисам, к самому Кап-италу? Италу-италу! В латыни Capital - «уголовное преступление», а Capi – «очаровывать любовью, надувать»! Так что наше "про-изводство" – тоже про «изведение» конкурентов вожака, как тараканов! Чем бы ни тешились, лишь бы не Капали, не Копали под... Ясно, по каким и от каких дел ходят в сей «От-Дел», и в чем суть "Делопроизводства", осуществляемого в подобных учреждениях и судах, почему оно и отделено от невинной как бы Кан-Целярии? Хотя по сути это лишь сбор, хранение папок "Дело" с информацией о потенциальных производителях, Папах, их "делишках"... На иврите, кстати, юридическое «Дело» пишется сразу как «Параша», как и ее «Всадник», хотя, может, читается и как «Пороша» еще на «этапе» (Шалав)... На аккадском, кстати, Parasu – сразу «решить, отрезать»! Странным образом с этим хранилищем «Дел» сочеталась «Бухгалтерия», ну, или “Book-keeping”(Книго-хранение как бы), хотя устаревшее “Keeping” означало опять же «содержание любовниц», положение ли содержанки! Она располагалась на этом же этаже, но занимаясь внутренними делами, хотя, ясно, доходы получая сугубо извне, почему «зарплата» работников больше походила тут на аккадскую “Igru”, хотя и англицкая Pay(Плата) тоже созвучна Play(Игре)! За исключением Бухгалтерии, другие отделы этих этажей, в целом, решали как бы государственные (ко-сударынские, косу-дарствен-ные) проблемы стада.., то есть, населения: чем занять, отвлечь избыточное число самцов от «гарема» вожака - обычное дело самок, женщин ли, и составляющих на сих этажах «гарема» подавляющее большинство, в том числе, и среди руководительниц.., исключая первый(нулевой) этаж охраны, как бы «евнухов» по должности... Глава 13 Если бы вы знали, как бесила его гаремная тематика, но все больше убеждая в правильности выбранного пути, почему он и продолжил его, хотя и мыслить о том было невыносимо, но необходимо именно здесь, в аварийном выходе, с коего он и начал не зря... Пытливый читатель спросит, а когда та проблема возникла: при патриархате или при мифическом, как Амазонки, матриархате? Но и при матриархате избыточного числа производителей(Sire) не было. Ряд генетиков вообще полагают, что мужчина возник при мутации одного гена универсальной Женщины, Герм-Афродита! Когда же гендерные отношения «прогрессировали» до патриархата, став подобными в стаде макак, эта проблема и оформилась вокруг гарема вожака, господина(тоже sire, sir) стада, племени, потом и стран. Это подтверждают и некоторые нынешние, как бы Поп-пятные тенденции мужской половины, теряющей, оставляющей «позади» (Bar! – Шумер) свой производственный потенциал, что бывает присуще и скоту. Хотя почему нынешние, если еще в Шумере «задница» и «передница» тех, даже «рот» звались одним, все «усредняющим» словом Murub той же, кстати, треугольной формы? Сей Спад был присущ и недавно раскопанному – как по заказу – Содому, и гаремам с их многочисленной охраной из Spado (евнух, скопец - Латынь), называемых англичанами среди скота - Geld, что прежде означало и «налог короне», но как бы не «деньгами»(Gelt)! Весьма созвучно с Girl, Gold, Hold(Власть, Охрана, Тюрьма)... На шумерском «кастрат» - Amar-Kud, то есть, «Отрезанный»(Kud; Gul) «Сын, Телок»(Amar) - почти латинские «Amor»: «Любовь», «Амур» - но Аморальные как бы... Простите, если что не так на слух, но эти мысли, слова его как раз слегка вдохновили, даже что-то подсказали ему, падшему духом на предыдущих этажах... Потому продолжим путь... Нынешнему Спаду(Fall) Фаллоса, созвучного с латинскими Fallo (лгать, делать недействительным) и Falx(серп), не зря предшествовала многотысячелетняя власть Ductor, Seductor, Ре-дакторов, Диктаторов, да и Докторов, ограждающих места, где «Леди»(Burd) «рожают» (Bear), разными Bar: «барьерами, тюремными решетками, засовами, адвокатурами, исключениями, отстранениями», «барами» для любителей «браги»(Beer), ну, или «слитков»(Bar), атрибутов Барахолок Барыг.., еще с Шумера «отрезая»(Bar, Bur) им доступ в гарем Баррикадами, Борделями, Бараками, Бортами Барков, Баррелями, созвучными с Barren (Бесплодный) и с нашими Баранами, Барами, Боярами, с шумерским «вождем, королем»(Barag), этрусским Baro, Baronis... А Братства в фартуках(Barvel), латах(Bard), голых(Bare) ли, хоронящих(Bury) себя добровольно для другой половины человечества, еще и во главе, якобы, с Папой, с католической церковью, презревшей Брак земной – чем занимались, что «созидали»(Бара – Иврит) сии «сыны»(Бар – Иврит) «божии»(Эль – Иврит)? Эль? И все? Случайно ли итогом стал нынешний совокупный Бар-Дак, где неуютно и вольным Бардам с латинской «лирой» (Barbitos), шумерским ли Burbalaĝ, Balaĝil с их Вalaĝ, с нашей ли Балалайкой? Всюду Попса правит бал, опустившись ниже и гаремного танца «живота»(haš-bar – Шумер)... Все те слова вихрем проносились в его голове, собираемые в клубы смыслов некими созвучиями... Нет, то была не музыка, которой он и не ждал здесь – разве что какофония случайных сочетаний... Ведь Муза его сейчас спала беспробудным сном, должна ли была спать... Да и все рассуждения, опасения относительно гарема, которые и привели его сюда, были связаны, скорей, с предыдущими хозяевами дома, лучшая половина которых осталась на рассмотренных ниже этажах, где и сохранился некий матриархат... То делалось сознательно, хотя и вынуждено, поскольку от матриархата в наших женщинах, прямых потомках Амазонок, кроме прав, осталось почти все: активность, выносливость, точность, зоркость, работоспособность, преданность, продуктивность, обаяние, деловитость, даже мужественность... Кто еще "коня на скаку остановит"? Да, и работать они могли, как лошади! И, если тех женщин не остановить на подступах к власти, они могут смести ее метлой, тем ли "веником", которым легко справлялись и с Бардаком на верхних этажах Бар и Вожаков, точнее, нынешних Братков, родственных всем Братствам, живущих, как и те, по своим, неписанным законам не общества, но Общака, подмявших ныне под себя громадную державу товарищей, потомков тоже каторжан, и их «бывших» опекунов из охранки.., из-за чего у него, конечно, возникало некое историческое «Дежа вю». Но пока те верхние этажи постоянно пребывали в режиме перестройки, пересадки с мест на места, даже перестрелки: «Кто в тайге хозяин?» - он о них и знал ныне меньше, почти ничего, потому и продолжил сторонние наблюдения с аварийного выхода, прежде чем посетить их... Выше располагался пятый этаж «Управления хозяйством», который решал внутренние проблемы вышележащих, исключительно власти. Он и по номеру был пограничным меж показным матриархатом низа и патриархатом верха, ныне порой тоже показным, почему тут, как и в Бухгалтерии, вполне могли хозяйничать женщины, которые даже в эру Совка юридически признавались «домохозяйками»... Но тут в их роли выступали мужчины, поскольку из вышесказанного вытекали некие нюансы в отношении самого слова "Хозяйство"... Во-первых, "Хозяйство" ныне почти сродни западному «Биз-несу», почему папок с «Делами» тут не было - лишь «коробки» (Bisaĝ – Шумер), что сразу ассоциируется с коробейниками еще тех времен. И у нас ныне делать дело может просто "имеющий хозяйство", "хозяин", созвучный с их “Hus-band”(муж, эконом), а последним - особо сегодня, в Бандитском Капитализме Гайдара-Маркса! Да, есть парадокс в том, что в Шумере «Хозяин», «Лорд», как и «Госпожа», «Хозяйка» назывались одним словом «Nin», не говоря уж о Dam(супруг)! Видно, потому в Совке, где юридически "хозяин" был иллюзорен, типа «личника», личинки «дельца», для придания ему правового смысла, аналогии ли с признанной «домохозяйкой", к нему и добавляли рабочий термин - "веник". Полученный гибрид "Хозяйст-Веник" просуществовал даже дольше, чем "партхозактив», пока его не подменил «менеджер», типа менялы, более созвучный не с «домохозяйством»(menage), а с «бродячим зверинцем» (menagerie) тех же макак... Да, как и их Property – вроде, «Собственность», но и «Бутафория», а в Шумере «приобретать ее, вещи» и звучало - «Bal»!.. Во-вторых, в пику, явно, домохозяйкам наши, извечно «бесхозные» мужчины придумали иное, уже бесспорно собственное «Хоз-яйство», что пошло, может, от старого словца «Хоз»(козья шкура, Козел), но, в любом случае, при упоминании о нем краснели и прежние «красные директора», и голь, и многие нынешние хозяйчики в этих зданиях. Именно о нем, ведь даже заикаться вслух о другом своем «Хозяйстве», быть официально «Биз-нес-менами» они не могли тут, где Бизнес контролировался Ментами, которые тоже хотели бы стать «Бизнес-ментами», но, увы!.. Системный, то есть, лингвистический парадокс, кризис? Наверно, почему тех все же и переименовали в Полицейских, почти в однокашников бессребреника Пушкина!.. Смешно, ясно, но и то было лингвистически важным для его поисков, раз где-то здесь и проходил незримый Барьер, за которым, с коего ли начиналось собственное «Хозяйство» вожака, хозяина здания, где обмен меж верхом и низом шел, в основном, Бартером: Братки его могли только Брать Баррелями, Борзыми, Барынями.., при том Бранясь, Барахтаясь как Барракуды и создавая тот самый Бардак... Все то можно было представить и по картине Брейгеля Старшего «Вавилонская башня», где нижние 5(!) этажей имели вполне достроенный вид, а, вот, верхние 4 либо еще достраивались, либо уже перестраивались, рушились – понять трудно, но смысл ясен: при относительном постоянстве штатов нижних 4-5 этажей, состав верхних 4-х постоянно менялся, должен ли был меняться хотя бы раз в 4 года! Поэтому, естественно, их волновали сугубо внутренние, свои дела... Не случайно 6-й этаж и занимался, точней, назывался «Отделом внутренних дел»! Он ассоциировался с «нулевым» этажом охраны и потому, что его и не должно быть тут, раз он должен был контролировать извне(Опричь – «вне, снаружи», как и Опричный - сторонний) это здание, «Избу» по старому. Но, с другой стороны, он относился к «внутренним органам», функционально выполняя тут роль диафрагмы, крышки над нижними этажами, откуда наверх не должен был проникать даже пар, если низы вдруг закипят, загазуют! Главные его «внутренние дела» находились Опричь здания, внизу, и решал он те проблемы низа, которые могли бы стать проблемами верха, чем занимались и все подконтрольные ему «внутренние органы», которые и в нашем «Теле» обычно располагаются где-то там, в... На этом этаже «Дело» было подобно внешне таковому с этажа «Делопроизводства», но юридически гораздо ближе к его звучанию на Иврите – «Параша», обретя с Опричнины Ивана Грозного и смысл весьма грозный, хотя в Шумере «отсечь» звучало как Dar, а на Аккадском вообще Salātu! Но в историю люди попадали, не пропав прежде в папках сего этажа, и, наоборот, попадали в них чаще, попав прежде в некую историю, почему ни у кого и не было особого желания завести здесь свою папку еще со времен последнего Рюриковича, а, особенно, после Виссарионовича, хотя и сам он, и его предшественник попали в оную уже после того... Увы, опять «Дежа вю!»... Располагающийся выше этаж опричных, ну, «внешних дел», наоборот, обеспечивал решение внутренних проблем верха, но за счет сугубо «внешних» ресурсов, поскольку на самом верху их вообще не было – даже человечьих. Но главная особенность сего «Отдела внешних сношений» заключалась в том, что он явно появился с времен Столпотворения, когда весь мир вдруг заговорил на разных языках, и Шумеру понадобились и некий «дипломатический» язык, и «посыльные, гонцы»(Maškimegi) за «границу»(Maš), но не какие-то «козлы» (Maš), а именно «Машки-Мэгги», которые и прежде за определенную «плату»(Мašdarea), почти даром обеспечивали вавилонян весьма нужными, надежными, как «удавка», «связями»(Dur), сделав и Любовь одним из первых Бизнесов, Делом... Да, якобы, они сами и сделали... Опять шутка, если не вспомнить, что этот человеческий ресурс испокон веков был и вновь стал главным экспортным товаром для бизнеса и для данного отдела с его – вслушайтесь лишь – «Тамо-Женными» службами! Андрею было совсем не до шуток, едва лишь он вспоминал и про Надежду, которая тоже была где-то «Там...» И почему? Зачем нужен и тут «нулевой», опричный этаж стражи? Может, из-за угрозы реставрации – не Капитала – а именно Матриархата в лице хотя бы армии «амазонок», этих ведьм со швабрами, вениками, имеющих доступ ко всем этажам, кабинетам власти гораздо шире и позже, чем и клан «Секретарш», тоже вездесущих? Даже туда, выше седьмого этажа, где якобы мужчины готовы взять на себя роль секретарей, хранителей секретов, но – не Техничек, которых боссы и не замечают, считая такими же атрибутами власти, как пепельницы, мусор в урнах, мало чем отличающихся от избирательных... Может, внутренний этаж, этажи стражи и появились после «удачного» бунта против Рамсеса III одной из его цариц Тейе, поднявшей против него и «гарем», и высших придворных – ради своего сына? И не удивительно, ведь в «гаремах»(Harem), обитали куда более «харизматичные», чем сами фараоны и султаны, личности, пробившиеся наверх не по наследственной, накатанной линии, а в жесточайшей конкурентной борьбе среди отборных и равных, порой с самых низов, как и в первобытной, «кулачной демократии», не контролируемой жрецами, стражами, судьями с придуманными под себя законами – только самой природой! Божественной природой, чей главный Закон – Путь в терниях, но к совершенству, идеалу, с коего человек сошел уже в Раю, где кроме Добра нашел и Зло, сотворив то и на первом шаге по грешной с тех пор Земле, и потом творя почти на каждом шагу, перечисленных и в «Священном писании», и в Истории! Творя осознанно, именно как Зло, даже зная о грозящей каре! Кары, увы, не избежала и Тейе, желавшая, а, может, и достойная большего, но потерявшая все! Но то, однако, вскоре постигло и само Новое царство Египта, после Рамсеса III, при его законных наследниках Рамсесах же вслед за ней покатившееся к закату из-за все более усиливающейся власти жрецов и слабеющей – фараонов... - Так, Зло – это «Что» или «Ради Чего», Средство или Цель, Смысл? – спрашивал Андрей у себя, ища чему-то оправданий. - Ради идеала, Красоты, как те же хищные, несознательные звери, большинство из коих ныне, после ужасных ящуров, драконов, каракатиц – не вмешивайся человек-прагматик – буквально совершенство, особенно их звереныши, как и сам Человек Разумный? Может, как царица Тейе, желавшая возвести на трон, чтобы продлить величие Египта, своего, более сильного сына, от кого палачи не оставили даже имени? Но что бы дало остальному человечеству продление господства строителей пирамид, ваятелей звероподобных богов? Позже или никогда бы не была написана «Илиада», разрушена Троя - к тому же ради, во имя спасения, прославления Красоты земной Женщины, хоть и царицы? Не для того ли примерно в то же время «покончили» и с прагматичным, хотя и невероятно образованным, просвещенным Шумером с его наукой, школами, обучившими массу людей и соседних народов весьма практичному, деловому письму, на коем были, да, описаны и странствия Гильгамеша, предтечи Одиссея, и переживания Вавилонских «проституток», жриц богини Инанны? Но каким языком? Можно ли их по поэтике, высоте слога и мысли сравнить с «Одиссеей» Гомера, как и прекрасные, но крайне символичные статуи древности – с невероятно сверхреалистичными для всех последующих времен изваяниями мифологических героев и богов Древней Эллады, начиная с Афродиты? Да, разве что Роден!.. В первых ведь, включая фрески, больше символизма, даже примитивизма, чем и в пещерной живописи, в статуэтках Мадонн из Костёнок, Чатал-Хуюка, намного более древних! Не знаю, увы, но стоил ли Древний Египет, да и Шумер – вместе взятые в своем финале – одного Искусства Эллады? Да, конечно, любое Искусство - бесценно, и выбрать среди них, оценить что-то я бы не смог никогда, но сегодня я, увы, думаю о Красе земной.., почему, может, и на стороне Тейе, но потому, что она не стала бы царицей в гареме, не будь красивой, просто красивой в жизни. Да, и Египет она бы, может, спасла на время, но ее ли это «Дело» - не весь ли мир, пред которым какая-либо страна, империя, а, тем более, царство, чья-то власть ничего не стоят?.. Так, ради чего еще?.. Взгляните хотя бы на сегодняшний «гарем» Европы, буквально Стерво-Союза?.. - Спасибо, не мазохисты! Ну, если не ради естественной Красоты, оставленной в Раю вместе с одиноким Добром, то, может, ради Истины, неуловимой попутчицы вездесущей Лжи? – ответили бы мы, понимая его терзания. – Но какой? Той, что иного пути на Земле Зверей просто нет и у Небесного Разума, даже мысленно спотыкающегося о ее камни, кочки, и мы все равно вынуждены будем пройти его здесь до конца, идя и к разным, даже противоположным целям, хотя и в одну сторону? Нет, он не так и беден, Земной путь! Его можно пройти, видя, замечая вокруг себя лишь бесконечную Красоту природы, да еще и сквозь очки впечатлений, вООбражения, или, наоборот, нескончаемое Уродство жизни, если снять с себя розовые очки великодушной слепоты, часто слишком слабые для повседневности... Можно идти, слыша лишь трели соловья, голоса Муз, вселенскую ли музыку сфер.., но часто идешь лишь среди стонов беспомощности, криков отчаянья и матовых тонов несогласия, протеста той же безысходности... Не хочется даже сравнивать впечатления других органов чувств, таких уж контрастных, что... Но на то мы – и Разумные Звери, обладающие и чувствительным Разумом, и вполне рассудочными Чувствами, чтобы воспринять, понять, но и принять этот Мир во всем его невероятном многообразии, что Зверь делает машинально... - Но зачем?! – справедливо возразил Андрей, хотя и сам о том думал, даже остановившись на лестничной площадке. – Ведь мы, ну, Человек, и были созданы, чтобы помогать Ему: давать имена его творениям, творить и что-то свое?.. Да, Богам не надо было вкушать плод с того Древа – Они и так знали все: Добро и Зло – все знали, даже бессмертие! Я тоже, кстати, знаю: Жизнь не может быть без Смерти, в том числе, и Жизнь материальной Вселенной... Да, потому что без ее Смерти не будет и ее новой Жизни – и так вечно! Знаю, и что Земная Красота не вечная, как вечна Она вместе с творениями Души и Разума, с Истиной - в Небесах, в том самом Раю! Да, потому лишь для вечности ее и нужно спасти здесь. Ведь и Она спасет Мир не для этих серых, банальных буден – и не их, не их бренный мирок, начинающийся и кончающийся здесь, в сей Избе! Да, Из Бе-е... И это знаю. Знать это не так и трудно – доказать лишь невозможно, потому большинству остается лишь верить. Но я о другом: почему до Идеала, до Красоты тут нет иных путей, почему идти к ним приходится через эту трясину, где невозможно не испачкать подошв, рук, а, может, и?.. - Тогда знаешь, что из Рая можно попасть лишь сюда, на Землю, ну, или в Ад, что, как не-Рай, почти одно и то же логически, - не нашлось и у нас других аргументов, - как, видимо, и в него можно попасть, вернуться лишь отсюда, отвергнув все это, земное... - Ха, в него.., - усмехнулся Андрей, отправляясь далее. – Но из райской же логики, увы, отвергнутая Ложь – это не Истина, как и отвергнутые Зло, Уродство – это еще не Добро, не Красота! Сам видишь, что получилось из отвергнутого прошлого, из опрокинутого Совка? Мусор веков! Потому я знаю, ради чего иду сюда, но лишь не знаю – зачем? Хотя, прости, идти надо - дальше, на следующий круг... В восьмом круге ныне сидели «подельники» Хозяина, и все «Дела» здесь лишь начинались в реальности, разглядеть, понять которую со стороны было трудно, даже перейдя на их жаргон, базар, Феню, напоминающую Фанью(Санскрит) китайцев. Прежде тут сидели его Товар-ищи (COMrade – Англ; Dusa, Guli – Шумер; Ru’u - Аккад), созвучные и у англов с Товаром(COMmodity), который в Шумере звучал вполне по Западному: Bur-gi, - обозначаясь уже знакомой идеограммой, явно свидетельствующей о примате в письменности Гаремных, а не Базарных(Mahīru – Аккад; Ganba - Шумер) мотивов, но изначала тоже криминальных, бандитских, раз Gi и тут означало «убить, судью»... Но что удивляться, если некоторые его Братки из бывшей Комсы, каждый год честно справлявшие свой ВеЛиКоСэМовский праздник с соплями, то есть, со слезами на глазах, были из т.н. «Молодой (BАNDA - Шумер) Гвардии» Товарищей(из каторжан), тоже вряд «в груде дел...» читавших Библию Коммунизма, «Капитал» (UGU - Шумер) далее первого тома? Не зря ж они перед его возрождением, после очередного бостонского «чаепития», под шумок гласности реабилитировали и новых каторжан, любителей и крепко заваренного чифиря, без которых настоящей заварухи бы и не получилось, как и в 50-х? ...И все было б в ажуре и на его последнем этаже, если б не засел в «почках»(Еllaĝ - Шумер) тот «Электорат», где «Elect» - «божьи избранники», но «Elector, Elektorate» - лишь его самого избиратель, перед кем липовыми отписками не отчитаться, а дипломатов – не хватит, да и не принята такая Дипломатия с ним нигде! Он ведь до того думал, в чем его убедили и блядословствующие писаки, Speech-Writer-ы, вруны буквально, еще и картавые, что это всего лишь некий Эректорат, одноразовый голосователь: сунет голос в щель – и до следующего раза! А в итоге он должен и тем, кто сверху, да еще и тем, кто снизу... Точно, гарем какой-то, где порой самому хотелось стать евнухом, раз тебя все со всех сторон хотят почти как первую Леди! Невольно задумаешься и о роли последней, и вообще... Странно, но здесь, на последнем этаже Андрею вдруг стало казаться, что думает сейчас уже не он сам, а словно кто-то другой... ...В целом, ситуация тут для него и для братвы ныне была безысходной, почему они и пытались хоть понять, если не перенять тайный опыт западных коллег, которые давно приучили свой Электорат получать удовлетворение собственными руками, начиная с голо-сования, где каждый считал свой голос, сование ли его в щель - решающими все проблемы, глядя на пример вождя, ну, и, понятно, первой Леди... Ну, ныне просто №1(2) как бы! Но такой,.. что ты бы и голосовал только «За», буквально представляя щель избирательной урны как раз тем самым решением главной проблемы гарема, буквальным приобщаясь к ее решению! Конечно, избирательница все это видела бы чуть иначе, наоборот, себя уже представляя – не урной, конечно, - самим этим решением, почему охотнее и занималась бы всем этим политическим... она... Низ мы же сами стимулируем! Почему, может, его иногда, особенно, перед выборами и тянуло к былому с его настоящим, а не членским Единством, в том числе, и с единственными кандидатами, с Товарищами, не различающимися меж собой хотя бы в устном обращении: «Товарищи Мойша, Маша, вы, что, уху ели?!»,- отчего, видно, тогда и в поли-тике, весьма близкой и по смыслу к поли-мерам, да и к поли-гамии, кстати, на главных этажах вполне обходились одним полом... К тому ныне родители развитого Запада лишь начал стремиться, а мы, передовики хотя бы в том, вдруг пошли на попятную, а особо Попы! Черт, а ведь кто бы знал, сколько мы теряем на одних только «М» и «Ж»? Из-за одного хозяйства Постигайского приходится на четвертом хоз-этаже лишнюю дыру и в бюджете содержать! Да что Попы! Тому, на самом верху, и ближе всех до лампочки... Но возрази я вслух, особо при нашем плюрализме и этой, вот-вот, дерьмократии же?.. Ведь у нас пока еще другой электорат, привыкший испокон веков получать и указания «пальцем»(Dactyl), и даже глубокое удовлетворение именно сверху, прямо с главной трибуны страны, хоть и по телеку, посредством микрофона, конечно, но зато по всем «каналам» (вспомните Duct) одновременно... Но, с другой стороны, предложи я Электорату новый метод, который еще не стал традиционным, официально признанным, особенно, нашей слишком правильной церковью, то он может так увлечься новизной, ну, отвлечься, что вообще сочтет мою власть чем-то лишним, типа местного контрацептива, лишь отвлекающего их с верхами от общего дела, как любая контра! Само же голо-сование, еще и публичное, вообще сочтет – раз тайное, скрываемое - чем-то непотребным, неприличным для новой личности, хотя новая виртуальная реальность и пытается его приобщить к тому новому, что уж было до нас в веках, что прошли, пошли ли без нас опять... Свят-свят! Опасность велика! В Европе-то, хоть полов как бы убавилось, но, зато добавился целый этаж! А тут и без того крышу, чердак С-С-С-снесло, не говоря уж о партийных перекрытиях и подполье, как бы фундаменте... - А если и братки, ну, Братья по ордеру, так сочтут? - сокрушенно вздыхал кто-то вверху. – Да, что-то надо делать с Электоратом, с Братками ли, пока они еще... - Да, надо, - Андрей даже передернулся от тех рассуждений, навеянных верхним этажом, и припустил вниз по лестнице, поскольку ему будто бы стало ясно почти все, даже как попасть туда... Глава 14 - Так, а вы почему спустились вниз, точней, вышли сюда, к входу? - подозрительно разглядывая его, спросил молодой лейтенант, перегораживая выход в холл из лифтовой, куда он хотел войти, а потом резко перегородив второй выход - к черному входу, даже слегка запутавшись от неожиданности. - Сегодня, тут везде только вход... Ну, то есть, сегодня тут и с той стороны только вход, почему вам и отсюда выходить нельзя – не велено... Только входить! Таков приказ! - Жаль, - как бы огорчено вздохнул Андрей, начиная врать, с тоской даже поглядывая за спину лейтенанту, куда тот все показывал указательным пальцем, - я как раз хотел выйти и войти сразу, чтобы надежнее! На Шумерском «входить» - Kur, а там написано «Не Кур-ить!», вот я и усомнился. Теперь, что, мне возвращаться, выходя? - Наш умер с ком.., от курения?.. - с сомнением переспросил лейтенант, размышляя и держа под контролем оба входа и выхода. – Правильно! Однако, если вы не могли оттуда сюда выйти, то вам и возвращаться, то есть, выходить отсюда нельзя и не велено - как-то не логично получилось бы. А что, мы сейчас в полиции строго и логически бесповоротно действуем, потому вам нельзя выйти, чтобы потом, повернувшись, даже войти, и наоборот, хотя... - Отлично, тогда я никуда не пойду, поскольку мне нельзя было приходить, - сокрушенно соглашался Андрей, - но чтобы мне нельзя было бесповоротно и уехать отсюда, я вначале должен буду приехать сюда, чтобы уж все было логически не противочервиво... - Как вы сказали, - оторопел тот, но заинтересовано, - порченоречиво? То есть?.. - Да-да, - охотно соглашался Андрей, маршируя и постоянно поворачиваясь на месте, - порночертиво. Хотя, конечно, это надо уточнить, но для этого, как вы и сказали, я вначале приеду сюда, чтобы уже не уехать, раз это нельзя, а потом уже уточню... - Да, вам лучше приехать поскорее, потому что вам и так следовало бы бесповоротно... оставаться на месте, - осторожно приказывал лейтенант, на всякий случай перебегая от одного входа в лифт к другому и перегораживая их, со злостью бросая взоры на сержанта, который, вытаращив от испуга глаза, тоже метался между входом в холл и лейтенантом, все-таки не смея покинуть до конца главный пост, но и бросить в беде старшего по званию товарища. - Ну, все, я немедленно приезжаю! - решительно согласился Андрей, направляясь в лифт, но вращаясь как бы при этом на месте. – Да, чтобы потом уже никуда не уехать! - Хватит вам поворотничать! - сердился тот все же с облегчением, потому что Андрей не мешал ему бегать между входами и загораживать их от него, сплетая при этом своей одной извилиной весьма сложный рисунок, запутавшийся лишь в нескольких чужих... - Все-все, я приезжаю! Бессребропотно! Оголично!- крикнул ему ободряюще из лифта Андрей, слыша еще его усталый топот, который со временем стихал, по мере удаления от него лифта. Да, он попадал в знакомую знаковую среду абсурда, что его ободряло. – Ты даже не представляешь, мент, как я по этому абсурду соскучился... Этаж "Общего отдела" был, естественно, пуст, но начальница его, работавшая тут, похоже, еще с тех времен, когда выше нее был всего лишь один этаж вожака, наверняка была в своем кабинете, прекрасно зная свойства пустоты и прочих святых мест... Его предположения подтвердились, когда он поймал на себе ее взгляд, в резко снятых очках которого, возможно, выглядел хозяином того единственного над ней этажа, которым она до сих пор видела всю их администрацию. Увы, снимая очки, она одной их дужкой зацепила парик, другой - все пуговицы своей блузки и единственную - юбки, в связи с чем он узнал, как бы выглядела Венера Милосская, останься стоять на ее месте давно состоявшаяся натурщица... - О, Андрей Долгорукий! Ты? Наконец-то! - воскликнула ее почти тезка Венера Минасовна, подслеповато смахнув со стола гору папок и запрыгивая на него вместо них. - Когда же ты заходил ко мне последний раз? Неужели до Исхода!? Ну, из меня... - Да, Венерушка! - ответил Андрей как можно грубее, иначе бы она не поверила, потому что в последнее десятилетие все обращались к ней только предупредительно вежливо. - Только что оттуда! - Один? Даже Авраам на линкольне не приехал с тобой? А Юлий с косарем? Никого? Тогда тебе опять повезло, - промяукала она, изображая из себя кошечку Нефертити на зеркальной глади стола, хотя без очков все равно там ничего не видела. Но ей, видно, нравилась сама гладь или то, как ее коленки скользят по ней, поэтому про него вроде и забыла. – А поллона не хотите хотя бы?.. - Венерушка, а где Брут?! - пришлось ему кричать первое, что пришло на ум, но прямо ей в слуховой аппарат, из которого та себе сделала премилые клипсы, одну, то есть, клипсу... - Где врут, где прут? - недовольно бурчала она, устав от весьма развитого воображения, а, может, вернувшись в более далекое прошлое, оттуда ли. - Я тебе не исповедник, Андрей... первознанный. Да, сегодня перво.., за этот год, век... Одно могу сказать, что врут и прут там, где Крут, а то дно, милый, о, дно, до которого мне еще далеко падать... и не с кем, а это невозможно. Ведь на дно только от одного, только от него... Эх, на то он и первый.., но сегодня не один и без меня! Где-где, не тут он, хам он!.. Она, видишь ли, звалась Татьяной, но слишком много знала... Дура, лучше бы слишком многих, ведь это почти вечность! А я уже так от нее устала, так проголодалась.., - сказав это, она свернулась калачиком, и начала себя аппетитно покусывать за все подряд. - Несъедобно почему-то, - пожаловалась она, вожделенно взглянув на него, - придется тебя, ну, хотя бы его... - Его-его! - Андрей тут же сунул ей в руки конфету Гога, чем лишь на миг ее разочаровал... - Боже, она пахнет Гогом! - радостно воскликнула она, разворачивая пальцами ног фантик, но держа конфету в руках. - Значит, он еще жив, раз пахнет не он, а она – им? Как я его любила! Но в конце вдруг ляпнула: "Вон, Гог!" - а он, идиот, неправильно понял, весь пошел дополнительными цветами, отрезал ухо и ушел, ну, сошел сменя... жанр! Где ты ее взял, из какого кармана? Из этого?.. Ой, это ж не рука! Не рот, то есть! Да, всю жизнь взлетая падением, легко спутать верх и низ! Ты бы меня хоть поцеловал для подсказки? Рукам не верю! Ну, как хочешь, то есть, куда хочешь. Я все равно Гога больше всех люблю. И конфету свою забери, а мне только фантик его оставь... - Он тебя до сих пор ждет, кстати, - заметил Андрей, поцеловав ее все же в какой-то лобик и спрятав конфету в карман. - Опять ты все перепутал, Андрей первосданный! Потому тебя и сдали первым, кстати, но хоть тут первым, - разочарованно вздохнула она, потому что – не в тот, отчего ей даже пришлось мгновенно поменять дислокацию, - но не тут только... И где ждет? - Вот, позвони и выпиши ему пропуск. Пусть придет с друзьями, - сказал Андрей, протягивая ей визитку Иоанна. - Только пусть Иоанна Красителя с собой не берет, хотя... Сама реши! - Почему? - игриво спросила Венера. - Его друг - мой вдруг? Думаешь, я Иоанна не знала? Смешной! До тебя тут, в моем Гроте был потоп-топ-топ!.. А вы все кончили... Не как, а весь мой гарем! Чрез меня ж все проходили снизу, начиная.., и... кончая... верхом! - После него все грехом станет, ведь только он и знает правду, - пояснил Андрей, - видит все насквозь, до холстины... - И что, холостит всех?.. - усомнилась как бы та, добавив интригующе к тому, что уже было в ней. – Но пока он еще не пришел? Я же потому должна тебя и отблагодарить за это, ну, подсказкой?.. - За что? - как можно равнодушнее спросил Андрей. - Ну, за то, что ты будешь моим последним перед моим первым, - заговорщицки ответила Венера, состроив глазки его отражению в стекле шкафа и раздвоившись навстречу глубокой улыбкой... - Выходит, предпоследним, - уточнил он. - Не стоит благодарностей, Венерушка. Подскажи лучше, как найти первого... - Ты прав, уже выходит.., и я буду последней тебя благодарить, а мне быть последней не хочется и тут, где всегда была первой, - размышляла она, сев в позу лотоса, но вокруг телефона, снимая трубку, набирая номер и одновременно выписывая ему пропуск. - Ему, конечно, не поп, а исповедник нужней сейчас, но ты и на него смахиваешь, кстати - так и не отблагодарил меня... до конца, жадина! - За что еще, Веневрушка? - удивился он, целуя ей и руку. - За то хотя бы, что не я тебя последней отблагодарила, хотя не уверена, - хитро усмехнувшись, ответила та и сосредоточилась на трубке. - Гога, милый, это я... твоя первая и... Ну, ну! И последняя, Гогушка, самая опять последняя, если ты с друзьями через десять минут будешь тут, у моих ног, ну, и не только у,.. конечно, это уж как получится у тебя после Анд... Какая разница, каких Анд, Кордильер? Только без Ивашки Краснителя... Тут и так все, как макаки, сегодня... Далее Андрей не слышал, торопясь на лифте в "Канцелярию". Венера была настолько стара, что за эти несколько лет разлуки абсолютно не изменилась, а в сравнении с ним, может, даже помолодела на столько же, почему он и не заметил разницы... Глава 15 Там, среди письмоносиц, он так легко вряд отделается... Его тут сразу сразил аромат маринованной, жареной, копченой и прочей снеди, висевший в непроветриваемом воздухе, отчего у него сразу засосало под ложечкой, а рот наполнился уже забытой слюной. Муза, увы... Однако аппетит быстро улетучился, едва он заметил около двери канцелярии горку костей на газетке и хрустящего ими черного французского бульдога, аппетит которого, похоже, лишь приходил к нему во время... этого. Из-за этого, видимо, тот лишь рыкнул на Андрея для приличия и принялся за следующую кость... Вспоминая, что собаки порой похожи на хозяев, Андрей тяжко вздохнул, прежде чем постучать в дверь, откуда на него хлынула волна тех же ароматов, но уже физически ощутимых, словно до этого то был лишь жиденький бульон, которым ему плеснули в лицо из соответствующего ведра... На огромном столе начальницы канцелярии лежала лишь маленькая коробочка с печатью и штемпельной подушечкой.., а все остальное пространство было заставлено судками, тарелочками, блюдечками, кастрюльками и модными ныне пластиковыми контейнерами, лишь половина которых была относительно пуста... - Чакко негодник, это ты, уже? - раздался писклявый, сопровождаемый другими звуками, голосок, и Андрей разглядел за горкой фруктов его обладательницу, кое-что в движениях, остроугольности и толщине, точнее, в худобе верхней части тела и его конечностей вначале напомнило ему о повышенной церебральности экологических последствий работы этого здания и лишь потом поразило несоразмерностью с масштабами уничтожения других жертв этих последствий, выглядевших куда более импозантно даже мертвыми на столе... Вынув из несоразмерно большого рта с ярко накрашенными губами почти голый окорочок и заменив его чем-то иным.., начальница невольно пискнула и на него, угрожающе замахав над собой тонкой, искривленной рукой с ножкой курочки, на которой болтался слишком великий для нее - не для ножки - золотой браслетик с маленькими часиками. – Вы.., что.., не видите..., сколько вре-ме-ни? - Не вижу, - признался Андрей, вспомнив, наконец, бывшую секретаршу канцелярии Адреналину Антиповну, которую раньше никто не замечал из-за пишущей машинки, за которой она себя явно представляла Анкой пулеметчицей, из-за чего машинки ее быстро начинали так же резко дергаться, как и она, криво строчить, отчего ее, наверно, и пришлось перевести в специалисты, а теперь, вот, и в начальницы, которой надо было только ставить подпись и печать на бумагах - потом с ними пусть другие уже дергаются... - Так, посмотри, - уже более ласково и даже с неподдельным интересом сказала та, отодвигая от него руку с часиками в противоположную сторону, отчего Андрею пришлось сильнее наклониться над ней, чтобы что-то разглядеть на крохотном циферблате, потому что она властно потребовала при этом, - только точнее.., ну, как мои часики ходят и в аптеке! Ой, да-да, там тоже ходят... Слышишь?.. - Без пятнадцати, - сказал он, но вернуться в прежнее положение уже не мог, потому что за что-то зацепился рубашкой или еще чем-то, пониже, хотя вроде и не за что было... - Вот видишь, еще целых пятнадцать минут очередного ланча, а ты ко мне пристаешь со всякими нескромными предложениями, на которые мое доброе сердце не может не ответить, хотя у тебя всего лишь пятнадцать минут, - попискивала она из-под него, упавшего на нее вместе с часиками, совсем не торопясь на свободу, потому что легко могла просунуть худую ручку между ним и столом и достать еще что-нибудь съедобное. К ужасу Андрей понял, что одна ее рука при этом остается не занятой, точнее, не понял это, а почувствовал, что та будто пытается отцепить его от себя, по ошибке расстегивая совсем не те пуговицы и не там. Видимо, Адреналина решила провести основательную рекогносцировку в стане противника, прежде чем приступить к решительному наступлению. К счастью, его страхи были преждевременными, вроде. - Какой же ты худенький, однако. Интересно, из какого ребра он сотворил нас? Извини, это первая у меня возможность проверить то... Так, тут у тебя их поровну... Нет, дай пересчитаю... Странно, нет ни лишнего, ни недостающего... Вот, нашла! Вот оно, лишнее!.. И что, из такого... он нас и сделал? Ев, Ев! Не верю! Что тут есть? Хотя... Ты же меня им... Нет, в него верю, теперь все верят в то, что не проверишь, пока не увижу, не попробую... Что ж... Вкусно, конечно, похоже на... Ну, да из глины же... Нет, ребрышки вкуснее... Хочешь попробовать? Я сама делала, не то что там вы!.. Выпалив это самодовольно, она мигом прекратила свои исследования, отцепила его от своей брошки на плечике и цепким рывком усадила рядом с собой на стул, где места было достаточно много, хотя ее чрево, точнее, стол требовал гораздо больше... - Нет, не... сам! Это моя первая возможность познать мужчину через путь, который ведет к желудочку его сердца. У меня и отца не было, и отчество взяла от матери, Антиопы... Не знал? Еще б, она ж вас ненавидела, дура! А я знаю, я - опытная сердцеедка! - ворковала она, принявшись угощать его своими блюдами, против чего Андрей не возражал, боясь и спугнуть ее с избранного пути. - Я столько в жиз-ни съела сердец, почек, печенок - ты бы знал! Но, странно, сердца различаются лишь вкусом, и то приправы, соуса, а по виду - мясо и мясо, как Горький про нас писал. Наверно, вкус - это и есть душа, которая в них прячется? А я их больше всего съела, потому что сердца были более дешевы, чем окорока, грудинка, особенно шейка, вырезка. Я ведь не сразу стала начальницей, когда больше внимания можно уделять окорокам. До того предпочитала сердца, но то ж естественно! Все женщины проходят этот путь... Ой, я, кажется, впервые кончила, не могу больше... И ты? Ты тоже... сыт? И я теперь знаю, о чем эти бесстыдницы постоянно шепчутся, хихикая над моей бесконечностью. И все благодаря тебе! Что хочешь взамен моей первой крови? Ну, вот, этой!.. Ты что, даже не заметил?.. Проси добавки и обрящешь... Огромные ее глазищи на худом лице, залитом истомой, утомленно поблескивали, источая щедрость и великодушие... - Всего лишь это?! - удивленно спросила она, ставя подпись и печать на бумагу. - Это от меня все получали. Что ты хочешь еще? Можешь съесть всю меня - мне теперь не жалко, я теперь могу и умереть, я наелась досыта и жизнью, и любовью. Даже объелась! Ты ведь почувствовал сердцем, как полон чувств твой желудок, как сильно я отлюбила тебя? Тебя так никогда не любили? Вот видишь! Я единственная тут настоящая женщина, хоть и дочь амазонки! Та пусть нос не задирает! Ишь, в первые леди намылилась – даже не подмылась! - Да, там твое место, - польстил ей Андрей. - Но как ты его займешь, если она там? Я бы помог тебе, это ведь я тебе благодарен... - Да? - радостно воскликнула она. - Ты мне благодарен? Представь, они ведь еще и платят за то! Заказывают на ужин одного, сырого, с перчиком, с шашлыком, на троих, и каждая лишь за какую-то часть тела платит - не расслышала, за какую... Бесплатно с ними мужчины ныне не соглашаются и отобедать... Правда, поможешь? - Конечно, - таинственно прошептал он и поделился своим планом ей на ушко, чтобы и перед стенами не краснеть... - Заметано! - горделиво воскликнула Адреналина Антиоповна, вдруг решительно расстегнув блузку, отчего Андрей чуть не упал от неожиданности увиденного, но та его успокоила. - Не бойся, я не буду тебя сырой грудкой кормить, ты ж не сосунок какой! Ты - мужчина! Вон, всю меня окровавил там, хотя и сам не заметил, ну, и я тоже не сразу... Смотрю – кровь! Даже не поняла сперва – откуда! Но я этим поражаюсь, каких сосунков они покупают. Ой, он мне чуть не откусил левую грудку! Ой, он так в конце брызнул сперва!.. Дуры! Как дети! Ты мне эту сломал, и ничего, будто целая! Можно сказать, всей канцелярии сломал... Нет, возьми мой крест, он тебе будет нужен... С этими словами она сняла с грудки огромный не только для нее серебряный крест и надела ему на шею. Без креста грудь ее стало видно всю, но она, вдохновленная их замыслами, не замечала этого, как, в принципе, и он, поскольку там мало что изменилось... - Я специально такой носила, потому что мне нужны физические упражнения, - поясняла она. - Попы, видел, какие здоровые из-за этого, как у них накачана эта мышца!? Но я слишком много ем, трачу почти всю энергию на еду, на калории. Стану первой леди, тогда буду сама съедать одну горошинку, сам знаешь, для чего, а все остальное отправлять в адрес его сердца. Он ведь тоже такой худенький! Какое у него, интересно, то ребрышко? Может, как у тебя? Ну, не первое, понятно, но ничего, зато есть с чем сравнить... Нет, раньше я пыталась тоже сравнивать, ну, когда ты мне мою машинку переносил на другой стол, а я как бы случайно и сравнила впервые... Но я же тогда даже не поняла, как это вкусно может быть... М-да, попробуем. А что, если... Нет, это мой секретный рецепт! Ну, в бой, амазонки! Обеды все будут за нами! Ты лишь не проговорись о нашем с тобой аперитиве? Я ведь должна достаться ему, сам понимаешь, действенной, никем не попробованной... Но скажи, вкусно было? Нет, и целовать я тебя не буду, не сердись – утрись салфеткой, я ведь должна достаться ему, сам понимаешь, нецело,.. ну, то есть, наоборот... Глава 16 На этаж "делопроизводства" он буквально взлетел, благодаря, видно, приливу энергии сквозь каналы, желудочки сердца... - Ну, что, Плут, прорвемся!? - подмигнул он золотому волку, оскалившемуся на него с герба края, вывешенного над приемной бессменной начальницы этой службы Торфуновой, Фортунатовой ли, что он точно не помнил. Но для всех посетителей она была тут почти царицей, держа буквально в своих крашеных коготках счастье всей их жизни, когда сама лично выдавала им вердикты власти, конечно, чаще всего без запятой в ключевой фразе, так как в главной машинке этого здания данная клавиша постоянно западала, что, естественно, сразу же порождало внизу новую, более глобальную проблему, неуклонно повышая проблемную урожайность всей властной страды. И если запятая вдруг пробивалась случайно, Фортунова - в этом случае, скорее, именно так - самолично замазывала ее, а раньше аккуратно стирала ластиком... В принципе, Адреналину Антиоповну именно из-за этого и повысили с машинисток, так как она буквально простреливала бумагу запятыми, а дырку стереть ластиком было и теоретически невозможно, хотя Торфунова, нет, все же Фортунатова была опытным практиком. Андрей, кстати, помнил и последний приказ по его поводу, полученный из ее рук, с крохотным беленьким пятнышком в последней фразе: "...оставить нельзя оставить"... Однако, попасть к ней было не так и просто, поскольку у нее уже была маленькая, тесная, но все же приемная, где к двери начальницы можно было протиснуться между двух почти соприкасающихся столов, за которыми лицом к лицу и сегодня сидели ее секретарши Ссылкова и Харбидова - две настолько диаметрально противоположные, даже антагонистические личности, что это их почти роднило, толкало друг к другу, почему их столы как-то незаметно и для них, видимо, от какой-то вибрации, постоянно придвигались, то есть, сдвигались, особенно, если между ними кто-то пытался напрямую прошмыгнуть к начальнице... Когда он вошел, их столы, наверно, только что были вновь раздвинуты, и так далеко, что буквально приперли подруг-антаго-нисток к стенкам, отчего в их глазах сквозила такая тоска и ненависть, что столешницы почти било крупной дрожью, и они уже пустились в обратный путь. При этом они яростно между собой переругивались взглядами, но он так и не понял из-за чего, но прислушался... - А чего скопить-то? - сердито спрашивала соседку Ссылкина, которая считала себя не без некоторых оснований потомком или самих декабристов, или их сопровождающих по этапу, чем очень гордилась и изредка приходила к ним на митинги, многозначительно улыбаясь выступавшим, хотя не понимала тех, кто опять ссылался на них, как на сторонников, но всего уже этого, наоборот, что и ему подсказывало: главное - быть против, тогда никогда не ошибешься! - А чего спускать-то?! - возражала ей Харбидова, которой Фортунатова не доверяла даже передавать бумаги посетителям, потому что они тут же пропадали куда-то. Это она доверяла только Ссылкиной, но контролируя, поскольку та от широты натуры могла с бумагой отдать посетителю не только что-нибудь свое, не только себя, но и что-нибудь из приемной, даже Харбидову... Поэтому Харбидова за эти годы еще больше располнела, то есть, стала более пышной, отчего, естественно, простенькие платьица ей бы вряд пошли, и ее новое одеяние представляло собой буквально водоворот жабо, оборок, рюшек, тройных отворотов и всего прочего, под чем сама она могла показаться вполне даже худенькой, если бы не откровенное декольте, куда поместились бы три Памелы, и еще осталось место для пары Арнольдовых жменей. Пышная прическа ее тоже на-поминала собой вихрь прядей, выкрашенных в разные оттенки морской волны, поскольку мода на "пожар на складе химической продукции", видимо, у нее уже прошла... В общем, лишь на минуту задержав взгляд на ней, пока она улыбалась ему притягательной улыбкой, Андрей уже почувствовал, что голова у него пошла кругом куда-то, и он чуть не навалился на ее стол всем телом, чему та, конечно, посодействовала, по привычке все чужое прибирать к рукам... - Что спускать? Скопленное! - спасла его, конечно же, Ссылкина, хотя в этот раз почти не дрогнула при его появлении и сидела, как скала, а, точнее, как стела, Александрийский ли столп, шпиль той самой крепости, Останкинская ли башня и все подобное, отчего непосвященные могли бы подумать, что она просто стояла за своим столом, ничуть не выпятив вперед и свои остроклювые грудки, которые готовы были исклевать и его ладони, раз других не было! Если бы они знали, что она специально из-за этого выбирала себе стул пониже, почти без ножек, но из-за чего платье, юбка ли ее постоянно соскальзывали с высоко поднятых коленок, то сразу бы поняли, чем та спасла Андрея от неизбежного падения в пучину Харбидовского водоворота, откуда еще никто, кроме Одиссея, живым не возвращался, если опять же не благодаря декабристке Ссылкиной... - Скопленное? Спускать? – с усмешкой потянулась Харбидова вслед его убегающим от сомнений ладоням, даже стол свой машинально подвинув почти на половину прохода, почему он, думая как бы о чистоте рук и помыслов, машинально ткнулся лицом, ну, и губами, понятно, почти в самое ее сердце, хотя это столкновение было, пожалуй, одной из самых приятных катастроф, почти столкновением с облаками, ну, только чуть-чуть более земными, заземленными ли... - Что ты, милая! Собирать! Консервировать! Коллекционировать! – поддержала ее в этом порыве подруга, тоже где-то на полпрохода двинув стол, почему он, отпрянув от Харбидовой, неизбежно... Нет, просто почувствовал мягкость и приветливость ее, даже таких категоричных с виду... грудок! Ну, да, хотя и почувствовал затылком как бы, почему и удивился, и... даже обернулся прямо в них... - Но зачем? Чтобы и это все спустить? – почти сдалась соперница декабристке, спрашивая или ее, или его, кому ответ на подобные вопросы был давно известен, даже по-библейски... Несчастные подруги постоянно шли на мировую, строили грандиозные замыслы, сплетая в четыре руки самые коварные сети интриг, но потом как всегда, совершенно случайно мешали друг другу их осуществить, как то случилось и сегодня... Увлекаемый водоворотом обворожительной улыбки, он машинально ухватился за столешницу и ее стола, отчего тот, поехав вслед за ним в бездну, оголил те самые коленки и венчаемые ими ноги, которых бы хватило с лихвой на трех средних манекенщиц, из-за чего Сссылкина, кокетливо вскрикнув, так резко встала и одернула свое струящееся, черное платье солнцем, что оно соскользнуло не просто вниз, а сразу на пол, почти убедив Андрея в точности его метафорических сравнений, хотя сегодня она, зайдя по пути на работу в бутик французского белья, без платья походила, скорее, на Эйфелеву башню с двумя поперечными полосками ярко красной, но тоже полупрозрачной материи, словно кто вывесил на той башне два плаката революционного содержания очередной, уже шестой республики... - Ой, извините! У них просто не было или не бывает большего размера! - окрасив и щечки в цвет Марсельезы, стыдливо воскликнула она, одну руку устремив вслед за нижним плакатиком к полу, а вторую резко подняв вверх, чтобы удержать лямочку второго на плечах, но тот, уже соскользнув до прежнего уровня первого, не дал ей возможности пробить рукой потолок, задержав ее там, на уровне плеча Андрея, в которое она машинально вцепилась, в очередной раз помешав подруге испробовать рекламируемое стопроцентное качество абсолютно несмываемой, не оставляющей следов и последствий, помады, которой та мысленно уже окрасила водоворот непредумышленных поцелуев под цвет крови весьма кстати подвернувшейся жертвы. Но Андрей рано радовался спасению, потому что другое рекламируемое качество абсолютной безразмерности революционного гарнитура на сей раз подвело, лямочка его с предательским треском лопнула, и рука ее, продолжив свое движение ввысь, увлекла за собой и его самого, угрожая размозжить его шпангоуты о скалы спасительной неизбежности. Да, сейчас он предпочел бы столкнуться с Останкинской, чем с Эйфелевой башней, чисто – не патриотически - эгоистически не поняв вначале естественного стремления дщери Евы скрыть от мужчины свою девственную наготу хотя бы его фиговым листком, чем и стало сейчас его длинное, крылатое пальто, полами которого она и воспользовалась в этом качестве, даже застегнув за своей спиной его пуговицы, после чего каким-то невероятным образом и сама соскользнула внутрь, где слишком спешно принялась... одеваться как бы. Поскольку там ей, видимо, пришлось сложиться в несколько раз, то она неизбежно путала, что, куда, и в какой последовательности надо надевать, потому начала это вновь снимать, попутно снимая кое-что и с него, потом вновь на него, на себя ли это что-то надевая, вновь ли снимая в полной тесноте, темноте, естественно, где он тем более был абсолютно беспомощен, как и его естество... Когда она, наконец, устав или решив, что с нее достаточно, вновь распахнула пальто, то предстала пред сиамскими близнецами их взоров в довольно длинных шортах, бриджах ли из его брюк и в коротенькой распашонке его рубахи, из разреза которой выглядывал только его галстук, которым она повязала спелые вишенки своих грудок, поскольку раковинка ее пупка была где-то на полпути от рубашки до бриджей, прихваченных на ее так сказать талии его ремнем, завязанным тройным узлом вместе с его же, увы, плавками... Ясно, что описывать, даже рассматривать свое одеяние на ней Андрей просто постеснялся, тем более, что именно в этот миг распахнулась дверь, и у них появился еще один зритель в изумленном лице самой Фортунатовой... - Боже, как прелестно! - искренне восхитилась та, окинув взором сотрудницу, но разглядывая и трогая на нем, естественно, то, что на той было надето ранее, до переодевания. - Как это в духе времени! Голуб... чик, у вас ко мне вопросик, нет, даже вопрос и срочный, как я чувствую, ощущаю обеими руками под покровом?.. Пройдем, пока тут девочки... столы сдвинут, накроют, переоденут... - Но как переодеть непередаваемое? – заметила было Ссылкина, но та ее уже не слышала, к его сожалению тоже... - Я даже не подозревала, что вы.., ты настолько был продвинут в вашей либерастии, толерантности, что ты не просто отстаивал права меньшинств, каждой отдельной личности и, надеюсь, пары личностей, ведь их каждой по паре, как и тех тварей там!.. - ворковала Фортунатова, кивнут на дверь и закрывая ее, снимая с него пальто и слишком тщательно, скрупулезно и дотошно изучая все детали и нюансы его внешнего вида, особенно, всю подоплеку этого, скрытую и без того очевидной явностью, правда, чрезмерно длинного для него платья... - Но я.., - хотел было он оправдаться, но сам понимал, насколько все это было бы неочевидно... - Ноя, Ноя... Я и про него... Молчи, сама все знаю... Если бы ты тогда сказал всю правду, до самого конца бы сказал, не только общими словами, а со всей обнаженностью, рукотворной очевидностью, срывающей завесы и оголяющей прямую сущность, разве я там бы поставила запятую! - вдохновенно продолжала она, срывая с него завесу и розовея от лицезрения плакатов революционного содержания, но уже времен контрреволюции на его уже прямолинейной рукотворности. - Интересно, а они и впрямь абсолютно безразмерные? А если я еще оттяну? А еще? Ой, врут! Лопнули? Боже, какая же в этом двойственность - в этой неприкрытости и прямоте!.. Но, увы, Андрюша, твоя прямолинейность ничего, кроме подлой зависти, во мне теперь не вызывает! Ведь даже во времена разгула демократии и торжества меньшинств я все еще остаюсь запланировано ущербной, двойственной, даже... раздвоенной, но в материальном плане раздвоенной совсем иначе, по старинке! Вот, взгляни, даже потрогай ее... Чувствуешь, никакой определенности, конкретности? А сейчас это вызывает у нас всякие подозрения, хотя в душе у меня звенит вот так же... Боже, какой ты счастливый, имея такую твердую одномерность! Дай, хотя бы примерить? Ведь мы можем сейчас с тобой нашу пару представить наоборот: ты - это я, а я - это ты?.. Подожди только, я надену бороду и усы... Видела в телевизоре... Ну, как? Я похожа?.. Вот и говорю! Ничего не получается, не могу никак представить, что она - моя, нет, что он – мой, хотя и в ней, в моей пока!.. Хотя вот так я давно, тогда еще, глядя на тебя с микрофоном, хотела представить с тобой, но теперь все так изменилось, не перестроилось, но так перевернулось... - Там тоже? – с какой-то надеждой кивнул он на потолок. - Там? Тут тоже! Теперь, чтоб удержаться на месте, надо иметь, за что держаться, - огорчено вздыхая, она вновь надела на него плавки, платье Сссылкиной, пальто и с интересом осмотрела его... - Что-то не так? – спросил Андрей озадачено... - Наоборот! В ее платье ты очень похож на попа, которого сейчас там ждут, именно такого, застегивающегося наоборот, как у этих, у католиков, налево! Хотя Ссылкина шила его с Демиса Русоса, кого считает почти собратом, хотя петь вообще не умеет, ей ведь пока нечего... того, ну, сам знаешь, Кончита ля... И если мы тебе еще бороду нацепим? - весело похихикивая, она обрядила его в бороду, усы, надела на голову свою шапочку, но вновь засомневалась. - Нет, но если ты - поп, то есть, не попадья, то у тебя же должен быть.., а я, может, что-то забыла в себе, еще чувствую там... Это был твой или мой уже? Осторожно, порвешь рясу, то есть, Ссылкиной платье, хотя ей оно не нужно, естественно, она ведь тоже.., даже в очереди стоит после меня. Как куда? К доктору Корнилову, где нас распланируют наоборот, то есть, трансплантируют нам... Кстати, а ты не мог бы мне это уступить, и тогда бы у тебя тоже появилась какая-то определенность, то есть, промежуточность? Ты даже не представляешь, что это такое... - Фортуночка, но мне надо вначале довести дело до конца, - кивал довольно головой Андрей, проверив ее сомнения и готовый на все согласиться в данном случае, опять же странно счастливом. - Да все я знаю, все понимаю, батюшка, и готова дожидаться этого твоего конца хоть сколько, потому что очередь все равно подходит только... в следующем году, - сосредоточенно говорила она, уже заботливо оглядывая, ощупывая обещанное ей после того, как он поведал кое-что о цели своего визита. - Ты, кстати, не сними бороду случайно, иди прямо так, они все равно не знают, чем католические от наших отличаются... Ответ я тебе на эту бумажку давать не буду, это все скоро потеряет силу. Ты даже не представляешь, какие грядут реформы! Именно ре-формы! Везде уже грянули – только не у нас! Пойми, они ж все равно матриархат, амазонок не допустят напрямую, потому нам, вот, и приходится обходным путем, наоборот, хотя я и сама не против! Если бы у амазонок было это – мир бы сегодня был другим! Ведь только Красота и спасет его, но как? Да, вот так, став им!.. Но я буду ждать тебя уже окончательно, милый!.. Буду на чеку! Если что, в конце концов, зови меня, мы с моей сладкой парочкой конца комедии ждать не будем! Хотя мне, конечно, все равно, кого он там выбрал, но, если честно, я бы и сама не прочь ее.., когда самим стану, смогу ей подарить... вот это, пока еще твое, твой. А что, я даже верю, что это достанется ей, а не что-то там, фи, сомнительное, я бы сказала... Слезы толерантности! Разве сравнишь с комиссарами этих... коммерсантов? Не веришь? И проверять не советую! Зачем ему эта власть, гарем - понять не могу. Думаешь, почему я во всем разочаровалась и решила перекроиться? Да-да, огурчик мой, власть потеряла у нас свою главную пункцию, ну, функцию, потенцию, и теперь только видимость дела делает с помощью моего этажа, почему я и... Видишь же, чем и тебя они заразили? Но мы все вернем на место, на мое, которое я могу тебе отдать взамен, конечно! Ты даже не представляешь, что я тебе предлагаю!.. Ну, если надо, хотя... Ну, беги!.. Андрей, довольный очередной счастливой случайностью, благодаря которой до дела и тут не дошло особо, выскочил в приемную, где на сдвинутых столах его бывшие брюки пытались утонуть в водовороте рюшек, что без него у них не получалось до конца, как Ссылкина ни делала вид, хотя вполне производила впечатление... - Ой, а это, разве, не ты в твоих брюках?.. – как бы даже удивилась Харбидова его явлению из дверей, раззадорив Ссылкину... Но он не стал дожидаться, пока все вернется на свои места, перепрыгнул через широко улыбнувшуюся ему бездну кружавчиков, похожих на пенистые барашки... и выскочил в коридор в ином качестве, в котором, конечно, не пристало скакать и по храму власти... Глава 17 На хозяйственный этаж он вышел из лифта уже совсем степенно, благо, после Адреналины Антиоповны у него еще осталось подобие некоторого животика, хотя и весьма неправдоподобное. Этаж, занимавшийся и порядком в здании, был весь затоптан, ковры покрылись мокрыми пятнами от растаявшего вроде бы снега, но почему-то оставившего после себя комки кумачовой грязи. Повсюду стояли коробки, ящики, принесенные сюда посетителями, между которыми носился, разгневанно выказывая свои чувства и мысли, завхоз Постигайский, пока вдруг не налетел на Андрея, даже обрадовавшись такой встрече и почему-то не торопясь отстраняться от него, а как бы даже продолжая свое движение дальше и дальше... - Батюшки! Это вы, батюшка? Простите, не признал! - вдруг заверещал он, не получив от Андрея, возможно, ожидаемого ответа. - Я ведь не вижу, батюшка это или матушка! Как с непривычки в этом божественном обличье различить, к тому же, я, конечно, слышал, в последнее время много раз слышал даже по телику, даже видел, что этих различий может совсем не быть даже при их наличии... Ба.., это не ты ли, Андрей? Попом демократической веры, никак, стал?.. Сказав это, он вмиг приосанился, напыжился, хотя для его комплекции это было очень трудно сделать, но выучка сказывалась. Андрей потому обратил на это внимание, что самому это могло бы вскоре пригодиться... - Так-так, ты теперь и хээсдэсовцем стал? Но, главное, не хасидом, - оглядывал Постигайский его, ходя кругами, попутно переставляя коробки с места на место, отчего беспорядка только прибавлялось, что тот понял по его взгляду. - Согласен, беспорядок улучшить нельзя, его можно только признать и назвать новым порядком, тогда все станет на место. Так ты по вызову или?.. Понимаю, но мне все равно, мне им, главное, попа подать, а с какого прихода - не важно! Хотя, очередь там, скажу, выстроилась, как на крестный ход. Кого только нет: и клирики, и падре, и откровенные... - этакий черный километр! Поэтому, Андрюша, обсудить это надо бы подробнее... Говорил он это, уже хитровато усмехаясь и приглашая его в свой кабинет, огромную ли кладовую, почти до отказа забитую коробками, ящиками, связками, стопками, пачками, почему они едва вклинились между ними и его крохотным столиком размером со стул. Там стоял лишь калькулятор, и лежала толстенная канцелярская книга... Разговаривать поэтому пришлось, отклоняя головы назад, чтобы видеть друг друга, потому что нижние части их тел сделать это уже не могли, что, похоже, не очень стесняло Постигайлова, который все как бы недоверчиво проверял, где чье тело и чье оно... - Только я, вот, батюшка, подозреваю, что на тебе совсем и не ряса, а ссылкинское платье, которой я сам матерьяльчик выписывал. И борода твоя не Фортунатовой ли, для кого я ее сам выменял у Леона на килограмм грима, который, сам понимаешь, очень необходим власти в разгар политической борьбы, во время отчетов? - занудно выспрашивал он Андрея, замершего в ожидании хоть какого-то просвета меж ними. - Да и вряд бы ты, Андрюша, променял свои взгляды на эти, потому что у тебя их и не было, до того даже в нашу партию не веря. Может, ты все же не попом нарядился, а, как бы это к взаимному удовлетворению выразиться, в нечто попутное поповству? А ряса, то есть, платье, это как бы обратный намек? Ведь главное и в реформе - не форма, а содержание, как говорит ныне маркетизм-ленинизм? Но, если так, то зачем тебе вот это, да еще и красного цвета, если ты демократ, и твой цвет как бы голубой, разноцветный должен быть? Что-то я, Андрюша, не пойму... Скажи, ведь ты же активистом был или все же популистом? Там, в очереди у черного хода весь черный километр - это наши бывшие активисты, то есть, у меня выбор о-е-ей какой! Если ты популист, судя по этому, то как-то не все стыкуется, хотя с другой стороны я ощущаю на себе давление упрямых фактов. Тебе придется, Андрюша, доказать буквально, что ты, ну, популист... - Ты забыл главное, - прервал его Андрей в последний момент. - Что? - с надеждой спросил тот, пытаясь прижать его к стенке, потому что опять начал гневаться от нетерпения. - Что без бутылки не разберешь, - спокойно ответил Андрей. - Нету, Андрюша, - горестно признался тот, как-то слегка сникнув, поскольку нормально ориентированное прошлое брало свое. - Трудно поверить, но только этого у меня в хозяйстве нет. Раньше это у нас было валютой, а теперь сама валюта ею стала, вот в чем беда. Ты думаешь, что в этих коробках из-под ксероксной бумаги? Правильно, бумага. Но не из нашего дерева, увы. Валюта, милый мой, валюта! Малюту бы на нее, да тоже нет! Тоже продался! - крикнул он почти озлобленно и высыпал из нескольких коробок множество зеленых бумажек, покрывших пол кладовой предательски колышущимся слоем плесени. - А на кой она мне? Я ее съем, на хлеб намажу, в стакан отолью, печь растоплю, как Ленин говорил? Нет, даже уголок не откушу - зубов нет, как у Шуры вырвал, видел... Не ту мы систему сделали и вместо твоей, Андрюша! Про нашу и молчу, и забыл уж... Лучше давай твою... Как раз и сравним, чья крепче, устойчивей. Наливай! - Но по честному, - серьезно сказал Андрей, показывая тому одну бутылку. - Я вначале пью четверть, потом ты до половины, потом я - вновь четверть, а потом уж ты - до конца... - Полбутылки для меня после Лени, Бори - это как раз, ничто, - соображал тот, оценивающе, с какой-то материалистической надеждой поглядывая на него. - А ты как? Не свалишься прямо на меня, не перепутаешь чего хоть прямо сейчас?.. Ты же – попу?.. - Кто знает, Постигайский, - простодушно отвечал Андрей, отпив по честному четверть бутылки, и подавая тому вторую из другого кармана пальто. - Твоя очередь - пей до половины... За что выпьешь? - А знаешь, за нее проклятую, за твою несостоявшуюся демократию, но стоя! - приободренно, как-то даже свысока поглядывая на него снизу, воскликнул тот, с некоторым трудом выпив полбутылки. - Н-да, ты все же дольше демократ, чем я, поэтому, наверно, быстрее выпил. Хотя нет, просто ты, Андрюха, ни из чего не умеешь по настоящему извлекать выгоду. Не учили тебя! Вот, сейчас даже, став этим, популистом, ну, или как бы этой... демократией, да еще в таком платье, даже более подходя, поскольку как бы многофункциональный такой, а все же первым ты не стал, и первой не станешь, чего тут все хотят! А правдолюбка Танька станет, хоть и не хочет! Знаешь, зачем они это придумали? Она ведь их всех с театром вывела на чистую воду, поскольку с ее-то лица водицы любой бы напился. Потому проще ее сделать своей, чем стать тут чужими, к тому же! Так ныне тут принято, чтоб уж первая так первой и была, чтобы хоть на него внимательно не глядели... Ишь, законница! Развели тут матриархат, мать их! А я, вот, и там имел, и теперь тоже, имеюсь, так сказать... Но что? - А вдруг удастся, Постигайский, пробиться в первые? - наивно хитря, спросил Андрей, отпив из второй бутылки четверть и пряча ее в карман. - Но для этого ж надо хотя бы так туда попасть? - Посмотрим, Андрюша, посмотрим. Ты как, уже захмелел? – прищурясь, поглядывал на него испытующе тот, еще сильнее прижимая его к стенке, и, не глядя, беря у него из рук первую бутылку. - Ты-то, может быть, смог стать первой даже, а вот станет ли он, хи-хи! Да и ты тоже под вопросом... Ключики-то от той заветной дверки у меня... Думаешь, каким я тут хозяйством заведую? Его! Личным... - За что допьешь-то... до дна? - простецки спросил Андрей. - А, опять за твою демократию, комрад! Она все же помогла мне раскрыться и с другой стороны. Раньше ж я все брал и брал, ну, товар брал у товарищей, понятно, хотя и время было другое, и за это могли дать, но теперь, вот, сам давать стал людям, этаким как бы меценатом стал, понимаешь, но за это теперь не заберут, не дадут, и все благодаря ей, из-за которой я и стал таким, дерьмо... м-м, - бурчал тот не очень внятно, но еще вполне бодро крутанул почти полную бутылку и допил ее залихватски до дна, вышибив слезу из глаз. - И тебе я, бедолага, тоже сейчас дам, чего ты хочешь... Чего-чего? Знаю, чего! Будто я Фортунатову не знаю, ну, или уже Фортунатова... Она ведь у меня тоже просила этот, но, увы... Клен ты мой опавший... Но допеть уже был не в силах, как и осуществить свои замыслы, а рухнул на пол, загремев ключами от спец-лифта и главных дверей здания, висящими у него на шее, но на чересчур длинной веревке, из-за чего раньше Андрей и не догадался, что там... у него позванивали иногда именно ключи, а не что-то другое, весьма несправедливо сочтя его этим, ну, тоже хозяйст-веником, звонарем хотя бы... Андрей достал их не без труда, для чего Постигайского пришлось почти раздеть, во время чего тот то мерзко хихикал, то изображал участника французского сопротивления, в ходе борьбы рассыпав еще несколько коробок с зеленью, которая теперь уже растеклась и по коридору, из-за чего пол там стал напоминать поверхность болота, осторожно ступая по которому, Андрей, насыпав по ходу несколько горстей зелени в карман, направился к спец-лифту, на котором только и можно было подняться на верхние этажи... Глава 18 Легко открыв ключом дверь спецлифта, Андрей едва не обмер, увидев там флегматичного лифтера в малиновой униформе с зеленоватой позолотой, в ком узнал бывшего гардеробщика театра Леона. Но тот даже не взглянул на него, потому что взгляд его ленивых глазенок буквально впился во что-то за его спиной... - Подожди-ка, - крикнул он и устремился в лифтовую, пол которой уже покрылся зеленой плесенью. Тот начал шустро черпать банкноты и засовывать за пазуху... В это время неожиданно распахнулись двери остальных лифтов, и какие-то люди, больше похожие на тени, с глазами разного цвета: красного и белого - бросились на пол к его ногам, жадно загребая бумажки за пазухи, засовывая во все карманы... Но флегматик не растерялся и начал их топтать, как слон, буквально вдавливая под толстый уже слой плесени, в котором те начали даже захлебываться, потому что пытались хватать ее и зубами... - Черти! Да я из-за нее хоть что сделаю! Мне валюта как дочь родная! Я даже театр Леона из-за нее сожгу, если он хоть бумажку бы взял! Но не возьмет, хоть ему больше всех и надо! - рычал он вяло, дотаптывая последних конкурентов, и набив до отказа вместительную униформу. – Мне, вот, не надо, раз я тут, но все равно надо.., хотя, может, я ей, наоборот, нужен... Умом валюту не понять! - А эти кто, такие... гнусные? - с каким-то омерзением спросил Андрей, когда тот уже едва влез в дверь лифта, но потом добавил, уже возвращаясь в роль, - и отрок Леон тут при чем? - Эти что ли? - равнодушно спросил тот, с трудом пытаясь дотянуться до кнопки. - А, перевертыши, которые теперь ни там, ни сям, вот и мечутся по зданию, подбирают, что плохо лежит. Достали! Продали бесплатную идею, а платы не получили - наверстывают. Но ты, поп, не дрейфь, выплывут. А, Леон - это у нас общий мозоль, Бельмо-ндо на глазу. Плату получил, а не продал! Из-за него я теперь тут лифтером, а не суфлером, но и гардеробщиком опять подрабатываю – помню, с чего театр начинается! Ну, а как? Теперь ведь все продается? А он, видите ли, и неподкупный, и непродажный! И прошлое отверг, и это не принял! Хуже тех! Если чистое, то в самый раз за чистоган его и... Даже те и чистыми руками, а как загребают... Увидишь еще! И в своей церкви, поди, насмотрелся бессребреников? Но ничего, было Леоново – будет Дарь-Кино! – ляпнул тот и смолк, прикусил губу, да и лифт открылся, и Андрей оказался на шестом этаже, который был абсолютно не похож на то, что он видел с аварийного выхода. Первое отличие - запах, перебить который он попытался, полив оставшейся водки на усы, после чего лишь рассмотрел все остальное: мрачные коридоры, уходящие куда-то за пределы здания, разветвляющиеся на много рукавов, с множеством железных дверей, на каждой из которых было маленькое отверстие, закрытое решеткой. Лишь возле лифтовой была просторная площадка, отделанная под лубок, в центре которой стояла железная копия подзабытого памятника, пряча что-то за пазухой. Слева он увидел дверь на лестницу аварийного выхода, на которой с этой стороны был нарисован старый коридор... Прямо за копией сверкала зеленоватым золотом широкая массивная дверь, тоже отделанная под лубок, куда он и направился, стараясь не наступать на мусор, который тут был повсюду... В центре огромной приемной, уставленной мягкими диванами и креслами, из спинок которых торчали пытливые иголки, бочками с кактусами, всякими приспособлениями, видимо, из музея дознания истины, стоял большой стол секретарши, за которым он увидел Аленку Горгонову, которую раньше все ласково называли Мегерочкой, потому что даже пакости она делала с очаровательной улыбочкой, не говоря о гадостях. Тогда она – после последней, якобы, чистки рядов - работала уборщицей Совета, отчего тот, видно, и почил бесславно после того, как она весьма быстро стала начальницей аппарата председателя, но со шваброй и совком не расставаясь. Пакости она делала исключительно от подслеповатости, что Андрея даже обрадовало, когда та его встретила со знакомой улыбочкой и шваброй наперевес. - Ножки, ножки вытирать, рать, рать! - заботливо закричала Мегерочка, сунув ему тряпку под ноги и тут же дернув швабру на себя, что Андрей ожидал, почему лишь ненадолго приземлился на диван, однако встал с него немного похожим на ежика. - Так, и как бы вы хотели преставиться шефу? Ладно уж, представиться... - Попом из отдела бракосочетаний, записи актов состояния, - скромно ответил он, надавив легонько на ее любимый мозоль. - Сос... стояния? Что-то вас в нашем министерстве внутренних органов давно не было! - явно соскучившись, восклицала Мегерочка, напирая на него своей шрапнелью, но словно не видя, а наоборот, разыскивая по всей приемной, даже под рясой. - Или батеньки не исповедуют больше грешащих и на исповеди?.. Ой, из какого ты отдела? Стояния? Не врешь? Ну, да, ты ведь поп, сам веришь в то, что врешь... Но я тебя все равно попрошу об одолжении, а то мне твой голос что-то очень знаком... Нет, чуть не угадал... Сочетай меня с ним? - С кем, раба божья? - из угла отвечал он ей, пытаясь высвободить руки, ноги и голову из пытливых колодок и колготок... - Не проболтаешься никому? - таинственно шептала она, пытаясь воспользоваться его положением, клацая зубами. - А то я из тебя Фаринелли сейчас сделаю. Ой, как жалко, что жалка не станет! А зачем тебе, кстати? А, поняла, это теперь мне зачем... Под рясой удобно, кстати, меня словно и нет под ней, ну, и не грешу... Ну, так как? - Медузочка моя, ты скоро покажешь мне того счастливчика, ну, нас... о!.. стоящего? - ласково взмолился он уже почти тенором. - Никто не узнает, клянусь тебе этим, пока еще есть чем... - Перекрестись! - потребовала она, не выпуская его из железной хватки наполовину все еще золотых зубов... - Милочка, но я скорее сам теперь на распятии! - взывал он к ее разуму. – Под рясой тебе и не видно, конечно... - Этим и перекрестись, - посоветовала Мегерочка, показывая, как это надо делать. – Вот, так, пойдет... Ну, тогда пошли... Освободив его из колодки, она накинула на себя марлевую тряпку вместо фаты и повела на площадку, прямо к копии памятника. - Давай, венчай нас! - потребовала она, встав рядом с копией и взяв ту под локоть. - Кстати, вот кольца. Боже, и попов всему учить надо... Зря я тебе не откусила – знал бы: куда! Может, показать?.. - Итак, Дева Алена, желаешь ли ты стать женой?.. - начал он обряд, радуясь возможности хотя бы потренироваться. - Тихо, ты что! - оборвала она его. - Его имя ныне вслух нельзя произносить всуе! Тут же всюду эти, уши, слышащие и в пустыне... Но я желаю, прямо сейчас желаю, поэтому поскорей... - Так, я про копию хотел лишь сказать, а при Копитализме это не возбраняется, кстати, даже наоборот, как мне кажется, – успокоил ее Андрей и продолжил. - Так, а ты Фе.., кхм, ну, железн...но желаешь взять в жены рабу божью Алену? - Еще бы, он уже и без этого столько раз брал.., поэтому... Конечно, согласен! - возбужденно вздрагивая, торопила та Андрея, протягивая ему свой палец, но уже привычно не туда... - Тогда властью данной мне богом объявляю вас мужем и женой! - торжественно завершил он обряд, пытаясь найти, куда же надеть тому кольцо, так как руки у копии были чем-то заняты... - Дурак, это же я сама надеть ему должна! - одернула Мегерочка его и склонилась над копией, после чего заспешила в приемную, увлекая за собой и Андрея. - Пошли, а то он из-за тебя и так уже заторчал тут, и меня в свадебное путешествие не отпускает... Введя в приемную, она впихнула Андрея в дверь, ведущую к шефу, который, действительно, нетерпеливо поглядывал на дверь, сложив на стол здоровенные кулаки на таких же накачанных ручищах и набычив шею, по сравнению с которой голова казалась худенькой. - Ну, что, обвенчал? - рявкнул он, вставая из-за стола, хотя внешне на него это как бы совсем не повлияло, ножки его таким же кавалерийским колесиком и остались, какими выглядывали из-под стола, но катался он на них невероятно быстро. - Так, можешь звать меня папой, хотя официальный пахан там, наверху. А я папа как бы для всех, кто до верха не дойдет. Ты какой, это, ну, веры, что ли? - Я? Кат!.. - удивился вначале Андрей, но вовремя спохватился. - Конечно, правый, право-славный, то есть! Вот те крест! - Да, крестик маловат... На всем экономят! Но я тебе другой дам потом. Жаль, что ты из правых только! - с досадой произнес он, снова то ли сев, то ли просто зайдя за стол. - Они теперь в расход как бы опять пошли, пошляки. Хотя бы из левых, что ли... А может, не будем уточнять ориентацию? Потом-то все равно никто не узнает? Ты ведь не скажешь? А мы тебя на тройной оклад сюда возьмем, поп-министром станешь... Тут контингент верующим сразу становится, но только пока не в кого, а это непорядок, на кого-то... и причастие списывать надо! А на кого? В лево-словие нельзя вроде ни шагу, а теперь и вправо тоже.., хотя само право верить у них есть, но как это доказать? Правым как доказать? А как - только еще правее сделать! Налево нежелательно, сам понимаешь. Может, ты им ультраправославие какое бы дал? Или вообще без приставки, зачем им вообще какая-то ориентация, если они тут уже сидят рядом с богом почти? Просто - папославие! Нет, не попо-... Не поймут пока... Подумай... Ну, бог-то как раз с ними не сидит рядом, почему я и предлагаю... - А кто тут сидящий, что за контингент, кроме бога? - равнодушно спросил Андрей в тон ему, то есть, заботливо, сострадательно, последовав за ним в один из коридоров через потайную дверь. - Я же и говорю, что пока один и без бога, но это пока, то есть, один пока без бога, - неохотно делился тот государственными делами, подведя его к одной из дверей, в окошке которой за позолоченной решеткой он к изумлению увидел Петровича, сидящего в позе лотоса на нарах, держа в руках чернильницу, сделанную из хлебного мякиша, в которую он торопливо обмакивал перо, вырезая тем что-то на крышке стола. - Видите, мы даже молоко им даем за вредность, - похвастался Министр, отечески вздохнув. - Домик в деревне... Прямо как дома, в родной почти, отеческой опять же рекламе... - А можно я его прямо сейчас и обращу к богу? - заботливо и смирено спросил Андрей, потупив глаза. – Одиноко ведь сидеть... - Давай. А то он все к какой-то богоматери обращается, а это, сами знаете, не наше. Мы должны верить в отца, как в бога, вот что вы ему вдолбите, а если не получится, то.., - приободрился тот, сымитировав крепкое, но одностороннее как бы рукопожатие... - Хорошо, хорошо! Отрок апостола Петра, подойдите ко мне, брату вашему! - отечески обратился он к Петровичу, который от неожиданного озарения мигом проглотил чернильницу и, сунув перо под подушку, подскочил к окошку. - Да, святой отец! - от чистого сердца врал и тот, весьма порадовав стоящего недалеко папу, изображавшего довольно похоже копию памятника. – Самая удачная, кстати, Аввы тарка... - Вот, именно, отрок, что отец! Отца и чти, а имя богоматери всуе, при папе, упоминать не след! - поучал его Андрей. - Слушаю и повинуюсь, тем более, что и не всуе тут невозможно никак, с этим я согласен, - смиренно соглашался тот. - Просто, услышав имя папы, я подумал, что тут богоматерь и почитают больше, как он, вот и впал в грех... - Да, я просто как-то стеснялся сразу себя отцом назвать, думал, папа оправданней будет для начала, - скромно покаялся и тот папа, однако поправил Петровича. - Но грех-то ваш, отрок, не в этом, не в слове, а в деле, коим я тут и ведаю. А дела-то твои плохи, замечу, как и у подельницы твоей, а не у пословицы, однако... - Как, в обители отца, сына и духа грешная дщерь пребывает?! - грозно воскликнул Андрей, хотя чему-то даже обрадовался вначале. - Это невозможно! Я не смогу его вернуть на путь истинный в присутствии ее тлетворного духа! Приведите ее сюда! - К сожалению, ее тлетворного духа мы так и не задержали пока, по другому ведомству прошел... Но, хорошо, я приведу, если, конечно, не заражусь вдруг и сам ее духами, - нервно хихикая, горка мускулов на колесиках ножек заковыляла вглубь коридора... - Андрюша, все идет по плану, даже отклонения от него, хотя эти комсята вместо нашего плана тогда массовками занимались, конкурсами разных доярок, многостаночниц, ударников всяких производств, но это поправимо, не все потеряно, - зашептал Петрович, приободряясь. - Для проникновения сюда мне пришлось даже сдаться, но я не мог, сам понимаешь, сдаться морально, поэтому пришлось так. Но цель-то достигнута? Мы же с Аделаидой здесь? В самом логове! - Все-таки логово? - сокрушенно процедил Андрей, до сих пор стараясь избегать этой мысли. - Да логовешка, конечно, но суть не меняется, поскольку из кучек логовешек может получиться, сам понимаешь, что - даже математически. Хотя, если честно, мы и не думали, что они так дословно, за чистую монету Капитал примут, без комментариев, как будто мы его для нас и печатали. Мы ж его для тех целиком штамповали, на что те и попались, вместо нас почти коммунизм и построив, и нам бы теперь только капитулировать окончательно и бесповоротно! А эти черти, как учили, так с первых глав и начали. И теперь вместо того, чтобы капитулировать в их построенный для нас почти коммунизм, они собрались и туда вернуть чистый капитализм, да, мировую уже капиталистическую революцию замышляют. Но ничего, у меня время есть. Я для тех как раз сейчас начал книгу о великой пролетарской контрреволюции, потому что у них-то опыта борьбы с собой не было, - спокойно философствовал Петрович, тяжело, то есть, глубоко вздыхая в его сторону. - Одно я не учел - мозги тут пересыхают... - А, на, кстати, попей причастье от попа, - сунул ему бутылку с остатками Андрей, - только саму тару верни Авва-тару... - Ты, что, уже дошел до этого? - сокрушенно посмотрел тот на него глазами, полными слез. - Как хороша! Ладно, Андрюша, наверстаем... Сейчас мне больше всего хочется услышать то, что сотворила твоя Муза, нашу новую Марсельезу, хотя я и так вижу то, что она натворила!.. Ты счастлив, ты слышал. Но все, они идут... - И ты ничего не добавишь? - расстроено спросил Андрей. - Зачем? К моему плану добавить нечего, осталось только к нему вернуться... Даже то, что я здесь, то часть плана... Я для тебя... сейчас больше всех опасен, поэтому и устранился, потому что ты бы действовал, якобы, по моему плану, а они – нет, но подозревая. Сейчас и сделать-то осталось: мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и раз.., - прошептал тот напоследок, якобы, в бреду... - А, дщерь греха, - громогласно упредил ее восторги Андрей, сверкнув на Аделаиду почти поповским взором так, что ее немного погас, - ты, наконец, в обители расплаты! И тут, вижу, ищешь жениха? Но вот надеешься на это зря ты! Ведь я пришел изгнать тебя, ха-ха! - Как скажешь, отче, спорить и не смею, - склонив голову, смиренно ответила Аделаида, но так сверкнув взглядом... - Ну, поп, ты мастер! Затушил и этот костер! - с восхищением посматривал кривоногий папа на них. - Да, с нею нынче можно и в костел, и не только послушать музыку органа.., - предупредил как бы Андрей. - А под венец, вы думаете, рано? - неуверенно спросил крепыш, с интересом посмотрев на Аделаиду с другой стороны. - Тут, наверху нет никаких проблем... - Да, папенька, в том смысле - здесь Эдем, - робко прошептала Аделаида, стыдливо прикрывая лицо платком. - И в остальном он будет между нами! - почти торжественно пообещал ей Министр всех внутренних дел, не имея ее возможностей прятать усмешку. - Да, если все заговорят стихами, - предположил ненавязчиво, но напевно Петрович, демонстрируя им сквозь окошко лишь верхнюю часть своего лица, - тут будет Голый Wood или Май-ами... - Заговорят, раз я издам приказ! - самодовольно пообещал Министр, чуть дав сбой. – Сериалы, вон, почти все про нас... - Отец, веди к венцу меня.., нет - нас, - воодушевленно произнесла Аделаида, вцепившись Андрею в рукав пальто, что спасло его от нескольких синяков. - Вы тут постойте... Прозой пока поговорите, - сосредоточенно приказал им Министр, направляясь в свой кабинет. - Нет, просто молча приказа ждите.., пока напишу, сочиню, то есть! Сказав это, он удалился в кабинет, из-за двери которого вскоре раздался стрекот пишущей машинки, чем-то похожий на пулеметный. - Негодник, с кого ты снял это платье? - не поднимая головы, ревниво шептала Аделаида, наконец-то нащупав и его руку. - Не поверишь, но на меня его просто надели, - отвечал он, думая о чем-то другом. - Петрович, я тут никого не узнаю, как-то это не состыкуется с планами, надеждами... Неужели они такие жестокие, планы твои? Это ведь тоже Исход, но через пустыню духа? - Но эти бы и не пошли, как остальные, через другую пустыню, проходную для большинства, - спокойно ответил тот. - К тому же, это пустыня духа потому лишь, что идут по ней всегда отвергавшие его, но, как ни парадоксально, самые верные по духу ленинцы. Ты пребываешь тут в мире материи, не забывай, а совсем не там, куда звал их.., даже нас тогда, ну.., ты-то, конечно, не помнишь сам, но я-то сразу понял – куда, почему Муза и... Нет, Адочка, только для этого, поскольку она – только Муза!.. А это Капитулизм всего лишь. И эти привычно рванулись напрямую к их идеальной материи, вещам, забыв поскорее нашу материалистическую идеологию, но по старой памяти отвергая и их как бы идеализм, ну, этакое эстетство их банального потребительства. Это беда, а не вина их, поскольку наша материалистическая идеология таковой и должна была быть согласно названию. У нас и не должно было быть идеологии - только материя! Парадокс, да! Материи лишь было маловато, вот и придумали идею... Мы существовали только за счет нашей вредности, все делая вопреки. А эти и тогда уже делали, как надо, согласно доктрине, материально но иде... качественно, и теперь лишь отмели, отбросили все, в чем притворялись раньше, потому что ныне заставить их нечем, план, сводящий в одно все противоречия, не действует на бывших массовиков, орговиков и вообще... Я этим - про план, а они мне сразу же – про план, но другой! Я им про Сони, а они про золотую ручку Сони, и все подобное... - Да, Петрович, тогда бы я в тебе этого и не заподозрил, - дружелюбно произнес Андрей. – Ну, я про Сони... - Тогда все действовало само, и я мог быть самим собой, а теперь ничего не действует, приходится быть тем, кем я был на самом деле... К тому же, мы не знали тебя до того.., - признался тот. - Ну, не все, конечно, не знали, - заметила Аделаида, ущипнув его более ласково, но через тонкое платье... - То, как вы абсурдно вели себя с точки зрения той системы, и заставило меня поверить, кстати, - признался и Андрей, но не стал добавлять про свое нынешнее поведение, лишь вздохнув... - Еще бы! - хихикнул Петрович. - А ты, Адочка... Теперь весь их раек в твоих руках, делай с ним, что захочешь, ну, о чем мы, конечно, только говорили тогда вместе с большевиками... - Ничего, на это у меня хорошая память! – заверила та. – Со стихами, вот, ты только зря, ведь тут и язык не повернется, да это и вообще не моя стихия... Это вы – к ней, к своей Музе!.. - Так, все готово! - самодовольно рявкнул Министр, выходя к ним с большим свитком в руках и при полном параде: в зеленоватом мундире, отделанном такой же позолотой, весь увешанный подделками орденов и медалей разных эпох и стран, где были и оловянные кресты, и звезды, и с полумесяцами, даже медная баранья шкурка и красное сердце. К тому же, он был в серой треуголке, под которой даже стал кого-то напоминать своим ростом... Взяв Аделаиду под руку, Министр сделал вид, что он скачет на лошади, с благодушной улыбкой бросив в окошко камеры. - Так, а ключики от твоей камеры я оставил Мегерочке, на ее усмотрение, она тут должна навести и порядок,.. так что ты теперь в ее полной власти... Смотри, она тут не одна такая, точнее, одна останется – не обессудь... Все остальные пыточные приспособления у нас так, для реквизита, как бы декорации, сами понимаете... Власть - это ведь тоже Театр, с другой лишь вешалкой, раздевалкой на выходе! Не зря тут столько шума из-за ничего?.. Тут они услышали за спиной грохот стола, которым Петрович пытался забаррикадировать дверь, и противный звук скользящей по мрамору мокрой, видимо, половой, тряпки или даже трех сразу... - Хи-хи, неужели наш великий плановик решил своим столотворением оградиться от такой счастливой случайности, как Мегерочка? – захохотал уже Министр, звоня или звеня всеми своими регалиями. – Даже мне, спецу и по их внутренним органам, то не сразу удалось, даже моим столом... А вдруг в этой внеплановости и вся суть перестройки? А что? Ну, начали не с Рая, но с Раи же, однако! Был же Союз, строй, порядок,.. а теперь? Свобода, вера, барахолка, собственность, а-то и вообще среднего, никакого рода: Право - а было Лево!.. Черт, а ведь есть, над чем задуматься как бы задними мыслями... - О, My Cop! Везде мусор, мусор! – послышалось сзади... Глава 19 В лифте их поджидал флегматик, неторопливо ловивший таракана, который постоянно успевал убежать с того места, по которому звучно шлепала его ладонь, сотрясая всю кабину... - Тебе только мух ловить, Флегма, - с усмешкой заметил Министр, заняв собою сразу четверть кабины, рассчитанной на тринадцать человек, как было написано на табличке. - Но только не львов - они тебе не по зубам... Ты – лифтер, а не львотер! Уже стих! - Я сожгу его театр! - клятвенно пообещал Флегматик, внимательно наблюдая, как тот спиной легко пригвоздил его неуловимого врага к стенке, что его даже воодушевило. - Флегма, теперь это уже не важно, в его театр больше некому ходить, - с усмешкой заметил Министр. - Это был и последний таракан, который сбежал оттуда. Да, он не мог умереть иначе - только на дуэли с системой, только играя, только на виду! Ты бы, Флегма, весь дом разнес, но не помял бы ему даже крыльев с театральной вешалки, которой театр теперь заканчивается... А ты и не знал? Он же не летает, он и в это играет, понимаешь? Думаешь, чего они на рожон лезут? Потому что и ему зритель нужен, даже крошку своровать не может, чтобы кто-то за этим не наблюдал, не похлопал ему ладошкой, как ты тут уже час, наверно, аплодировал за весь зал тараканам. Поэтому теперь это и не требуется. Но как хочешь, хотя я бы там не кино, а казино открыл для настоящих игроков, которые играют не для зрителя, а на стол, хоть и тут тоже думают, что на Победу. Мы ведь не зря почти во всех кинотеатрах казино открыли - эти лишь сопротивлялись. А зачем, скажи, кинотеатр, театр для зрителя? Наблюдать за чужой игрой? А в казино он сам может, даже без репетиций, прийти и сыграть... Вот и доигрались, ха-ха! Не поняли, глупцы, что тут-то не театр, где умирают не по настоящему, тут настоящая игра, пули в барабане рулетки настоящие, только пустые дырки игрушечные... Сыграем? - С вами? - в страхе, но как бы с заботой воскликнул лифтер, с волнением и хрустом ощупывая свою пазуху, карманы. - Надеешься, что я проиграю? - с усмешкой спросил тот, уже крутанув барабан огромного нагана и с трудом приставляя его к своему узкому виску, добавив после щелчка. - Тебе, Флегма, никогда... На! - Что вы, Папаня! - испуганно протестовал тот, трясущейся рукой беря наган в руку и медленно приближая его к своей маловатой и для нагана головке... - Промахнешься!.. Ладно, а то забрызгаешь свадебное платье моей невесты, - великодушно бросил тот, отбирая наган и раскрыв барабан, из чего все поняли справедливость его опасений. - Но ты уже, считай, мертвяк, так что она теперь моя... Понял? - Да-а, - едва выдохнул из себя согласие тот, оседая по стенке, пока они выходили на следующий этаж, который был уже, действительно, иным миром, чем-то напоминая собой среднее между станцией метро и дворцом. От дворца тут были все признаки роскоши, а от метро - линейные размеры. Коридор уходил почти в бесконечность в обе стороны от просторного холла перед высоченной дубовой дверью приемной "Министерства внешних органов связи", на которой висел массивный железный герб с перекрещенными пером и шпагой, кончики которых отсвечивали ярким светом красных фонарей в виде пятиконечных.., но уже крестов, прибитых крупными гвоздями по бокам... - Видели, и тут уже Министерство!? Где-то, значит, чего-то еще пало... Но учтите, хоть у нас и одинаковая почти аббревиатура, но в отличие от моего Министерства, где вы обязаны говорить правду или вас заставят быть честным все равно, тут правду говорить вообще нельзя, запрещено, недипломатично, точнее. Для этого и тогда были «Известия». Это я вам, коллега, то есть, батюшка, говорю, - мягко добавил он, подводя их к двери. - Мы тут не на исповеди, поэтому не удивляйтесь. Будьте естественны, я ведь знаю, что такое вера, ну, это когда правды не знают, или ее нет вообще, но признаться в этом их не заставишь никогда... Но, побывав на моих нижних этажах, вы поймете, если уже не поняли, что абсурд-то как раз там, ниже, где якобы их правда, народная, как песня хороводная... Тут же все - объективная реальность! Вон, видите, объективчики всюду?.. Значимость этого министра Андрей понял по тому, что секретарь его сидел за старинным столищем почти в таком же мундире, как и этот, в треуголке, но только без побрякушек. - Здравия желаю, министр Экупюр! - рявкнул слегка насмешливо тот, но даже не пошевелился в огромном кожаном кресле с позолоченными львами на подлокотниках зеленого дерева, открыв им наконец имя сопровождающего их. - Ладно, сиди, сиди! - доброжелательно похлопал тот его по плечу, почти как равного. - Кто б позволил себе стоять в вашем присутствии рядом! - приободренно воскликнул тот, даже поудобнее усаживаясь в кресле. - Ой, не надо! Я-то по почкам, да по печенкам спец, куда мне до ваших внешних органов! Руки коротки! - самодовольно принижался Экупюров. - У себя? - А то где же! Куда нашему главному внешнему органу деваться? - кивал секретарь как-то фамильярно даже. - Только что после приема, отдыхает... Вся Урюпинская делегация прошла через него... - Ладно, ты тут, дорогая, под надежным присмотром, а я сейчас, - суетливо бросил Экупюров, шустро прошмыгнув в дверь кабинета, чем слегка разочаровал Аделаиду, внимательно рассматривающую секретаря, в кресле которого и ей вполне хватило места. - Итак, господин секретарчик, у вас, что, министр - баба? - пытливо спросила она, ощупывая его портупею. - Что вы! Девяностодевятипроцентный мужик! - чуть ли не хвастливо врал тот. – Еще вчера был... Три звездочки... почти! - Что ж духами прет из кабинетика? - ворковала Аделаида. - Но это же Шанель, то есть, форменные? - оправдывался тот, хихикая от ее наманикюренной аргументации и странно поглядывая на Андрея. - Те нам тоже: а чего это у вас все в шинелях? А мы им тут же в ответ: а у вас, мол, и дамочки даже в Шанели, но мы же молчим? Теперь и они не спрашивают, боятся напутать, потому что сами запутались в этом, раз у них и высшие шинели сплошь в Шанели. Одна буковка, а миром правит! Все я, каюсь! Меня ж в секретари прямо с коли,.. ну, с калинарного, как бы, техникума взяли. Технарь! Так и сказали, что для политической кухни теперь такие нужны. Время, мол, кухарок опять кончилось. Потом, я и в Сорбонне был, но мне там кухня не понравилась. В Кембридже, Гарварде языки, да и мозги лучше готовят, хоть я все равно вечно ошибаюсь, но спасибо Фортунатовой, хоть в запятых выручает! А то я раз написал: "Доллар, на рубль!" – а там ее вообще не было. Так, это новым, ну, то есть, единым курсом новой партии, Центробанка и стало... А раз послали им письмо насчет поддержки их партии войны как бы. Так я и пишу, печатаю, то есть, у вас, мол, партия Вор, и у нас, мол, тоже Вор у власти – где ж протиВОРечия? Вмиг ДогоВОРились! Нет, тем, наоборот, пишу, что мы тоже обеими руками за Пи-ис, и что мы всегда будем Пи-ис на их Пи-ис отвечать, еще с времен борьбы за наш Пи-ис во всем их Мире, и от френдов шип, мол, в мешке не таим. Не верят, Фомки этакие! Где, мол, у вас рынок? Я пишу им: какой базар, френды, у нас, мол, и тут даже базар теперь, а на любой барахолке сплошь их супермаркеты! Смешней, конечно, ответ их Папе, ну, то есть, Попе по-ихнему, получился. У них-то, батюшка, она одна, то есть, он один, вот и носятся, как с писаной торбой. Это у нас вас теперь как парторгов... А я ведь языки-то по другому воспринимаю, мне-то все одно! А те пишут, что же вы так к "аур Попе" плохо относитесь, не пускаете к себе? Я и отвечаю: поклеп, мол, мы и к своим попам теперь наоборот относимся, тем более, что у нас их намного больше, но называем так же! Это вы, мол, от наших «аур...», Святых Духов нос воротите, нашу Тройку и теперь не признаете! Ничего у нас Хоули нет? Да у нас только и слышишь это Хоули на каждом углу... Тем более, у нас и брак был завсегда браком, а вы, мол, только теперь его таким признали... Сегодня, конечно, нам хотя бы брак начать производить, а то совсем воспроизводства нет, но я не о том, не по этим делам... Вот, поэтому, батенька, мы в свете всех их новых веяний на вас выбор и остановили, не смотря ни на что... А я – на тебе, кс тати, милочка! - А как же тот? - мило улыбаясь после того, как перестала зевать, спросила Аделаида, кивнув на дверь в кабинет. - Он ведь тоже Хоули фэмили хотел создать со мной... - Как?! - изумился секретарь почти по-министерски. - Он же у нас роль главного врага семьи и брака исполняет, ну, как бы итальянской семьи, конечно, мафии, вроде, но откуда их «Роре» еще-то взяться... Но мы сейчас это уладим, пойдем-ка за мной туда. - С этими словами он потащил ее за собой к двери в кабинет и резко распахнул ту... - Ты что, Минотравов, это ж секретная операция? - испуганно воскликнул Экупюров, спрыгивая со стола вместе со штанами в руках, но в мундире и при всех наградах, ласково так поглядывая на Аделаиду, которая, чтобы не потерять равновесие, крепко обхватила руками шею Минотравова, запрыгивая тому даже на руки в обмороке. – Мы, то есть, тут, милочка, мальчишник отмечали, последний, так сказать, день на свободе, век воли не видать, ну, и все такое... - Да-а?! - ревниво протянула Аделаида, возвращаясь из обморока. - А где же у твоего мальчишки Хоули Пи-ис? Или у вас Святой – тот, кто с Hole? Так и я тогда святая, с детства «дырявая»... - Ну, и Holy, если у них так принято! - невнятно заметила крепкая дама с мускулистыми, недавно бритыми ногами и еще более мускулистой грудью, этаким ярким свидетельством успехов нашей нефтехимической индустрии в сравнении даже с их Силиконовой долиной, по-солдатски мгновенно облачившись в секретарскую униформу во время прыжка со стола и встав перед ними навытяжку. - Мы с нашей полевой, ну, или половой хирургией еще фору дадим их Херрам! Господин министр связей, испытания проведены успешно! К выполнению боевого задания в тылу врага готов, то есть, готова! - Вольно, майор Нектаврова, - отмахнулся Минотравов, с любовью оглядывая их парочку. - Но насчет тыла поспешила. В тылу ты перед этим работал, теперь и на передовую годна. Там как раз конкурс красоты «Булатная Леди» намечается... Не блатная! Никаких Хоули! - А Фортунатовой не предлагали? - поинтересовался Андрей по-отечески из-за спин парочки голубков, в одном из которых, наконец, узнал Ментурова, мастера как раз перевоплощений... - Она... отказалась, - покраснела майор, бросившись на грудь Экупюрова с одним только всхлипом, после чего вмиг успокоилась, продемонстрировав сразу и мягкость, и твердость характера. - Говорит, я это слишком хорошо знаю, чтобы спутать со своим, так сказать... Патриотка в этом деле, не отнять, хотя пока и нечего... - Не плакать! Экупюров, как по-твоему, майор Нектаврова не проколется? - серьезно спросил Минотравов. - Никак нет, поскольку как бы контрольный прокол уже есть, - смущенно признался тот. - Ты сомневался, что ли, во мне?.. - Ну, тем более, поедешь тогда на встречу с ней, вот, тебе и загранкомандировка засветилась, - расщедрился Минотравов, уже прибирая к рукам, как свое, Аделаиду. - Ты только там не веди себя, как слон на подсудной лавке, там все же кафе "Элефант" как-никак! Поэлефантней уж, бычки об официанток не гаси, они все равно по-нашему не понимают, ничего не скажут, хотя с войны там наши. А другой явки и не осталось, сдали даже Камрань, «Апельсиновую грань», вернули пиндосам. А эту уже раз сто пытались - не берут, не верят, чего бы это мы ее по телику стали тогда показывать... - Лады, коль не врешь, дипломат, я тогда тебе на малину абонент выпишу, где по-нашему понимают, кстати, хотя там и не наши после последней стрелки, - расщедрился тот в ответ, с тоской все же взглянув разок на Аделаиду, за что тут же схлопотал от майора, но еще пока не пощечину, а за спиной... - Ты что, братан, разве дипломаты врут? - обиделся даже Минотравов, объяснив тем поведение майора. - Да, извини, братан, за тавтологию, это я от избытка чувств, понимая, что ты и сейчас на работе, у вас ведь отставок, выходных не бывает, - заботливо оправдывался тот, еще разок многозначительно взглянув на Аделаиду, но зря увернувшись, поскольку майор в этот раз уже хотела его поцеловать, но зря лишь клацнув зубами... - Да, твоя старость меня дома не застанет! - романтично пропел Минотравов. - Кстати, а чего ты приказ замылил? Я бы сейчас мог и в рифму! Работа у нас такая, хотя и страна другая... - Эта чертовка Мегерочка все напутала, так спешила в одну камеру, ну, знаешь, к кому, - почесал тот затылок около лба, соображая, как тот узнал. - Вместо говорить всем в рифму написала привычно: молчать всем под грифом... - Тогда спрячь, - посоветовал тот. – Не те времена! - А мы, разве, не в рифму тут? - удивленно воскликнула Нектаврова, но ее уже никто не слушал, спеша к спец-лифту, на ходу оглядывая выставку внешних органов министерства, среди которых преобладали два, похожие чуть друг на друга разными цветами, рас-цветками ли... Та не очень и расстроилась, не привыкнув еще к таким окончаниям, а пристроилась поуютнее в своем кресле и решила по привычке выучить наизусть приказ Экупюрова, то доставая его, то вновь пряча, если вдруг казалось, что запомнила строчку, но, как истинный разведчик, рассуждая при этом вслух совсем о другом - не о том, о чем думала, и уж тем более, о чем должна была думать. - Ну да, в Элефанте меня только и видели после конкурса... Не нальете ли рюмочку аля-рус за два карата? Сейчас нацежу... А то я милого трезвой не могу видеть! Силиконовая Долина, ха! С моей трубкой Мура только по Элефантам!.. А почему бы и нет? Куплю, кстати, последнюю явку, и никто туда больше не сунется, весь мир - мой! Заведу слона, ну, помоложе... Ложе, ложе... Кстати, где же нитка с иголкой? Зашить бы надо прокол, хоть и генеральский, но все равно... Слон ведь тоже большой – ему тоже видней? Хотя не понятно, почему вдруг мамонты вымерли, а всякая шелупонь осталась, ну, как и в нашу перестройку: вместо Штирлицей – одни шырли-мырли всюду? У них она была раньше, наверно... Блин, неужели, меня и тут надули, и от Элефанта лишь еле фант какой остался? Мне, правда, после генерала и любой слоном покажется с непривычки, но вдруг привыкну... Черт, а ведь даже думать начала по другому с этой, ну, раздвоенностью, как-то даже логически, может, даже диалектически: лево – право - середина... Именно золотая середина... Золотая! И чего я тут сижу-то?.. Вперед, только вперед! Часть третья. Марш капитулистов... Глава 20 А наши друзья с внутренними министрами во главе, но без особой спеси, поднялись в спец-лифте на восьмой, но полуэтаж, самостоятельно нажав кнопку, поскольку Флегматик все еще думал, что проиграл, хотя с непривычки у него не получалось, и он с задумчивым взглядом сидел в углу, держа в руке не ключи, а почти допитую бутылку водки, как бы цепляясь за ее незавершенность... Никто, кроме Андрея, выйдя из лифта, не удивился увиденному, так как им сравнивать было не с чем из другой жизни, за умонепроницаемыми стенами, да они и не слышали, как изменилась мелодия, ритм, размер, добавилось звона литавр, топота ударных... Аделаида просто восхитилась, думая уже дальше, так как мундиры деловых министров и их органы мигом поблекли в колонне фраков, смокингов других, официально более важных чинуш, а, особенно, всевозможных нуворишей, увешанных золотыми цепями, браслетами, брелками с брюликами, унизанных перстнями, улыбающихся друг другу золотыми, платиновыми пастями, держащих под руку вместе с охранниками целые гардеробы сокровищ, которые сами стоять не могли под тяжестью их, буквально нелегкой, непереносимой в одиночку жизни. То были не просто спутницы, а натуральные наложницы, носильщицы, на которых их спутники несли целые состояния, даже в виде толстого грима наложив на тех золотую пудру, не говоря о сплошном пирсинге из колечек и крючков с брюликами. По крайней мере, ни сантиметра натуральной кожи найти на них было невозможно даже при минимуме ткани, на которой красота, конечно, вполне может экономить даже там, где прятать от других уже давно было нечего, но показать еще было что даже в Плэйбое... Но теперь это было предметом гордости собственника ее, а не создателя и даже не самой обладательницы, что, извините, было бы похоже на твой счет, но на чужое, причем порой более известное и признанное имя... Это были, как он понял, последние посетители, но из первых, толпившиеся в очереди у особого лифта, похожего на те, которые бывают в шахтах: с открытой, железной клетью, но с золочеными сиденьями в виде лиры, а, может, тоже звучных ободков унитазов - на всякий случай, видимо. Сильная половина очереди живо что-то обсуждала, поскольку слабая не могла раскрыть рта, даже разомкнуть губ, унизанных кольцами. Но и это не помешало хозяевам ходячих сбербанков, пенсионных фондов и прочего, тут же впериться завидущими глазенками в Аделаиду, на которой кроме короткого платьица с глубоким вырезом-декольте ничего не было, кроме скрываемого, зато было много свободного места, в том числе, и для воображения. У большинства даже сигары выпали изо рта от изумления или от более точного, выражаемого и в цифрах, чувства. Второй раз в жизни и Андрей оценил прелестницу, со вздохом вспомнив то московское утро, приведшее его и сюда в том числе... Вначале к ней подкатила, можно сказать, всякая шелупонь, хоть и министры, во фраках, но сопровождаемые относительно скромными вешалками, увешанными импортной, ясно, но, в основном, простой, публичной бижутерией, к тому же, хоть и с гордецой, но и с опаской оглядываясь на силовиков... - Фемина, вы... потрясны! – прошипел ей на ухо сквозь щелку рта самый шустрый, в смокинге, пугливо оглядываясь туповатым взглядом на свою весьма практичную, но уже неоднократную вешалку, не решившись представиться вслух, а сунув ей визитку... - Фемида?.. Мин-обр-паук?! – громко переспросила Аделаида, прочитав ту пару раз, отчего тот испугано съежился, озираясь... - Свят-свят! Секретутка напутала, - оправдывался он, оглядываясь на потяфкивающего под нос толстячка с головкой в виде тефтельки Гаргантюа, сопровождаемого таким же, но с Фирменной метелкой, которой он заметал за ними следы, почему их как бы и не было. – Мы ж раньше все англицкими, ну, сшатовскими буквами писали, ну, списывали их билеты, их вопросы на наши ответы – не лохи ж какие, - пока импортозащемление деревянными не началось, и не пришлось на нашу феню, то бишь, на кириешки букварно переводить. Так та безграмотная дура с нарного, ну, с калинарного, то есть, куленарного, одну букву не перевела, так «n» их и оставила... Вместо наук и... - Еще б! Вам же «Нет» нельзя говорить, даже под мухой, - поддержала Аделаида сочувственно. - А их «Net» паучкам и ближе! - Вы до меня в школе учились! – восхитился тот. – Я ж думал, и она - однонарни-, ну, одноректорница, типа дочки ректора! Мне сперва даже понравилось, даже сетевым менторством решил с ней заняться – придумал сам, кстати, - но за деревянные уже нет резона, да и менты набежали, знакомое услышав. Мы их тут же научно в полицейских и перевели, чтоб не ментальничали чаво... Представьте, если б меня наркомобразом назвали, как я предлагал сперва сдуру? Во, перевела бы! Хотя парком – почти партком, но сейчас маза не та, как при дедусе была, когда он тоже с нар – и комиссар, безвариативно!.. - А вы бы Нары по-бошевски, а не по-бушевски написали, типа Narr-Kom и прочая, - посоветовала Аделаида, - тогда бы твоя с нарного и при прямом переводе не ошиблась, так бы Дура-Ком и записала, Дур-Ком-образом, Дур-ком-просом ли, точнее... - Как вы близки кистеню, ну, к истине! Не школы - Дурдом! Знаю, заходил – никто не испугался: училки-тычилки в рабочее время мне отчеты о том, что должны вместо того делать, строчат - каникул им мало, хотя мы их еще не урезали! Салаги без перемен смартфоны дрочат, ну, географию учат по планшетам, ну, половым сумкам офицера, хотя собираются в миллионеры! Чье воспитание?!– похвалился тот, озираясь на тефтельку. - Но мы вместо школ и вводим им сразу РДШ, типа ППШ, новых Дико-брят, Декабрят ли – не придумал еще – но без училок, кому еще зарплату давай! Я б вообще один Детсадком оставил – проще: «Есть хотите – га-га-га! Сколь трититек у быка?» - Шесть чедырок петуха, - подсказала Ада. – Назвали б не партком, а портком, порком ли, чтоб, как раньше, снял портки и пороть! - Да! Пороть! Так современно, по сшатовски, как учили, тычили, точнее, на их курсах, ну, и педофилич,.. то бишь, педагогично по-нашему! – закивал тот, заблестевшими глазками зыркая на толстячка с тефтелей в галстуке, тихо добавив. – Но я, тс-с, их и так без порток, без степы оставил, этих будущих магистраторов, балаклавров... - Bachelor, without Grant! - поправил тефтелька, а тот, с метелкой добавил по-нашему, но их буквами. – Kranti! Wshe-to. - Бакалавров, - поправила и Ада. – Им, ВШЭ, наука не впрок: бакалейщиком, бычьим лором, холостильщиком и так возьмут! - Наука?! Та, вшэ, не впрок и без порток! Придурки: несут такое на своей фене, что сами не врубаются, почему на их охинею мне рубля жаль! Ясно, когда теория – Сухой, но древо-то зеленеет у Фроськи в банке, ну, которая от Кучерявого, кто мечтал нашему Мигу гоп-стоп сделать. А я и сделал, приматулил этих маишников, сдал на переделку Преображенскому, профи по Шариковым-подшипниковым! - Миг, разве, не из Фауста? – переспросила Аделаида, зевнув. - Какой Фау-100? – усмехнулся тот. - Фау ж – у той стервы, ну, фрау с евро? Но были! Ныне у той и сотку не могут мгимошки выпросить на серверы, ну, на сервелаты! Кого универсамы, мгушки, фушки и лгущки, теперь спушки, готовят? Лавры пожинать, да фиги пожимать? То ли дело был ГУМ, школа Капитулизма! Я и взял с калинарного, у нее хоть куча рецептов была, но кухня кремлевская поменялась: ни пармезана, ни парами – ана... Шпроты запретили, как шпоры! - А как жить без пармезана куртизанкам, куртизанам? – подде-ржал знакомый, заливистый... голосок одинокой вешалки. - А без шпрот и маасдама не дадут и в Доме дамы! Сообча! Чунга Ча!.. - Мы своих, как настрогаем, в Сорбонный, в Йельцинский, Гав-гаврадский, ну, вшэ-то, в Гайдаровский пошлем! – отмахнулся он от той. - А чё, закончат супермар,.. ну, детсадник, эгегешник сдадут - и все права у них, как там, но там, на Фордах чтоб, на новых Вордах! А кем бриджи им тут протирать на этой, ну, на Ниве той, как ее?.. - Науки, паучок, - насмешливо продолжила Аделаида. - Буратинка, занимайся-ка строганиной лучше со своей сраной бонной - сор только из избы туда, подальше выносите, особо, в бриджах... - Но она ж ого-го, отличница, но эгешная уже, угадывает слова лишь из трех букв: «ГУМ», «ЦУМ» - если из истории, «Кол» - из арифметики, а уж из биологии, так.., пардон, - почесал тот явно недозрелую репу, оглянувшись на трехбуквенную вешалку. – Я ж не думал, когда ЕГЭ вводили, что мне и достанется... Когда вводишь, разве думаешь? Хи-хи! Сейчас, вот, опять подумал, кстати, что надо бы ОГО сразу и вводить, типа Особый Государственный Опрос... - Ого! Но если вдруг с Дуркомобраза тебя за такие эгегешки на Мин-сель-коз перебросят, то лучше Гос-Опорос сразу вводи, - посоветовала Ада, - глядишь, родственная душа, наконец, достанется... - Его – на мои Минселькосы? Он литовку за косу ни разу в руках не держал, хоть и косит! Пани от пони не отличит, овцу – от отца ее, а козу – от Коза Ностры! В курятник точно с серпом попрется! Завалить-то, ясно, всех завалит – не привыкать! Я-то знаю, вместе трехлетку в калинарном откинули, и мой балбес при нем пятерик уже откидывает, - чуть не поперхнулся от возмущения, но на вполне профессиональной фене другой министр в смокинге, но в патриотичных лаптях, правда, все еще с лейбой шляхетской «Ба-дуры», которую, видно, второпях забыл снять, а, может, с намеком на реэкспорт. – Да, как ни как какой, а экспорт. «А чем еще импорт заместить? – говорят и мои эксперты из эскорта. - А сразу бабками экспортировать!» Никто тут не экспроприирует реэкспроприаторов, никакие санкции не помогут им, и не дуры там, не идиоты – от своих бабок отказываться! Все – киприоты, как и у нас! Хотя, да, деревом велят, но надо – сразу столь новых экспортеров появится: каждый сможет им стать, любой рублевый пенс, у кого бабки после такой жэкухи останутся! Вся страна станет экспортером! Да мы их тут, блин, завалим!.. А он что предложит селу – течку, одни мозги экспортировать опять? А куда остальное: рога, копыта? А бабки – куда? Вы, вот, милочка, согласились бы?.. - С чем, с твоим остальным, с рогами, пока ты копыта не откинешь туда же? – усмехнулась Аделаида. – Для меня, если заметил, проблематично будет дожить без бабок хотя бы до бабкиной пенсии, раз саму, по-твоему, еще рано экспортировать... - Гдляньте-ка, рога, копыта, бабки! Будто в волатильности крын-ки секут! – презрительно заметила одна из вешалок, но несшая все свое в банке с зеленой, может, и с рубленой капустой. – Что зырите? И Юрик ставил на банки, с банок и начал эту, ну, пересадку... - Я? В вола тельности, стельности ли не разбираюсь? – даже задохнулся тот от возмущения. – Это он мягко стелет – соснуть... негде будет будущим дояркам - всюду видео, камеры, телеки! - Я – в твариативности, сволотильности не секу? – рассмеялся Буратинка. – Да я столько этой сволоты, тварей за косы перетаскал еще с садика, теперь и до училок добрался – все им сучки... Задорнова припомнил, такую Диктантуру им ввел - до пенсии не забудут, если доживут. Будут скоро, как Ахилл лесом за черепахой, бежать за той, на пятки пятилеток наступая... Да я их, доя, отучу, блин, от я!.. - Милочка, не волнуйтесь, я обеспечу вас накопительным пенсионом президента на все последующие за этой ночи! - обещал Аделаиде шепотком официальный, но почти нувориш с усиками и улыбочкой на щекастой физиономии, потрясая карманами, откуда шел густой, будто погребальный звон бедных,.. то есть, медных пенсов. - Но кому после первой же ночи достанется твоя недокопленная, птичка моя? - заботливо потрепала она его за усики, которые так и остались у нее в руке вместе с улыбкой. - Думаю, все твои пенсионерки тебе дешевле обойдутся, даже вместе с пенсами... - Но им-то зачем, если до пенсии не доживают или потом лишь переживают, что дожили? – удивился тот некой нелогичности. – А чем быстрей те к червям – тем реформы ближе к нам! Кто сказал? У Мин-финки спросите – он у нас за резервного авторитета теперь... - Кто-кто! От пирога ж Егорки – народу только корки? И я потому решил, что им без разницы, до какой не доживать, за какую переживать, а до какой нам работать на всю, так сказать, кубышку, без остановок и отставок, ясно, до самой, так сказать, последней берлоги... Тьфу-тьфу! – поддержал его, сплюнув, правда, Мин-финка, почесав страусиное или какой-то тоже не нашей рептилии яйцо, но на голове, правда, другой рукой поигрывая чем-то в кармане и нарезая вокруг нее круги по каждый раз новому курсу. – Но мы им одно урежем, но другое справедливо прирежем – сами передумают! Каждый год если по году добавлять – будет время передумать! Но и мечтать, Лева, наши привыкли – надо уважить! Тогда - о коммунизме, теперь пусть - о пенсии мечтают, чем-то схожей, кстати: от каждого - по возможности, каждой Зинке – по потреб-корзинке!.. В силу ана- и просто логичных обстоятельств овчинка-то вырезки стоит, а, милая моя?.. - Ты мне?! Нашел овцу с руно в-вечный золотарь наш! – съязвила вешалка с банкой, апеллируя к МиВФологичности и Тефтельке, даже запутавшись слегка меж ними. – Милая, да не твоя, хотя и с одного барака оба мы. Но я сама кому хошь отрежу, порублю, как деревяшку какую, а вы только под ногами, да меж ног путаетесь, как путаны, и мне все ставки попутно спутали со своим путаником, решившим поймать рыбку на чужой путине в путы паутины... пу... пу... - Да, не руби сук под собой, милок, - посоветовала Аделаида, прервав поток ее казноречия, в котором та уже запуталась, забылась ли, что она сейчас с банкой, а не в банке со своими тараканами. - Улю-лю! Улю-лю! – чеканил вопреки отсутствию указа о рифме странный тип, шлепая ручонкой по нижней губенке, - эка новость – по рублю! Эка гномика взяло - прямо в прорубь... Пронесло! - Срав-внять! Срав-внять! – топал следом, похоже, тот гномик. - Фрося, окстись, мы не в Форосе, все ж знают – чьи мы и чилимы, - тупо уставился на ту Минфинка, забыв и про Аду, и про финку в кармане. – Я Минтрутня лишь хотел просить подтвердить - у него ж и работать как бы некому, хотя и зарабатывать негде. Даже однока-кашника Егорку переплюнул: все трутнеспособные - плохиши, буржуины, мол, а Мальчиши – сплошь пенсы уже! Безработных почти нет, не хватает даже для Статистики! И пушки есть, мол, просят, да стрелять не по кому: всех воробьев Мао культурно переловил... - Нашел, кого просить подтвердить! У него, что, за твердую валюту те у станков трутся, пролетают, раз мы им и печатный станок вырубили в рублях, а, муха? – путалась та дальше. - Мы ж дерево так отторпедировали, заволынили, что и твердый курс без инфляции загнулся! Какой ради барракуды оба мы старались, если тут на пенсион выходят раньше, чем уж замуж невтерпеж, да еще и с пенисом?.. - Без инфляции... пенсов? – озадачился Мин-финка. – Как это? - Отторкетировали? – перебил его восторженно какой-то мутный хлыщ. – А их-то, рабов тяг, с чего, на какие шиши торкает? - Сводки, - ностальгически вздохнув, пояснил ему носильщик его гардероба, из-под белого балахона которого выглядывал синий мундирчик, весь увешанный то ли пирсингом, то ли медальками, значками, - такие поступали к нам раньше... - Отторгетировали, - поправил важно какой-то толстячок. – Торгетинг – ныне двигатель любого процесса, даже монополитического! - Таргетинг – великая вещь! – изрек рекламный телеперсонаж мурлыкающим голоском. – Ну, ваша целевая реклама для одного, ясно, для кого, кто свой внешний вес с внутренней массой путает... - Как? Таргетинг? Путает? Во-во! - засуетилась Фрося, не зная, как записать новое словцо одной рукой, не выпуская и банку. - Фрось, давай подержу? – предложил Мин-финка. – Общее тело ж делали, я ж тебя под... держал? Банки не сдавать несете, кстати? - Счас! За свое место подержись теперь, за бюджет, ну, за гад-жет, ну, за этакое совсем небольшое устройство, насколько помню, – отрезала та, прижав банку к груди. – Сдавать, ха! А кой у кого не слипнется, как у Чука? Сдал, и, глянь, как разнесло, раздуло? - Как-как! Я сорок сдал сперва, и, хоть меньше были банки, но с икрой, после чего и понесло, в ГД аж занесло, - причмокивая, заметил толстяк со слипнутыми и губенками, прочмокал ли так, что даже Фроська чуть за нос не схватилась, но, спохватилась вовремя... - Я – не Мин-трутней и не из ГаДов же каких, - обижено ответил было Минфинка, - чтоб за свое место, как за соломинку, обеими руками и губами держаться, чтоб и самому не потонуть среди топимых... - Вот именно, без всякой инфлюэнцы загинаются, причем сами медики, да и твои педики тоже! - кивнув Минобразине, запоздало встряла, подхватив знакомое словцо, еще одна вешалка, несшая следом за Фросей все свое, но в большой, неполной, правда, вазе, обвив ту обеими руками, на одной из которых краснела жирным крестом подвязка. – Помните ж: делать бы гвозди из этих людей, не было б в муре гибче гвоздей?.. Да, тоже собиралась податься в литературу, но застряла в регистратуре, хоть и в рифму, но... Но я о другом: в Африке вообще от всякой ебалы, не хуже нашей – как тот, эбонитовый на вид, сказал - коньки откидывают, хотя льда там и в ледниковый период отродясь не было, как говорят по телеку, ну, где первый Гомо с пенсами и объявился. А спрашивают с нас, с Минс-трава, будто мы сами и ее косим! Почему, мол, у нас, наоборот, Гомо с пенсами слишком рано, еще до пенсии коньки отбрасывают? То есть, наоборот, позже! Будто мы и за гололед, и за их голодо-юмор, голо-до-уморы отвечаем!.. - Потому что конкуренции нет! – заметил Минфинка. – Пришел, отсидел свое, лег на кушетку, откинулся ли – и поминай, ну, как звали! А надо, чтоб без конкуренции – никуда, даже туда... - Может, «контрацептивов», – уточнила та, - раз никуда? - Где ты была раньше? – спохватился тот. – Я про конкукуренцию ж ему речугу заготовил! КонтраЦеБтивы – новое слово в манитыризме, средство от,.. ну, для эканомики! Все минет, а это - нет! - Ты, что, тоже минет,.. ну, монетчик?– поинтересовалась Фрося, не обращая на заискивающие взгляды той внимания, но не сводя с Тефтельки взгляда сквозь банку, полную и прозрачных камешков, но в патриотичном рассоле. – Но не манидарист же, чтоб бабки раздавать даром, как эти контраЦе... - дедкам? Егорушка, вшэ-то, манитаристом был - тары не хватало для капусты - не брюссельской лишь - вместо кошельков в кошелках таскали! Зато, транспорт был непыльной работой обеспечен! Даже я, помню, столько перенесла, столько вынесла листьев... с Листьевым! Но ты права, милочка: не рубите, мужики, не рубите - а они столь опять нарубили! Одна зелень осталась – ухватиться не за что твердое! А я говорила - никакой инфлюэнцы... Тьфу! Хотя похожая, кстати, ебала, раз эбонитовый сказал! Так, вы ее тоже травкой, зеленью в Мин-страве выводите? Ну-ка, ну-ка!?.. - Ну, с травкой-то с травкой, но мы больше справкой разводим их, - поделилась обрадованная вешалка с вазой, - та ведь теперь мало кому нужна – дороже себе обходится, потому и стала дороже... - Справкой? Ну, ты, даешь! – почти восхитилась Фрося, хотя и не умела. - С нашей ставки пример взяла? А что, суть та же... - И там же, - польщенно заметила та, погладив вазу. – Ставкой тоже, кстати. Став-ка в очередь, постой-ка - за ценой не постоят! - Улю-лю-ка!.. – перебил в рифму тот тип. – В контрацепции - вся штука! Эка гномика пробрало – ставки ставке стало мало!.. - Срав-вняли! Срав-вняли! – вторил гномик. - Обустроим вновь, с нуля ли! Мы с тобой руководимы ж лишь одним: оба с Руси мы ж! - Чьи рукава? Димы? Кто манидарист? Я сам за одну зарплату и до завышенной пенсии, и до завышенной тоже, но стадистикой, смерти готов трутиться, – пробужденный их выкриками, выплыл из проруби забытья, из топи ли Минтрутень, нервно, но трутолюбиво ровняя ногти ножов.., то есть, тоже пролетарской, но наждачкой фирмы «Oriflame», на мозолистых от сего непростого труда руках, - чтоб своим клиентам, ну, тоже трутящимся быть примером верности рабочему месту! Какому? Нет, Фрося, не тому! Для меня фурсетки, профуры – одно и то же... Война баракам! Мир – второму Дому! Тьфу-тьфу, наоборот, конечно! Хи-хи же нам! Мой пример - сам премьер, кто и в зимней спячке свое рабочее место не покидает! Ну, разве что, прос-нувшись вдруг среди Холодной – на слух - Зимы, если разбудит ли кто, ну, или по госнадобности какой... И-то, оно-то всегда с ним, как и со мной! Да, именно как! Как он! Как и я! Как оно! И вам, мадам, предлагаю стать до той самой... доски как бы работницей.., но дома у меня, конечно, чтоб и дома я оставался работником, пролетарием умственного, ясно, но трута, глядя на вас. Все, правда, от Управ-стадистики опять зависит, а не от меня только, но я вам обе... - Вы? Обе? Работницей раба от Ниццы? - усмехнулась Аделаида сочувственно, хотя сама доселе бывала лишь в Карловых Варах еще по совковой путевке. – Увы, самый дорогой наш работник, раб от Ник не родится! Она и воюет с титанами, кто вряд войдет в перечень респондентов и твоего коллеги из Управ-стадистики... - Улю-лю-ка, улю-лю-ка! Ева врет, что я несу-ка! Мол, готов и в неглиже – лишь бы с мил,.. ой, в шалаше! – прошмыгнул мимо тот с отвисшей губенкой, пихнув походя очередного ее соискателя. - Срав-вняем! Срав-вняем! – подпевал гномик, жуя важнецки. – Посмотри-ка, как, вон, я ем! Будет ли с жратвы, Стадист, у меня ужо пег лист? С рук дающих коль вкушаешь – всяк лизнешь или кусаешь! - Я – сэр дрючка! А у дрючки, – вторил в рифму еще один гномик, но сопровождаемый строем вешалок, - есть для вас иль Ев, ой!, ручка! Ей не нужен бух, учет – за кордон то ж не течет! У Мин-Обры зря ль, у армий нет одних проблем: с мозгами! - Еще Мин-Оборотень? – усмехнулась Ада. – Сколько ж вас? - Учет и трут все... переврут! – поспешно бросился оправдываться пухленький управляющий Стадуправления, забыв и про вешалку с янтарными счетами в руках, и прямые обязанности: сперва учитывать, а не отчитываться. – То есть, наоборот, дщерь Инанны! Стадистика, да, – не наше изобретение, а много древнее и банальной статистики, и Эллады титанов, коих вы упомянули. Еще в Шумере велся строжайший учет и контроль стад и садов, а не едоков, как и в Раю, кстати, где те оказались лишь стад-погрешностью, почему то грехом и назвали, когда они главной выборкой тут, на Земле, стали... - Погрешностью?.. Кто ж выбирал то словцо для Любви? – спросила Аделаида, сжав руку Андрея, потерявшегося в толпе... - Но тогда наши выборы не проводились, и врать можно было от фонаря, ни для кого, почему и преобладали мифы, басни, - с захлебом продолжал тот, - про того же первого Стадиста, кого чуть ли не садистом представили, по-нынешнему типа «зеленого», кто за одно яблочко, блин, всех нас наказал, изгнал из Рая! А за убитого Авеля - Каина лишь пожурил, да еще и даровал ему всемеро отмщение, как и Еноху, его сыну, чем тот еще и бахвалился. Но то ж был как бы самый первый Соцопрос тут, хотя в Раю Адама уже опрашивали: Ел?.. - Улю-лю, улю-лю, – опять встрял в разговор тот, - эка Nomic я люблю! Изменил закон и, вот, будто сам уж сделал ход! - Дрючка замов лишь построил, - вторил тот, - глянь, и замок уж отстроил! А построил бы солдат – получил бы вмиг под зад! - Но я, как спец, понимаю Его: не будь сторонних наблюдателей у Сифа, у его будущего стада – не было б ныне и стадистики, - продолжил тот, вздохнув придурку вслед. – Какой дурак будет за собой наблюдать? Ну, да, только дурак! А, Сиф, он не дурак был! Хотя не уверен, ведь так было вплоть до Ноя, который, прихватив всех нормальных тварей по паре, взял с собой зачем-то трех сынов, да еще и с парами, за что, наверняка, и был высмеян первым их сообществом, после чего все-таки исправил ошибку, сделав первый, можно сказать, Выбор, пожертвовав правдой в пользу большинства, изгнав Хама, подав и нам пример, всей нашей демократии!.. Ну, да, сделал Выбор в пользу первого безмолвного Стада, чья история с тех пор и началась на Земле! В Раю-то этих безмолвных стад было столько, что... - Но мы же говорим о Человеке? – не удержался Андрей, удерживаемый под рясой Аделаидой. - Не о стаде, вроде... - Да, но ведь после Ноя, после Вавилонского якобы столпотворения началась История не просто якобы Столпов, а еще и множества Стад, ну, и Пастырей их, конечно, то есть, Паст-ухов, Посл-ушников!.. Это у нас они - Попы, которые, сами понимаете, где и у тех столпов, каков их отсталый Статус... Коллега про то и говорил на примере премьера и его заветного места! Задним умом все ж последствия виднее! Да, надо все называть своими именами! Конечно, ученые мужи стеснялись всей этой терминологии Попов, Pope ли, в той же Германии назвав все это вдруг «Государствоведением», пока в 18 веке среди них не нашелся простой Готфрид Ахенвалль, переименовавший эту хрень в учебный курс простой «Статистики», изучавшей «Status», ну, то есть, у латинян типа «состояния дел» типа в «стаде», Grex по-ихнему же! Grex! Вам написать это, ну, Grex? На слух не катит! - Ты на чей грех, блеф треф намекаешь? – грозно спросил кто-то не по годам моложавый, но тоже с банкой, которую, правда, бережно катила на тележке его вешалка, почему, видно, и держась с краю с ним, держащимся еще и за стены, словно боясь бухнуться... - Да, ты уже повторяешься, - заметила и Аделаида, - насчет трефового греха, но среди червей, скорее, бубен. Может, тебе тоже лучше заняться обычной статист(и)кой? Надежно... - Нэп-пыльно! – икнув, добавил молодящийся. - Вот-вот! Одна буква говорит о состоянии грехов в стаде! Слышите опять созвучия? Случайные? Нет! Потому мы все – все стадо - с рождения грешны! Игра слов, конечно, но Пастыри только этим нас и держат... Англичане, вон, как юлили: у них «стадо» – Flock, ну, не флоксы, а почти «народ», Folk, что у немцев так буквально – Volk в вагоне. Спрятали суть в ином «стаде» - Herd, типа сборища этаких немецких Herr-ов. Зато у голландцев «народ» - Gent, прям клуб англицких Gent, «джентльменов», ну, или Gentile, «неевреев» типа!.. - А тебе-то что до... ев?! – спросила равнодушно Аделаида. - Улю-лю-ка,.. – выкрикнул тот с губенкой уже до пояса. – Ев? Как ев? Ничего никак не ев! И пармезан, хоть и перзам, и маасдам и сам не ам, и массам не дам! И зачем им, Фрося, бабки: в гастроном за гастритом шастать, в супермаркет – за Супер-супом Маркина?.. - Блеск! Но ныне нищета всюду, блин, уже не та! Жрет российский парме-зам лишь совковый партизан! – с края, рыдая, подде-ржала та одинокая, явно голодная вешалка. – Голодает лишь бомонд – сообча жрет генофонд, запивая яство оно лишь слезой «Наполеона»! Если ж я Эдам не съем, то какой к чертям Эдем!.. - Подумаешь, Эдам, Гауди! – презрительно цыкнул Стадист. – Гагаузы, вон, не промах, «стадо» у них Сыыр, типа англицкого Sir, ну, почти Чи-ис... А азер, киргиз бы добавили: «Наш «народ» - это «Ел»»! Народ – Ел! Ел Сыр! Гейдар бы добавил: мое Стадо – Нахыр! Ну, почти на... Herr! Ну, почти... Замечаете параллели? Вот, мы – ваш покорный слуга – и синтезировали постбиблейскую как бы науку и ее нынешнее приложение к человеческому, так сказать, соц-и-уму, ну, как бы умному стаду... Я почему и предлагал назвать это даже Стадистиной, но академическое сообщество усомнилось соответствию такого названия именно социально-политическому приложению сей теории, добавив примерно то, с чего я начал: «Учет и трут – все переврут!» Такова селявуха! Адам, первый потребитель, уже соврал, едва вкусил с Древа Познания учтенный плод? Не Ел, мол!.. И ныне ситуация примерно такова же: есть стадо, которое производит нечто, допустим, выбор, чем и занимается наша Стадистика, но есть в нем и некая группа как бы едоков, потребителей и сего продукта, выбора, но которой как бы и нет, особо, в демократии - этакие Пастыри в ночи! Вот-вот, потому наша Стадистика последних и не учитывает: наука ведь не может оперировать ложью, мнимыми величинами. Да и назвать их вслух под-стадом, те двадцать миллионов, сами понимаете, было тогда затруднительно! И нынешние эти... ведь тоже и выбирают, и считают, и выбирают – кого выбирать, почему и не могут, вроде, быть членами сразу двух-трех стад – математика тут затрещит по всем швам! Как и при подсчете сроков жизни-смерти, средних зарплат, пенсий – всего, что касается социума, который, грубо говоря, тогда составит полтора стада в финансовом выражении, раз часть его входит туда и сюда, голосует и считает, получает там и там, да и получает больше четырех пятых, а мы-то считаем все и делим на одно стадо. Вот и выходит, что у нас Ложь – полторы Истины, а стадо – полтора даже более народа, почему мое название и не прижилось... пока! Да, пока, наука ведь не стоит на месте, как и очередь к лифту, кстати, поэтому я и предлагаю вам полторы свои руки и этого, ну, как его по науке-то?.. Ливер, кровосос, насос, сера, сырец, Сердючка... - Я бы попросил без нам-ёк-ёк-ёк,.. – поперхнулся, ну, тот... - О, после такого откровения я – вся ваша, вашей, точнее, полуторки, - вдохновенно произнесла Аделаида, вдруг вздохнув, - только, вот, не знаю, что же из полутора своего вам предложить взамен... Увы, кроме полторы руки у меня тоже ничего не приходит на ум... Полторы руки она и показала, то есть, известный всем жест... - Мадам, не слушайте, он и наврет вам лишь с полторы кучи чужого, не имея и кучки своего, за одним исключением, - улыбнулся ей некий хлыщ Берибаксов или даже Дери-... в самой длинной золотой цепи, почти продавившей до позвонков шею. – Но я, как алюгарх – не ой-ли какой! - уверен, что кораллы ваших губок стоят всего моего дюралюминиевого концерна вместе с пивной фабрикой и ларьком, возле которого уже собирается будущий цвет всей нашей нации... - И я была бы полной дуралюминиевой, если б отказалась стать вашей пивной кружкой в придачу, - отозвалась на его лесть Аделаида, - в которой этот цвет нации обретает свой истинный цвет... Просто нет мочи, как хотелось бы той стать поскорей! - Ну, насчет цвета и запаха в их кружке ничего не могу сказать, да вы и сами, надеюсь, заметили, что и в этом кружке деньги не пахнут, ищейка след не возьмет, - вкрадчивым голосом заметил какой-то с виду юродивый в черных очках, но в министерском смокинге, полупустые рукава которого были засунуты в карманы. - Но насчет всяких там полутора и прочего хочу предупредить сразу: это государственное членовредительство! Вы даже не представляет, что они сделали с нашей партией, ой, то есть, с некой частью нашего общества, предложив каждому члену той части стать как бы полутора-членом, то есть, из каждого Ком-Муниста сделав якобы Коммер-Санта Клауса с билетом «Санта Фе» в кармане и с мешком за спиной с дарами для народа! Сделали! Парт-билеты мигом поменялись на авиа, подарки – на партии товара, патриоты – на киприотов, боевые подруги – на товарок, товарищи – на братков, съезды – на сходки, честь – на чистоган, ум – на ам, совесть – на стоимость, программа – на прайс-лист, парткомы – на частные комки... Сами члены стали челноками, разных лишь масштабов! Зато лахудры всякие – олигархами! Я уж молчу про образование, вариативное обрезанию лишних знаний, здравоохранение – захоронению здоровых, закон – заказу кончить, право – воровской прорве, а его поборники – преуспевающими побирушками... - Так ты о последнем и жалеешь? – жалостливо спросила его Аделаида, уже устав слушать, кивнув на его полупустые рукава. - Нет, что вы! – возразил тот, густо покраснев. – Просто если бы я тогда стал Мин-Юриком, то я бы все это своими руками бы... - Только при Юрике он минером был там.., а не министром тут, почему больше всех челнокам и нам завидует, праворуб, кому теперь там делать нечего, а тут – нечем! Вот и ждет, когда ему кто сам положит в рот! А не положишь – сядешь, ведь в их законах только той блудливой запятой и не хватает! - пояснил ей еще один во фраке, с сигарой в зубах и с явно чернокожей, импортной вешалкой, на которой даже простые побрякушки сверкали, как звезды ночью. Однако, сегодня и он явно подумывал о ее замещении, судя по озабоченному взору, каким приценивался к Аделаиде, к ее габаритам. – Мин-Турик, кстати, милая Bayan... Да, из Турции, кстати, только что, но проездом из Исландии, через Данию... Ищу, вот, себе, наконец, законную, но нашу только Kone, если уж по-датски, как Гамлет типа... А как иначе, у меня ж туры по всем странам, а Kona должна быть одна – как я ее там выберу, ну, жену, то бишь? Да, и Мин-Юрик против будет! - Я тоже, Мин-Турик, - потупив глазки, заметила Аделаида. – Ну, зачем козе баян? Или той же датской Kone – их же датские мужья, Mand-ы ли, французские ли Mari со шведскими Gubbe? Тем более у нас, где все наоборот, и у каждой кобылы, Мани есть своя манда. «На хер мне такой Нєхєр», сказала б и монголка, которая тоже коня на скаку остановит, лишь в горящую юрту войти не успеет! А из «вешалок» лучше всех эстонские Nagi – любой побрякушкой оденешь... - Черт, да вы ж – находка для Мин-Турка! – воскликнул тот. - Что касается Дур для твоих Мин, то и тут лучше нет эстонских, немецких ли Narr, - посоветовала и ему Аделаида, - привыкнешь сразу и к следующему перевоплощению в Туруханске. Глядишь, тоже каким генсеком или еще кем... гендерным оттуда вернешься... - Погодь, погодь-ка! – спохватился вдруг самый последний из чинуш по счету, хотя к нему первому прислушивались по утрам и самые первые, собираясь и на работу, и на рыбалку, до этого все вертевший головой в поисках хотя бы одного окошка – для подтверждения слов, видимо. Потому он всех успел выслушать, но черту подвел по своему, поскольку ему и на работе платили не за резюме пожеланий свыше, как Стадисту, а, наоборот, за упреждение неких резюме, оргвыводов ли еще свыше, даже выше, чем.., почему и возглавлял он не Комы, Мины, а ностальгическое ПБ или «Погодь-Бюро», лишнюю палочку откуда убрал сам для глобализации прогнозов, почти пророчеств в таком виде. Спохватился же он на Турике, напрямую зависевшем от его долгосрочных, глобалистских даже прогнозов, локально впоследствии чаще всего не сбывающихся, что самого Турика, Турка ли уже не волновало. Остальных чинуш в последние годы его прогнозы волновали лишь в выходные, что его вдруг и возмутило. – Это что ж происходит? У одних крыши сносит, даже пол течет – сплошной метеоризм, а над теми и не каплет – в карман лишь? Тот громы-молнии мечет, хоть и на словах, ясно, а у тех тишь и гладь, погожья благодать? А все почему? А потому! Кто тут официальное бюро прогноза? То-то! Так нет же! Все вдруг, забыв свои прямые обязанности, вместо дела, планирования прогнозировать бросились! Но что, что свыше дано, что тут же и проверишь на собственной шкуре? Дудки! Прогнозируют то, что из их безделья, бездарности и вытекает, чего быть не должно, потом свои провалы прогнозами и оправдывая: вот, мол, какие ж мы – провидцы, Коза-Нострадамусы! Глобы, прям, глобалисты! А коль не сбудется – тоже благодаря им: мол, преодолели - все в поту от ожиданья! Не власть, а воронье: все только каркают, каркают... - Улю-лю-ка-ка... Ты на кого намека-ка-каешь с-с сука? – надвинулся на него тот, с губенкой, в рифму и заикаясь от негодования. - На дежурного по сра,.. – возмутился гномик, - News Russia? - На сэра Дюкова, – встрял второй, - земляка самой Сердючки? - На кого почку гад... ишь? – завопили дуэтом и Минобразина с Минстравихой, перебивая или дополняя лексикон друг друга. - На вас всех и на Фроську вашу, капитулистку! Только и каркаете: завтра, мол, будет еще хуже, упадет еще ниже, если не упредить, самим не опустить, заранее хуже не сделать, чтоб потом не так худо с непривычки казалось! Даже Минтрутень вместо того, чтоб работой всех загрузить, зарплаты повышать, только каркает, как будет плохо, если и пенсов безработными не сделать! – с неожиданно независимым видом заявил тот. – Один только Статик весело чирикает: все хорошо, марки - за, все довольны тем, что сегодня лучше, чем завтра... - Вы посмотрите на этого Метеорщика! – чуть было не хлопнула себя по бокам Фрося, но вспомнила вовремя про банку. – Сам стращает всех ка-ката-клизмами, да еще хоть бы врал... А мы должны при его ж потопе пенсовый рай всем обеспечить, да при жизни еще! - Во-во, или врать, что обеспечим, а потом краснеть, как с коммунизмом бы стоило кой-кому, но не успели, самораспустились под шумок кобыл,.. Кабула ли, чтоб не отвечать, - поддержал ее Минтрутень. – Но мы не такие, не самораспустимся, мы честно всем говорим: Птица счастья завтрака с утра! Завтра будет хуже, чем вчера! - Если сегодня нам лучше не сделать, - сумничал тот, с губенкой, - чтоб завтра в среднем всем лучше было! Кому? Низам! - Чё вы перед ним оправдываетесь? – насмешливо заметил Мин-финка. – Мы его завтра и поменяем на адреналин, ну, на этот, Андроид, как он собирался своих метеорщиков менять! А там и других... - Банкиров – на банкоматы! Министров – на мониторы! Вициков – на ВЦ! Академиков – на аккаунты! Премьеров – на промоутеры! Генералов – на генераторы! Все только за будут! – восклицал тот, доставая из кармана, словно билет самой большой партии в мире, красное пенсионное удостоверение. – А это видели? Мой мандат на правду! И подвирать теперь не стану! Все вы сгинете в потопе не утопического, не людского, а погожьего гнева! Это есть мой последний, самый точный прогноз! С Интернацио-на-а-а-алом воспрянет... - Вот прохвост! Но я ж не знал, - начал оправдываться Нач-Пенсов, на которого устремились негодующие взоры толпы. - Столько лет врать и вдруг правду сказать, ну, то есть, наоборот... У нас же пенсия типа... поминок, а он или перепутал что, или не понял чего... - Хи-хи, кто ему, Метеорщику поверит, пока сами не глянут в окно!.. – рассмеялась было Фрося, но вдруг крепче вцепилась в банку и смолкла, как и остальные чинуши, с некой даже завистью поглядывавшие на бывшего собрата... Среди остальных же были, в основном, пожизненные трутяги, собес,.. тьфу, собственники, для кого лишь смерть была и отставкой, и пенсией, куда они и не спешили, почему во время пылкой дискуссии лишь плотнее обступали Аделаиду... - Господа, господа! Дайте мне вставить слово мадам, дайте мне! - воспользовавшись временным затишьем, завопил из-за спин обступивших ее поклонников какой-то бритый наголо или налысо толстяк в ностальгически красном галстуке, едва поднимая руку с килограммом драгметалла на пальцах, - против моего лома все равно нет приема, я и ваш весь сейчас металлолом соберу и сдам, если не пустите! - Давай, давай! Вспомни пионерское прошлое! Даешь стране металл на лом! - подзуживала его Аделаида, отпихивая от себя ближних, самых настырных, опять потянувшихся к ней загребущими лапами, протягивая ей ожерелья, кольца, цепи, платочки с завязанными в них камешками, кредитные карточки, заплесневелые трубочки... - Люд весь на слом - за металлолом! - заорал тот патетически и приступил к выполнению пятилетнего плана ударными темпами... - Драгоценная, я спасу вас от них, - многообещающе шептал ей в это время еще один, с виду чей-то телохранитель, отпихивая чужого подопечного от его карманов, оставшихся в руках крепыша, - если вы мне только позволите прикоснуться к настоящему, на чем нет этого металлолома, хоть пальчиком! Моя хозяйка - это ходячий, чаще лежачий саркофаг Тутанхамона, а я по совместительству должен этот саркофаг еще и ночами охранять от одиночества... Умоляю! - Что ты, бесценный! Пусть она - саркофаг, но я-то далеко еще не мумия, чтобы и меня по совместительству тем же самым пальчиком!.. - уже с трудом отбивалась от них Аделаида даже с помощью обоих министров, которые в чем-то походили на тех, особенно пользующийся моментом и отсутствием майора, Экупюров, который чересчур старательно прикрывал ее самые уязвимые места от наседавших, отчего она не выдержала и буквально взмолилась. - Святой отец, помоги? Не отдай на растерзание бесам! Андрей сам понял, что пора действовать, заслышал ли какие-то новые нотки во всей этой вакханалии, какофонии, и вспомнил о плесени. Вытаскивая банкноты из глубокого, то есть, дырявого кармана, он начал разбрасывать их над толпой, как сеятель... Те вначале не поняли, что это, даже начали чертыхаться, сбрасывать с себя липкие бумажки, пока условные рефлексы не взяли свое. Тогда они, забыв про все, бросились собирать зелень, рвать, вырывать с корнем, вытаскивать из-под чужих ног, воруя из карманов друг друга, пока между ними не началась настоящая драка, во время которой те, кто расторопнее и относительно беднее, начал втихаря срывать сокровища с чужих жен, порой и вместе с тяжелеными платьями, под которыми для легкости ничего не было, кроме пирсинга и стрингов, поясков, шнурков с камешками, золотыми монетами... Тот телохранитель, пользуясь случаем, методично начал снимать колечки с тела своего Тутанхамона, отчего та прямо забилась от страсти в его объятиях, вопя на весь этаж благим матом и призывая на помощь всех фараонов... А тот как багром пользовался для мародерства и ее зонтиком, срывая попутно и с чужих вешалок и их нуворишей цепочки... - Да, святой отец, в церкви почет святым, а в цепях - снятым! - благодарно кричала Андрею сквозь звон и гам, хруст золотых челюстей и швейцарских часов, писк жемчужных бус и золотых очков Аделаида, устремляясь следом к соседней, незаметной двери в другой лифт, с одной кнопкой наверх: «Прием» - хотя сама старалась утянуть его куда-то в сторону, просто пожирая разгоряченным другими взором, тоже все помня.., но он уже чувствовал, что время уходит из-под ног, и только позволил ей ненадолго спрятаться в полах его пальто от возможных преследователей, передав ее оттуда уже успокоенной и умиротворенной прямо в руки Минотравову, мундир которого даже не помялся, в отличие от Экупюровского, на котором осталась только одна золотая, якобы, звездочка, слегка позеленевшая по ребрам от плевков, и пара пуговиц, но, зато, из раздувшихся карманов торчали кончики цепочек, бус, а порой выпадали перстни, сережки, даже чья-то платиновая челюсть, почему он и не очень расстроился потерей остального иконостаса, подбирая те, однако... - А, надену в раздевалке вместе с новым мундиром! Театр откуда начинается? То-то! Потому и сыр-бор весь из-за него, - доверчиво делился он. - Зато, размялся. А ты, батюшка, однако, запасливый! - Это Постигайлов! - скованно смеясь, соврал Андрей, краснея внутри. - Не мог не отплатить за исповедь, за отпущение грехов. - И как же вы это перенесли? - сочувственно воскликнул Минотравов, даже непривычно передернувшись. - Тут же немного? - удивленно спросил Андрей, смущаясь. - Он не про это! - насмешливо заметил Экупюров. - Он про исповедь Постигайского, а не лова, кстати, потому что неуловимого, ну, как и те мстители, но которую даже я читать не стал, иначе бы застрелился... случайно, конечно. Хотя, это учебник! Второй Капитал! Потому он - самый бесценный, надежный работник, хотя больше его нигде бы не взяли, даже приемщиком в аду, хоть там и перенаселение. Чиновник – это ж по определению виновник, и некоторые несут это наказание пожизненно, хотя говорят, что она и после смерти есть. Кстати, вы все ему отпустили, это возможно? Серьезно?.. Правда?.. - Так, господа и служитель Господа! Перестаем говорить и думать даже! Входим в святая пока еще не снятых! Оставь одежды всяк, сюда входя, – добавил б прежде я, но сегодня, милочка, это тут для вас не актуально, - торжественно предупредил Минотравов, отряхиваясь и раскрывая инкрустированную золотом дверь лифта. – Сегодня тут раздевают так же, как и там – пенсов, поскольку демократия, толерантность и прочее, хотя уже не телорентность, ра там – уже голый демос раздевают, а тут – самих демонов, типа Берибаксова... Глава 21 На удивление огромный зал приемной был совершенно прост. Высокие стены его без всяких излишеств были просто выложены из маленьких кирпичиков, брусочков, тех самых Bars, с одной стороны, справа, зеленовато-золотистого цвета, а с другой - серебристого, но размером побольше. Противоположная от двери стена представляла из себя просто невероятных размеров телеэкран, состоящий, естественно, из множества меньших, но тоже внушительного размера, на каждом из которых шел без звука какой-нибудь чрезвычайно подвижный сериал, возможно, для глухих, потому что герои постоянно жестикулировали всеми своими и чужими конечностями, чаще всего прибегая к железным и свинцовым аргументам. При этом на большом экране как в цветомузыке повсюду мелькали ярко-красные вспышки в форме пятен, струек, брызг, потеков, и лишь в самом центре недвижно торчало лицо нынешнего отца всех народов в исполнении Аль Починка, аль еще кого-то, скептически взирающего на... Центр приемной занимал огромный шахматный стол на низких ножках, разрисованный красными и серебристыми клетками, в которых стояли высокие, даже слегка узнаваемые фигуры, среди которых был всего один король, а две ферзи странным образом напоминали сидящих по обе стороны замов. По мраморной поверхности стола кокетливо расхаживали две секретарши в одних туфельках и поясах: черных и белых - иногда передвигая фигуры по команде шефов, или демонстрируя друг на подруге приемы классической борьбы, каратэ или модного ныне дзюдо, пока те обдумывали ходы или переговаривались. Последним они как раз и занимались, когда вошли посетители, почему на тех никто не обратил внимания, кроме двух здоровенных псов соответствующих мастей, сразу же принявшихся обыскивать карманы гостей, поблагодарив взором телячьих глазищ одного лишь Андрея и то за предусмотрительность Адреналины Антиоповны. Дискуссия замов была теоретической и в основном на шахматные темы... - Знаешь, Бруттов, - размышлял сидевший слева в серебристом фраке зам, - ни в одной теории: ни Спасской, ни Фила Дельфийского, ни Чикагской, ни даже Сицилийской - я не встречал комбинации, ну, то есть, дебюта двух, тем более, четырех ферзей, хотя их-то я бы и по пальцам мог пересчитать... Только четырех кобыл! Даже из четырех офицеров только один, типа графа Орлова, сподобился однажды, и-то надеясь на детский мат... Вот и тот ушел в потемки ферзи... - Да-а, Чёлкин, эти рохли в погонах слишком прямолинейны, знают лишь черное или белое, как и лебеди, и, привыкнув приказывать, никогда не договорятся меж собой, почему на их кобыл и ставят, ну, а там ныне вместо них кобыл ставят всюду, даже над летунами, но не проходных, ясно, - цедил сквозь зубы второй, в золотистом фраке. - Проходными бывают лишь пешки, почему ими и жертвуют во всех гамбитах, сразу им – бац «подножку»! - заметил Чёлкин вдумчиво. – А их, одних наших - восемь, можно дебют четырех, даже больше, ферзей-визирей забабахать, как в Петроградском гамбите! Хотя помню задачку лишь о восьми ферзях, где девятую уже ставить некуда – срубят или наоборот. Но королей, увы, два... - В твоих шахматах лишь два, - усмехнулся Бруттов. – А триумвиратов и у нас сколько было? После Ярослава, Ленина, Сталина, Никиты... А Беловежско-Форосский гамбит, где после мата, ну, или пата одному стало трое – растроилось у тех после аперитива, а потом вообще повалила куча мала: пятнадцать, почти шестнадцать, кстати - после одной жертвы! Это уникальный в истории гамбит пятнадцати проходных пешек-королей! А теперь ровно шестнадцати - с Тирасполем! Но, увы, классическая цель игры – из двоих сделать одного, что мы в нашей партии и сделали средством, а не целью... - Сегодня маты и разрешены лишь другие, - заметил тот, кивнув кудрявым чубчиком в сторону секретарш, демонстрирующих какой-то прием. – И что остается? Или вечный Шах, или пат, где другим, кто выжил, и ходить не надо! Низя! Для королей самая надежная – первая позиция, а для нас – вторая, где никто не виноват! Я и хотел предложить то у нас, так нет, партия, мол, теперь другая, единственная в многих лицах, потому ни матов, ни патов! И что, и Троцкий был не дурак, заявив: ни войны, ни мира, - но ведь недолго был, как и Вова сам, ну, тот, второй, а не два в одном как бы... - В мире давно ситуация взаимного вечного Шаха, хотя на досках типа брюссельской, ныне почти черно-белой - патовая: попробуй кто и из ферзей сделать шаг влево-вправо! – поддержал Бруттов, наблюдая за попытками секретарш выйти из партера. – Именно ферзей-визирей – королишки там сами за выходных пешек теперь... - Марш капитулистов на месте! - усмехнулся Чёлкин. – Да и какие ферзи – сплошь тусклые, мерклые, хилые фря, маргиналы, сплошной пассив, даже из бывшего актива! За брюссельскую капусту готовы на любую грядку присесть, даже грибом-поганкой! Зато сов-безопасно, каким теперь там стал и политический секс с чужими боле-головками. Но грядок, ну, клеток на их доске мало – негде развернуться настоящей партии и теоретически, даже онанически, вот и непрочь размножить их в Шотландских, Испанских гамбитах, зарятся и на наши, где избыток как бы, да еще каких клеток – с их полдоски! И у тех, кстати, черно-белых сшахматистов своих клеток мало – даже у дощечки Капабланки одну заняли, даже на грядки укропа уже согласны... Зато, у нас – сразу, бац, и пара в прикупе!.. - Ну, тем только в карты, в покер и играть с их почти полной колодой, где лишь двух чужих подкидных дураков, дур ли не хватает, пары ли джокеров для боекомплекта! Потому и Буль-де-Бургерский клуб, и Купитолий, и ватники, ну, эти, ватиканцы, да в любом бараке, пивнушке поддержали бы нашу партию, гамбит одного короля, типа «Оба мы – царь всея и прочая!» Ныне ведь все и там не Нострадамус определяет, а Глоба!.. – гнул свое и секретарш Бруттов, с какой-то даже затаенной завистью поглядывая на тех, таких естественных... - ...лизация, нализация? – добавил Чёлкин. - Тем и хорош Евро-Собес, ну, Евро-гарем: лизнул бонн – и в дамках он! Зря ли лезут бывшие наши туда сквозь все щели, готовы Матушкуродину заложить – лишь бы потусоваться, поголосоваться там? Электорат одноразовым эректором стал: голоснул и сам в урну! Благо - дать! - Только не гарем! Зря их в 1908-м и у турок прикрыли? - воскликнул Бруттов, наблюдая, как секретарши в схватке едва не опрокинули фигуру Короля. - А если там борьба за власть, вечный шах, пат ли начнется? И при двух ферзях опять рамсдец придет! Даже самые хилую с мерклой турки сведи – такая клиника пойдет, блин: клин angle и вышибет, пятый «угол» и в Пентагоне искать начнут! - В твоем случае, Бруттов, и при фюре,.. ну, ферзе, бывшей вне подозрений, чем все кончилось для Кесаря? - заметил Чёлкин. - Но и Ангелок, урожденная Каснер, ну, типа перевернутый чуть при родах Канцлер, на прослушке у всего барака, и как бы вне подозрений, - пожал накладными плечиками тот. – И верно! Хорошо организованная борьба, как и оргия, в гареме оградит от нее сам верх, скроет его в уютной тени, как и Брюссель ныне, в чьем мраке и не поймешь, кто ж там заправляет, кроме капусты! Но у них и учились! Кто? Кто делает теперь из него свой Бруклин, названый в честь нидерландского же Брёкелена? Брокколи, да! Кто превращает его в свой черный Гарлем, чей прототип - голландский же Харлем, Жопень ли, Jopen-kerk? Уже - и в свой Гарем, не зря узаконив однополые браки, обращая тем и конкурентов в обитателей: в одалиски, в добровольных кара-агалар, евнухов ли! Глянь на них: либо явные дебилы, либо неявные Делоны! Да, как и Лондон – в Лоно Дона на день... - В Seno по-испански, - добавил Чёлкин, - Дона... Хотя по латыни Dono – давать, дарить, дань, что даже ближе лону, думаю... - Что тогда такое – Сенатор, – озадачился Бруттов, - круглое?.. - По-испански Senador, - пояснил Чёлкин, - типа дорога к... В дебатах они не заметили, что на среднем экране давно уже вместо Аль Починка появилось другое лицо, чуть искоса поглядывающее на все происходящее в приемной... Точнее, экран просто исчез, как вскоре исчезли еще несколько экранов, открыв проход тому лицу, венчающему довольно крепкое тело, облаченное в синий смокинг с большой «алмазной» звездой на четко обозначенной властной мозоли, направляющееся в их сторону, мелко перебирая под собой ноги и тоже поглядывая на туфельки секретарш, вновь стоящих в партере... - Ну, что, все места уже поделили? - менторски говорил он, тасуя в руках колоду карт. - Чёлкину-то простительно. Он сам заработал первые деньги, сдав босса, хотя наверняка списал «Дело» из истории. Но ты-то, Бруттов, кем бы ты был без меня? Голым Неттовым, при своих «нету»? Процентщиком, кого уже ждет новый Раскольников, или сам - им? А кем еще, если сейчас весь бизнец, начиная с ЦБ, ГД, лишь на процентах с трубы живет? Может, трубачом? Кто тебя разбудил, стал для тебя Кассием, «Колоколом» ли Герца с йенами?.. - Косилов, но это ж я его?.. - растерялся тот от такой несправедливости. – Нет, ты, конечно... Если б ты, ну, не побудил, не пробудил, то тиран бы до сих там сидел, как собака на сене... - На Сене?.. На чьем?.. Вот-вот! Потому кому Косилов, а кому и Косарь, может, и.., ну, Каснер... Тьфу ты, блин, наслушаешься вас и сам дурку гнать начнешь! Никаких чтоб фру, фря и прочая! - сверкнул тот очами, но не подав виду, что сердится. - И почему на доске опять один король, да еще и серебряный? Тренируешься, Бруттов?! - Но мы как раз дошли до патового варианта и только хотели поставить его туда?.. - жалобно оправдывался тот. - Красного короля? - усмехнулся Косилов. - Патовая ситуация мне в целом нравится, спокойней, но, боюсь, с третьей ферзей из проходных она усложнится, ведь та в первые выйдет за счет единства и борьбы противоположенных. Конечно, это осознанная неизбежность... А, кстати, нет ли, не было ли гамбита четырех... королей? - Что вы! Мы и думать не могли о таком! - оправдывался машинально Бруттов. – И кем жертвовать – вопрос... Дебют, может? - Я максимум что помню, так триумвират, - с сомнением добавил Чёлкин, – ну, то есть, нашу Троицу, конечно, товарищ перзам! - А четвертого с осины сняли... Хи-хи! Потому и меня можешь называть по-простому - первым, чего язык ломать, ты ж - не букволист Минотравов! - рассмеялся Косилов, отчего собаки чуть не бросились на того, но их опять отвлек Андрей, пошарив в карманах. – А я знаю такой гамбит - в подкидного! В него можно даже втроем играть четырьмя королями, ну, и этими... На что играем, кем жертвуем? - Как всегда - стенка на стенку, - вздохнув, ответил Бруттов. - Бруттов, ты мне свою уже пятый раз проигрываешь! - воскликнул Косилов, сдавая карты. - Но я ж не говорил, что на мою? - скромно оправдывался тот. - Как?! На мою? - чуть не задохнулся от возмущения Чёлкин. - Я ее слезами поливал, сам срубал, ну, складывал, а ты... - А кто у нас – начфин общака? Вы ж сами с церебральной Фроськой, сшатуном Минфинкой ставки только задираете, как юбки, зная заранее, кто в дураках останется, откинется? Вот и играем по-настоящему, на все, до последнего пенса, так сказать,.. - посмеиваясь, раскрывал свои карты Косилов, все более хмурясь. - Кто не спрятался - я не виноват... Кого срублю, того... угу... - А если опять?.. - испуганно прошептал Бруттов. - А тебе, прям, опять впервой? - съехидничал Чёлкин, тщательно прикрывая улыбку своими картами. - Он прав! - рявкнул Косилов, смешав свои карты с колодой. - Все должны иметь равный шанс. Он - тоже! Эй, поп, иди сюда! - Но так нечестно! - застонал от досады Чёлкин, хлопая своими картами о стол. - Как только карта придет, так опять дефолт! - Фол, а не Де-болт! Теперь в моде спортивный сленг. В монопольку твою уже наигрались по самые не хочу! - сдавал опять карты Косилов, пока Андрей волок к столу тяжеленный стульчик. - Ты, Чёлкин, опять в ножки серебра залил? Когда ты от конспирации отвыкнешь?.. А вам, попик, разве не запрещено в подкидного? - Подкидыш и вовсе дитя божье, - скромно ответил Андрей, приосанившись, поскольку в карты играть не любил и, если и играл прежде в Преферанс, то и тогда без особых преференций... - Что ж, ты у нас за Отца и будешь играть, головой отвечая, - заметил Косилов высокопарно, внимательно разглядывая свои карты и Чёлкина, который был опять радостный, хотя и старательно это скрывал, чертыхаясь вслух. - Козыри черви, блин... Зато все шестерки у меня! Ох, надену я какому-то капралу новые погоны сегодня... Так, Бруттов, опять я под тебя хожу. Но это так, шестерка, лишняя, хотя странно знакомая... - Не под себя же, - хихикал Чёлкин, нервно переставляя свои карты с места на место. - А я ее - бац! - радостно завопил Бруттов такой удаче, отбив и остальные карты, спешно убрав битые. - Нету?.. - Да, Бруттов, опять тебе под отца ходить... с пикой, - сосредоточенно наблюдал за игрой Косилов, спустя несколько ходов. - Так, с черных или с красных зайти? - терялся в сомнениях тот, вспоминая что-то из литературы, может... - Чем скорее красных кончим, доконаем, тем лучше, - как бы между прочим заметил Косилов, - хотя сегодня, блин, черные стали актуальнее, надо сказать... От них уже бывшие белые к нам бегут! На красную тряпку бросались, как эти,.. а тут вдруг... - Правильно! Тогда бубна! Еще ни разу нас не подводила, - резвился как ребенок Бруттов. Ему сегодня везло невероятно, хотя карта была не ахти какой. Его кончать, похоже, никто не хотел, даже случай... В конце он первый и остался с пустыми руками и гордо поглядывал на бывших противников. - Я же говорил, что бубны не подведут! Родная масть! Черные и в политике сегодня подставят только так! Ну, кресты, понятно, хотя и вини тоже... - Ну, и где твоя родня, бубны, хоть одна? - слегка раздраженно реагировал Косилов, недоверчиво поглядывая на Андрея, под которого ему теперь предстояло ходить. - Как где? Парочка осталась, я точно помню! Может, куда завалилась? - наивно подумала Аделаида вслух, почему-то разыскивая ту парочку у себя под платьем, вдруг ставшим куда более таинственным и непреодолимым, чем даже ряса Андрея, ну, то есть... - Парочка! - недовольно буркнул Косилов, впервые внимательно посмотрев на нее. - Эй, мадам, иди-ка сюда! Почему дама у нас стоит, а не наоборот? Иди-иди, правильно, сюда и садись. Если бы ты знала, кто тут не сидел! Даже железная фря не сидела, к счастью! Ха-ха! Мне только ее и не хватало, как и самому Фаберже! Итак, куда пойдем, то есть, чем сходим? Ладно, тогда, значит, дамочка пик! - Король, - сосредоточенно отвечал Андрей, аккуратно покрывая его карту своей. - А еще одна? - искоса поглядывал тот на него, подбрасывая карту. - Казенная, так сказать, мадам... - Король, - точно так же отвечал Андрей, думая совсем о другом, хотя и это не получалось, действуя, скорей, по интуиции.... - Чёлкин, если ты опять пожидишься, то я тебя сам пару раз пну! - прорычал Косилов, делая незаинтересованное лицо. - Ага, нашел, чем жидиться... Дама! - хрястнул тот дамой бубен о столешницу под всеобщий вздох облегчения. - Король... - А такой король!? - даже не дав тому опуститься на стол, с маху врезал по нему сверху Чёлкин, словно спеша избавиться, своей последней картой, чуть не брызнувшей кровью разбитого сердца... - Ну!? - не сдержался Косилов и даже привстал над столом, отчего Аделаиде пришлось обнять его за шею, чтобы не упасть. - Мое, - спокойно ответил Андрей, собирая карты со стола. - Как? А где же наш родной, ну, козырный туз? - озадаченно спросил Косилов, не зная - радоваться открыто или нет, хотя две шестерки его уже давно ждали своего обладателя. - Так, я же им твою шестерку козырную покрыл в самом начале? - важно продемонстрировал свою памятливость Бруттов. - Козырную? И ты, Брут?! Ты-ты, конечно... Шестерку - тузом!.. Ладно... Так, что ж выходит? - как можно спокойней размышлял Косилов, ловко накидывая издали на плечи Андрея погоны из оставшихся шестерок. – Поп-то, Отец наш и погоны собрал, и всех королей с дамами, но главное - козырную, а? Батенька, а ты - не шулер случайно? В вере-то вашей я и не сомневался никогда... - Но я же проиграл, даже с ними? - смиренно пожимал Андрей плечами, стараясь скинуть с них как бы нечаянно погоны. - С такой-то командой? – усомнился вдруг и Бруттов. - Кто сегодня проиграл и кому – тоже еще не ясно, хотя, может, все же кто-то из вас,.. - недовольно пробурчал Косилов, с удивлением разглядывая Аделаиду у себя на коленях. - Ну, хорошо, если ты так же и венчание проведешь, то, может, и не из нас... Лампочка моя, нам бы переодеться с тобой - негоже тебе в этом лубяном платьишке со мной на бал идти. Только в белом, парадном! Экупюров, опять экономишь на форме? А если тебе самому достанется такое вскоре? Ты можешь хотя бы на четыре дня вперед планировать? Ну, хотя бы на три... - Чего натри? – спохватился тот с готовностью. – Натрием?.. - Гай Гайкович, сам лично завезу! - вышел вперед Минотравов, - прям из Парижу! Принесу! А то из Вашингтона, хоть их материальчик для флагов, полосатенький такой, но со звездочками, ностальгический, так сказать, чтобы на волю не тянуло по ночам хотя бы... - Ты нам шинели уже завез оттуда! - усмехнулся Косилов. – Солдаты изжогой мучаются от той... Одной Васильевой подруге впору, даже в рифму вдруг запела: Авизо – не Сизо! Полна сума – то не тюрьма! Свой – не суд, скорей, рекламка пешкам, проходимцам в дамки... Нет, мы, все же сами съездим по их шопам, Европам, да, лампочка? Давос или нет? - Конечно, да! Авось не для нас! Может, прямо сейчас? - наивно спросила Аделаида, сияя на киловатт, если не больше. - Пока готовят самолет, мы кое-что успеем и тут сделать. Пошли, моя стоватточка, - зыркнув на всех предупреждающим взором, повел ее Косилов к экрану, бросив через плечо. - Этого шулера - туда, в самое пекло! Шучу! Годен! А ты, Чёлкин, правда, этот, блин... Козел, кто еще! И уда развесил, как этот... Опять козырным королем пожертвовал! А, может, подставил по старой памяти?.. Нет, я же не против?! Взял бы я тебя к себе иначе... А-а, пошли вы!.. - Батенька, - вкрадчиво обратился к нему Чёлкин, отводя к серебряной стене, засовывая в карман один брусочек из нее, а потом, посомневавшись, еще один, - я ведь специально сделал, чтобы, понимаете, сохранить его чистоту от грядущих грехов, как и тогда... А что, если бы вы той дамочкой под него пошли? А? Но он даже этого знать не должен, чтобы и в мыслях чистым остался, потому вы... тс-с! Так что, еще, вот, брусочек, третий как раз – тут их все равно никто не считает, кроме меня... Но вы – мастер, хотя и виду не подаете... - Батенька, - перетянул его к себе Бруттов, сунув несколько брусочков из золотой стены в карманы, - я ведь специально тузика на шестерку истратил, чтобы того, перестраховаться и от себя на сей раз, понимаете? Так что, вы это ему и доложите сразу, что Бруттов бубнового туза за спиной не держит, в отличие от... Наверх? Наверх не надо, теперь все вниз, только вниз! И он тоже!.. Наверх, это уже не для них, не для вас даже, хотя после твоей игры я сомневаюсь уже... Класс! Глава 22 Но и Андрей вел себя здесь иначе, чем тогда, когда у него не было никакого личного интереса ко всему тут происходящему. Теперь он у него был! Личный! Где-то здесь! Поэтому он незаметно, пока все бурно обсуждали последнюю партию и мастерство босса, ясно, направился к лифту, где Флегматик уже спокойно тренировался ловить раздавленного таракана, шумно радуясь удачам. Он очень обрадовался брусочку, подаренному Андреем, потому что ладошка его уже припухла от старания, и тут же принялся с удвоенной энергией за дело, даже не взглянув, какую кнопку нажимает... Девятый этаж поразил его резким контрастом с предыдущими. Он теперь скорее походил на полуподвал, но совсем без окон, как в подвале, в катакомбах ли. По краям тесноватого, мрачного холла в длинных деревянных ящиках буйно плодоносила малина, в центре в большой кадке из-под капусты развесил налитые соком грозди куст калины красной. По углам Андрей рассмотрел также опавший, почти заледенелый клен, березку с краником, рядом с которым сидел мужик, ловя алюминиевой кружкой редкие капли сока и даже не подняв склоненной головы. В третьем углу высился небольшой стог, в котором, возможно, хранилась от всех иголка истины. В четвертом, красном углу стояли несколько черных, базальтовых надгробий с портретами и барельефами комсомольских значков, завешанных уже осыпающимися венками. На одном, самом высоком, правда, портрета и надписи пока не было, а был только большой значок, ну, того же распахнутого знамени, но не со звездочками, а с крестами вместо меток... Скрипящая петлями, дырявая, словно простреленная, дверь вела в совсем тесное, с низким потолком помещение, половину которого занимал огромный бар, перед которым стояли столы из строганных досок и такие же лавки. По краям он также заметил пару железных кроватей с панцирными сетками, на которых, едва задернув цветастые занавески, отдыхала, видимо, охрана в тельниках или в синих наколках с родительской, в основном, тематикой, и с сестрами, видимо, под боком. За столиком в дальнем углу сидели несколько экзальтированных девиц, сладко потягивая самокрутки через длинные мундштуки, а за соседним - четверо бритых крепышей резались в очко. За стойкой бара он, наконец, услышал, а потом и увидел кудрявого гармониста, сентиментально растягивающего меха тальянки: - Не жа-ле-ю, не зо-ву, и не плачу-у, - рыдал тот почти в ритм, но на какой-то новый манер, - и попробуй на меня наедь! Увяданье золота и сам хочу... поменять вновь на шестерок медь... - А где босс, шеф, - поинтересовался Андрей у него, пока тот смахивал слезу, подав вместо салфетки банкноту, – не шестерок, ясно! - Пахан, что ли? - переспросил тот, не вынимая цигарку изо рта даже после пения. – Не на пахоте же? А, может, и в стогу - Херр его знает! Ищи там... Тут, батя, чем реже знаешь, тем чаще живешь. Я, вот, говорил мамаше: не хочу на Шуберта учиться - лучше на шухере стоять! Настояла! Теперь видишь, где сижу? А те – лежат... Думаешь, я Шумана, ну, Шоумена не знаю? Знаю! Но тебе-то он зачем?.. Андрей не стал дослушивать его бесконечную байку, а, сунув ему еще купюру в незанятую руку, отправился туда.., где Глава уже набрал полкружки и добирал остальное. - Садись, батяня, тут чисто. Вчера Ваньку по полу валяли, но не тут! - не поднимая головы, бросил Глава, чуть подвинувшись, протягивая стакан и взглянув на него припухшими чуть глазами. - Будешь за знакомство? Или тебе на службе тоже нельзя? - Насколько я понял, отрок, к службе мы должны оба быть в одной кондиции, божественной, - сумничал Андрей, понюхав налитый в стакан... чистейший первач. - Ты прав, батя, первач у нас классный, «Губер» потому и называется... По губе течет, а берет за душу! - довольно рассмеялся тот, размягчившись после того, как с трудом, давясь, выпил свои полстакана, закусив огурцом, половину которого щедрым жестом протянул Андрею. - Но это ерунда, сейчас, вот, клен опавший отледенеет, западет опять, и я тебя уже «Царским» угощу... - Но чего за клен-то цепляться, листья которого мы совсем недавно в пух и прах как бы, - пытался неуверенно, конечно, сбить его с толку Андрей, еще ничего не понимая, но предчувствуя что-то... - Батя, а малину уважаешь? - спросил тот, словно ничего не слыша, а просто подводя Андрея к кустам, срывая для него ягодки и сам смачно их посасывая. - Очень полезная ягода – при любой системе! Если, допустим, похолодание внешней обстановки или, наоборот, температура внутренних органов повышается - принял ее с чем погорячее, и все как рукой снимет! Разве не так? Почему они против малины? Ты же сам видишь, как тут хорошо? Я, понимаешь ли, сразу тут все по новому перестроил, естественную, народную такую обстановку возродил... А эти козлы? Фэмили, мафию давай! Ты же бывал там? Что, скажешь, обстановка не действует на человека? Ну, кем стал хотя бы Купюра? А Минота, Ментуров ли? Я уж не говорю о Косаре! Ведь нормальные были пацаны, а как въехали в хоромы, так себя королями, ферзями возомнили, а в дурачка режутся!.. Нашли дурачка! Ничего, батенька, против природы не попрут... Ты, кстати, Красного Вовку Солнцевского помнишь? Ну, с него ж попы у нас пошли. То есть, и веру нашу ввел, и восемьсот наложниц имел, однако! Восемьсот! Понимаешь, как мы далеко от истоков ушли? Ну, так я и решил все возродить, но только все официально, на новом витке спиральки... Понимаешь, чтобы не было так: сколько ферзей, столько и в короли прутся. Хрен им! Всем своим ферзям запрещу всякие диалектические спиральки, никаких поворотов не будет, и они мне столько вальтов настрогают, что никто не сунется! Вот, скажи, что такое их семья? Одна перестрелка - и ничего! А если у меня минимум восемьсот своих сынков, а не братков будет, то кто тут - главный Пахан? То-то! - Но как бы официально не получается, - с сомнением, то есть, осторожно поглаживая бороду, спросил как можно равнодушнее Андрей, - Вовка ввел, Вовка отменил, да и религию не ту ввел, хотя и хотел, видать, ту же Соломоновскую... но не ту главу Библии, явно, прочел, с Песни начал, а оказалось... Сам понимаешь... - Да, батя, батяня-комбат, понимаю, потому и вся надежда на тебя! У тех вообще безбрачие, хотя мы без брака пока никак не можем! Не получается! У почти тех же, полуженцы стали жениться поп на попе! А на чем еще? «Роре» на попе! Ну, и Herr с ними! Думаешь, почему они членов, ну, членов и нашей партии вытравили? Двадцать миллионов членов и членок! Помнишь у Жеки: «И двадцать миллионов на войне, и...»? Вот-вот, и еще двадцать миллионов одним махом членства лишили – на войне с народом! Думаешь, зря? Ха! Обидно одним-то вымирать, в суррогатных клонов превращаться вслед за одной паршивой овцой! Вот и взялись за истинных членов, за родину гаремов! - рассуждал Голова о большой политике, ходя вокруг куста калины красной. - А тебе, кстати, такой исторический прецедент выпал! А там, лиха беда начало! Ты ж сам знаешь, батя, что у нас всегда в почете были только Сыны, но Отцов, начиная с Вашего? Ну, и как я могу всему народу хорошую жизнь устроить, когда ему все ее портят? Денег дать? Так пропьют или отберут не братки, так барыги! А отчество, как и Отечество не пропьешь, никто не отнимет! Возьмем наглядный пример из других сообществ: чего, думаешь, львы такие гладкие, да сытые? Ну, а дворняги, хоть и умные, а сплошь бедолаги? Правильно, батя, вожак есть вожак, и слово вождь отсюда пошло, а с ним и вожделение, вождение Мерседесов и прочее... И мне для этого совсем не сорок лет надо, как Мойше, хотя я и на сорока не остановлюсь, и это – за счет другой совсем цепной реакции, не дворняжкиной - будет уже совсем другой народ, другая страна, а уж они потом и мир другим сделают, я не успею весь... Еще Аргентину, Бразилию можно попробовать, с Бразилии начав, там массы готовы, глянь, как отплясывают уже голыми, ну, и какую-нибудь развивающуюся, близкую по крови, Индию, народу которой надо помочь, всегда им помогали, как генетики говорят, мол, родня и так... Создам свой БРАКС, хотя Китай сам справляется. Крит, может. Но я ж - патриот, родину на полпути не брошу, пока не остановлю экспорт нашей самости! Ни шагу налево, назад! Но все от тебя зависит: ты мне - первое второе благословение, а я тебе потом - всемирную православную церкву, ее прихожан, то есть! Понимаешь, Право.., Правую – правее не придумать? Ты же и прежде был против левых? Или Ментурова не знал? Ну, то есть, Минотравова? У него другой корень – Отрава, опиум для народа, не просто травка, хотя он и травку курирует, и план тоже. А ты о чем подумал?.. А клен-то, глянь, разледенел, почки набухают, и сейчас мы это дело царским первачом и вспрыснем! Однако, не тороплю - у тебя еще полчаса до церемонии, успеешь опохмелиться даже. Вишь, как струя бьет? Вишь.., черт, и бить нечему... Капает! Так я ж и не против Капитализма? Ну, давай, батяня, чтоб первый блин Комом не получился опять, пусть лучше Капом! От этого будущее всего человечества зависит, судьба миллениума! Да, хоть и мил лени я... Понимаешь, я пока – вот такой, ну, никакой, ясно, но единственный тут остался, кто вообще?.. Ты же видел замов? Эх! Но только - ни-ни, до этого - никому! Государственная тайна! Я почему и запретил тот приказ, рифма ж сразу всех на тот лад, в рифму и настроит, все дворняжки кинутся строгать Буратин, папой Карлой себя возомнят! Опять Комок, Кома начнется! Никаких рифм, Буратин, Шекспиров, Театров с их Джульеттами, Джульбарсами, Тангейзерами особо, отвлекающими еще активных производителей от Бизнеса всякими намеками на Пизанские падающие башни и прочей «руганью»(Pištu – на аккадском)! Я почему Театр его и хочу прикрыть – мой главный конкурент, хоть и не настоящий, игрушечный, вроде! Вся жизнь – театр, а мы – вахтеры типа! Дудки! И те тупицы, наоборот, пытаются заменить и мне настоящую жизнь игрой в разные паты, апаты, патологии, а, главное, без матов! Да, ведь и того, на самом верхнем мате, я понимаю, но этих... - А, может, они насчет гамбита четырех хотя бы ферзей правы? - размышлял вслух Андрей так, словно его пробрал царский первач. - Четыре блина сразу комом не выйдут, но Капом могут... - Не ошибся я в тебе, батя! Не зря ж твой Отец создал первую! - восхищенно посмотрел на него Глава, нацеживая еще кружку из аппарата. - Что ж, подбери кандидаток, чтобы как конкурс даже получился, ну, типа «Мисс Гамбит», хотя кем мы там пожертвуем, я пока не решил, но это и не проблема среди пешек... - Есть, ровно четыре! - уверенно продолжал Андрей. - Прямо-таки гамбит четырех ферзей получится, хотя можно и пяти, даже... - На первый раз хватит, - смущенно остановил его тот. - Пять еще можно, чтоб звездочка получилась, но у меня есть уже одна, ну, Дарька, кому я Кино-Казино и хотел там открыть, типа «Дарь-Кино», чтоб игралась и не мешала. Игрунья! Все мнит себя Мэрилин, а меня - Мэрином своим, Коником типа!.. К тому ж тут комбинация, интрига интересная складывается с якобы четырьмя короликами, кроликами - жалко будет момент упустить кой-кому кое-что кой-куда натянуть... - Только, мне кажется, ресурсов на молодежь нового золотого века маловато? - с сомнением или, скорее, невнятно спросил Андрей. - Не гони лошадей, все увидишь. Я тебя тоже без сюрприза не оставлю и потом.., - хитро посмеиваясь, ответил тот, но вдруг замер, словно вошел в ступор. - Во, как норму набрал, он и выключается: не выше сапога! Выключатель мой! Природу не обманешь, батя. Так что, четыре, максимум пять... Ладно, поезжай вниз, я скоро буду... Надо прийти в себя, а то потом никуда не войдешь... Глава 23 Андрей и поехал вниз, но заглянув по пути на четвертый этаж, к Фортунатовой, которую он тоже кое-чем обрадовал, чуть не получив за это последнюю благодарность, но и чуть не лишив последней надежды на что-то такое, ее несбыточное, которое порой вот так под ногами и валяется, ну, как и она валялась у него, тоже пытаясь по хорошему расстаться с этим миром несправедливости, зависимости от чьего-то желания, от чьих-то возможностей, времени... - Андрюша, я же не прошу меня прямо тут как бы взять и испытать, проверить, ну, хотя бы просто отстраховать, без всяких многолетних предисловий, чему в вашей литературе, конечно, столько книг посвящено, словно они все и были предисловием к этому, к настоящему – вместо него ли, вообще! - умоляла его Фортунатова, забыв на время и о своих секретаршах, которые это пытались сделать без него, хотя и в его штанах, но тоже безуспешно. – Ну, дай лишь мне почувствовать напоследок то, как бы я сама это делала на твоем месте, но со мной, ясно? Ну, с кем еще? Ну.., с кем угодно, конечно, с кем ты хочешь.., хоть с Венерой – тьфу-тьфу, не накаркать бы - хоть с Памелой, хоть.., но как я-то это представлю... без меня, не со мной? Или ты думаешь, что став тобой, ну, с этим.., с твоим, даже знакомым членом, я бы еще кого-то страховала, кроме себя сегодняшней, ну, вот, этой, вот такой, никакой, некрасивой, даже страшной, ну, старой, точнее, на кого давно ни у кого не поднимается настроение.., но у кого тоже есть, понимаешь, есть желание, страшное желание, неутолимое, есть хотя бы просто эта штучка, эта Hole, которую я ни для кого не закрываю, но в которой страшно пусто сегодня? Ты ведь даже не представляешь, что такое пустота в этой маленькой такой?.. Ты просто не знаешь, что в ней было, что вполне могло быть... Но некому, понимаешь? По-настоящему некому меня, ее хотя бы... За деньги? Пошел ты! Я ведь про тебя говорила, сволочь, про бессребреника, ну, по любви как бы... Нет, я бы, конечно, помогла и Ссылкиной с Харбид... Я бы всем помогала, всех бы их подряд страхала, будь я сама!.. Это ж такая мелочь – всех страхать подряд, мне кажется. Какие проблемы? Но вы! Эгоисты! Придумали еще и любовь, желание! Ну, или у вас просто не сто... Хотя стой, ведь стоит и стоит вообще-то похожи – один корень?.. - А что вы тут делаете? – заглянула вдруг в дверь Веневрушка. - Ой, Веневрушка, ты как всегда богатой будешь, присядь сюда... Андрюша, извини, но она же тебя знает, наверно, тоже не первый раз, - сменила тон Фортунатова, засуетившись. - Нет, но я просто тогда ничего не поняла, не успела, даже не думая о ваших, ясно, делах, - вдохновенно ворковала Веневрушка, мигом сев прямо на него, то есть, на внезапно освободившееся место посреди приемной и не собираясь слезать. – Тем более, я не подозревала, что у вас такая вера, оказывается... Я ж думала, что поганые язычники – это которые, ну, поганые... Ну, или почти как у Ссылкиной сейчас... Только болтают этим как бы!.. Нет, не этим, конечно, а микрофоном... С этим у них, язычников, вроде, вполне серьезно, наоборот, они ведь даже пашню этим, ну, как бы удобряли... вместо нас, поганцы... Хотя, почему вместо? Мы чем хуже? Ну, чем, вот, я хуже? Кто ответит?.. Андрей, разве я хуже, чтобы и меня не?.. Я же такой себя пашней сейчас чувствую, что... готова и ферзей стать даже в проходной... - Милая! А я о чем ему тут и пыталась?.. – даже всплакнула Фортунатова, оросив его не окончательное, но все же решение. - Ему? Мне казалось, что он.., – как бы удивленно заметила та, поудобнее пристраиваясь. – Да и зачем нам вообще мужской род... даже в грамматике? Как и у тех – одни hе-hе, буквально хи-хи по-нашему! Он – это ж укороченная Она, She! А их Она - наши Щи! Пришел, увидел, пообедал – тьфу, банальщина! Да еще сто грамм – вся их грамматика! Нет, думаю, и нам надо с ними кончать... Ой, кажется, я уже... А ведь даже не заметила, думала, ты меня на диету усадила, а тут... Так что, батюшка как бы, я тоже не возражаю! - Да уж, заметно! – рассмеялась Фортунатова. - А что у нас Адреналина скажет из Канцелярии?.. - А что, у вас тут есть, что кому сказать? – с любопытством спросила та, проскальзывая в дверь, куда тут же устремился Андрей, рассмешив конкуренток. – Ладно, беги, батюшка, я уже яичницей поужинала и даже приказ по тайной Канцелярии приготовила, то есть, написала, подписала - можешь не переживать! Хотя скоро и завтрак, конечно, но... Потому поспеши, обольститель опять невинных дам... Дам-дам! Забегай!.. Что ты, Веневрушка, про Щи говорила? Ах, ты про She? С Хи-Хи? Не пробовала еще... Попробуем сегодня? Я за! Может, она и другое что-то говорила, но Андрей уже не слышал, торопясь вниз, то есть, в подземелье... На первый этаж подземной части здания он зашел с неохотой. Амфитеатр красных кресел, словно веером расходящихся от трибуны с большим микрофоном, будил слегка в нем туманные воспоминания, полные таких же призрачных надежд, оказавшихся обычными миражами, куда более банальными, чем и сказки о «Светлом будущем»! Да, тогда здесь собирались они, обманувшие надежды миллионов доверившихся, кое-кто и собственные, конечно, но последнее вряд служило оправданием, поскольку то было одним из самых страшных грехов: «Не обмани!» - за который и был изгнан из Рая предшественник, начавший врать напропалую: «То не я, то – она! Ела!»... Сегодня здесь собрались даже меньшие грешники, поскольку зал был полон хранителей саркофагов, обманувших лишь пирамиды доверившихся, некоторых из которых Андрей узнал по признакам недавней битвы, что его обрадовало, особенно то, что некоторых пострадавших дам он частично мог разглядеть теперь, особенно ту, быв-шую до этого самым совершенным саркофагом, а на деле оказавшуюся даже очень симпатичной шатенкой с миндалевидными глазами и припухшими губами, виновник чего неотступно находился при ней и, улыбаясь покусанными губами, приветливо помахал ему рукой, в которой был плотно набитый металлическим звоном пакет... Конечно, раньше ни Андрей, ни его противники, даже враги, кое-кого он тоже заметил в последних, правда, рядах, вряд ли могли предположить, что сегодня тут в первых - будут восседать не орденоносцы, не вольные граждане, а те, на ком как раз и громыхают самые тяжелые и массивные цепи рабов Мамоны, которые они надели на себя вместо якобы освобожденного от них пролетариата. Глядя на них, он впервые понял и смысл предыдущей революции, которая, оказывается, тоже не пролетариат освобождала от цепей, а вот таких же рабов, которые считали их вовсе не ярмом, а своим высшим достижением, достоинством даже, поскольку других у них он разглядеть не мог, кроме, пожалуй, их живых сокровищниц, если те еще не успели превратиться в саркофаги, под которыми интуитивно уже предполагаешь наличие мумии. Может быть, теперь он и согласился бы с некоторыми своими политическими врагами, которые были искренны, хотя тогда, стоя перед ними на трибуне, буквально ощущал себя на раскаленной сковороде их пылающих ненавистью взглядов... Но теперь он словно шел в абсолютной, холодной пустоте Алмазного фонда Империи, по выставке драгоценностей, развешанных на манекенах... То было и не из-за его сана, то есть, рясы. Он просто чувствовал, что или сквозняк перемен не коснулся этих мумий, чьи раскормленные, лоснящиеся лица энергетически, духовно были тощи, словно иссушенные пустыней фрукты, или же то и были суховеи, сквозняки скотобоен, мясных лавок, свалок Истории... Они вряд были обычными «людьми»(Umia, Nu – Шумер), Хомо Сапиенсами, представляя собой некую побочную ветвь эволюции или ее толстый сук, возомнивший себя стволом чуть ли не нового древа, густо усеянного «зеленью». Может, то были некие Homo(Awilu – Аккад) Makkuru («собственность» – Аккад), и берущие начало от «палки» (Makkû – Аккад) Энгельса, которую взяли в лапу, едва слезли с древа, а, может, и от того «бодца», «стимула»(Мakkaru – Аккад; Вaranše – Шумер), которым в Шумере Макар гонял Барашков(Daramaš), Козлов(Durah!)? Но то они самоуверенно считали всех остальных неудачниками, лохами, бездарями, лентяями, не подозревая, что обычные люди просто из отвращения не могут находиться рядом с их корытом, в котором бродит их «дело», обильно производя зеленую, ядовитую плесень, той плесенью и являясь, коей зал был сейчас переполнен, как и дом, хлев ли. Трудно и предположить, откуда, из какой тени их столь много объявилось вдруг в стране мечтателей о космосе, светлых далях коммунизма, о веке научного прогресса, где, в каких щелях, подворотнях прятались до сих пор эти Плохиши самозванца Гайдара, с ним и объявившись вновь на сцене? Проще было допустить, что то были инфильтранты, «серые» инопланетяне, рептилии, их ли уродливые «Аватары»(но не Вишны...), похожие внешне и на нынешних «сестро-братьев», заполонивших дворцы, трибуны, Олимпы Запада, но это уж слишком пессимистично, хотя и польстило бы им, и считающим себя почти небожителями, могущими скупить за свою плесень и земные, и небесные звезды, строящими на свои сатанинские деньги, но чужими руками, якобы божественные храмы, пачкая их купола и алтари бесовским золотом, скупая по дешевке и созвучные душонки, и Красоту, и Муз, и даже Любовь, как им кажется еще с Шумера... В это время по залу пробежала волна шепота, шипения, звона, и Андрей увидел, как к столу президиума из боковой дверки направляются в парадных мундирах три зама, два министра и понурый Тишкин, спикер Думы, на пост которого после возомнившего себя главной Головой – раз Думы – Ножкина и назначили депутата от общества немых, вынужденного оправдывать доверие и своих избирателей. После того, как прибывшие величественно раскланялись и важно уселись за стол, всем стали видны только их коротенькие бюсты: погоны, плечики и стриженные головки, - отчего по залу пробежал легкий смешок. Но те приняли это не на свой счет, ясно, потому что в это время в зал покачиваясь, вразвалочку буквально ввалился Глава в черной рубашке с закатанными рукавами и с пиджаком, переброшенным сентиментально через плечо. Все разом вскочили со своих мест, громко зааплодировали, высоко вскидывая руки. Андрею тоже пришлось встать, чтобы видеть происходящее... Но смешок вновь прокатился по залу, когда президиум опять сел, так как торс Головы значительно возвышался над головками своих замов и министров... - Товар-ищи! - начал тот, забрав микрофон у перзама, который забрал его у спикера и собирался дать ему слово, представить залу, как свою Голову, но только развел руками и сел под жидкие аплодисменты. А Глава, сверкнув взором в сторону хлопающих, продолжал. - Мы тут не в театре собрались - ладошки массировать, а решать судьбы края.., страны и даже Глобуса, которому некогда ждать, когда вы нахлопаетесь руками и прочим! Я обещал вам, что назад дороги нет? Обещал! Что еще я должен пообещать, чтоб не повторяться? Нет, Косилов, не порядка на брюссельских грядках! Им уже Хайнзон наобещал, новый типа Халифат! Не суй шпаргалку - я не на горшке! Хайль-Фат наших фат еще можно, но, главное, топтаться на месте мы не будем, ждать санкций и прокурора, своей очереди к чужому горшку Зигмунда, который не мы, де, обжигали! Вот им! - Вот им!!! - радостно взревел зал, повторив его оптимистичный жест с энтузиазмом первых пятилеток, словно швырнув за спину совковые лопаты, полные руд Магнитки, ну, или Колымы... - Только вперед! - продолжал Голова, внимательно поглядывая на зал. - Пока мы ходить умеем, пока носить мы умеем, мы будем идти вперед, и я дам вам, Дарю столько, сколько и ваши Дарьки, дамы ли на себе не унесли б! А они, потомки несунов великих пятилеток, не то еще могут унести, перенести под фатой! Боевые отряды их передовиц уже воюют в тылу врага, но на передовой, уже много чего там перенесли и к нам занесли, пока мы строимся, перестраиваемся. Сегодня мы засылаем туда последнюю боевую подругу, нашего толерантного как бы товарища, следом за которой уже я поведу вас! И нас есть кому будет встретить радостно у входа! Слава нашим боевым подругам пехоты, нашим боевым леди-десантницам! Хайль-Фат! - Хайль-Фат! Хайль-Фат! Слава БПП!!! Слава БЛД!!!- скандировали мужчины, вскочив с мест и обозначив локоть, но поскольку в руках при этом ничего не оказалось, все вновь повторили тот самый жест, словно плеснули через плечо напитки из воображаемых бокалов, троекратно гаркнув. - Вот им! Вот им! Вот им! - То есть, братья и сестры, хочу сказать, что отныне не только сестры будут все то переносить. Хватит им коней на ходу останавливать, в горящие биржи входить! Перенесли ваш застой, перенесли ваш спад, спид, перенесут и мои трофеи с пуд! И вам хватит с дипломатами шнырять по миру, шпрехать с партнерами на языке ж дипломатов, довольствуясь задними мыслями переводчиков! Вы теперь сами будете перевозчиками, Хер,.. ну, Харонами, нашим боевым отрядом торговли, нашими непобедимыми, всепроходимыми, легкими БОТами! Слава БОТам! Слава нашей ЛиГе БОТов! - Слава БОТам! Слава Лиге БОТов! - уже не так стройно проскандировал зал, не очень дружно и вскочив с мест, из-за чего по рядам сверху вниз прокатилась некая волна, словно ударившись первыми рядами о возвышение перед трибуной, и, поскольку в руках мужчин уже были бокалы, полные шампанского, даже брызги и пена прибойной волны были самыми натуральными, когда вновь раздался уже традиционный клич. - Вот им! Вот им! Вот им!!!.. - Не зря мы начали строить Капитулизм! Сегодня вступаем в его решающую фазу. Наши боевые леди-десантницы уже там! И нести есть чего, да некому, братья! Теперь ваша очередь капитулировать, сдаться, якобы, живьем, повторить путь наших резидентов, Штирлицей-Бомзе! Вперед боевой отряд торговли, БОТы - вперед! Не дадим простаивать Великому силиконовому пути! Кто к ним уйдет с ничем, тот с чем и вернется! Да, братья, непрост, непривычен будет ваш путь среди вражеской роскоши, изобилия, пока те не стали нашими. Но заря мирового Капитулизма на подходе, и вы встретите ее на Западе даже раньше нас, ведь без вас нас тут ждет долгая и трудная ночь в ожидании, пока вы там разожжете мировой пожар Капитулизма, запалите во всех углах подлунной красные огни передовых ларьков, бутиков нашей Капитулистической торговли! Хайль-Фат! - Ура! - уже по старинке и совсем вразброд прокричал зал, так же недружно вскакивая с мест, отчего получилась крупная рябь, но уже с множеством брызг и сплошной пеной, поскольку и задние ряды были с бокалами "Брюта", с некоторым сомнением, правда, восклицая почти официальный государственный клич. – Хайль-Фат?! Вот им! - Может, будут вопросы? - попытался вклиниться озадаченный и Косилов, явно желающий задать первый... - Понимаю, что вас волнует! - перебил его Голова, обращаясь к залу. - Вас в первую очередь будет тревожить то, что происходит за вашей спиной! В тылу! Дома! В домике в деревне. Мы знаем, сколько на ваших ферзей найдется претендентов, и оглянуться не успеете, как у вас за спиной уже один из таких! Но я и то предусмотрел! Вы мне лично доверите ваши отарки, то есть, вашему как бы бесплотному – тьфу-тьфу! - Аватарке, одному и только персонально, оберегать ваших ферзей, все ваши тылы, никого не подпуская к ним без прохождения инициации посредством... традиционного серпа? Вначале серпом,.. а потом проходи, гостем типа будешь... - Доверим! - дружно засмеялись мужчины, но только в зале, язвительно поглядывая на побледневший президиум, добавив даже. - А лучше - серпом и молотом! Надежнее! Вот им! Вот им! Вот им! - Договорились! Проголосуем! Кто за - голосуй! Все - за? А вы, что, господа, оперные замы, министры, хозяева всех своих, ну, бывших органов? - издевался уже Голова над соседями. – То-то! Единогласно! А чтобы у вас не было сомнений в моей, так сказать, сдержанности, с одной стороны, а также в моей состоятельности, с другой, касающейся обеспечения уже ваших собственных тылов, я приглашаю всех вас воочию убедиться и в том и другом. Сейчас мы пройдем к базису нашего Капитулизма, где я, к тому же, обвенчаюсь сразу с четырьмя-пятью ферзями, после которых у вас сомнений во мне не будет никаких, надеюсь! Батюшка, ты где?! За мной!.. Хайль-Фат!.. - Андрюша, я согласна, но ничего пока не понимаю, - с познавательным интересом шептала тому на ухо не известно откуда появившаяся рядом Аделаида, уже увешанная побрякушками... - Адочка, это он и о тебе сказал, назвав четверых-пятерых. Перзама можешь даже не целовать на прощанье, уже бесперспективно, - скрывая стыд, ответил Андрей. – Он – на другом распутье... - А первую ферзю ты знаешь? - спросила та, все же что-то подозревая, просто ли не веря попам. - Не знаю, что ты говоришь, - соврал Андрей, но с намеком, чувствуя себя крайне паскудно, словно отрекался от чего-то. - Но ты, милая, должна сейчас думать о себе, поскольку желающих стать первыми много, а достойных, увы, сама увидишь... - Голубчик, - услышал он другим ухом встревоженный шепот Фортунатовой, - что ж ты раньше не сказал? Я ведь уже сделала это, и Ссылкина тоже... Да, согласилась на моржовый, то есть, мороженный Нектавровский, хотя спасибо теперь как бы преждевременно, я надеюсь, ведь и здесь меня почему-то влечет некая раздвоенность... - А она чей получила? - спросил машинально Андрей, добавив, - И где, кстати, Гог, доктор? - Ей Экупюров уступил после... знакомства с экспериментом Нектаврова, - ответила та, - сразу решил кардинально порвать со всем своим прошлым, вырвать его с корнем. А Гошенька на месте у Веневрочки, она уже пропустила сюда всех друзей и доктора Корнилова. Я попросила его пока не уходить, как ты и сказал, ну, я что-то засомневалась после смены курса... Где я найду такую партию?.. - Думаю, он на этом не остановится, хотя для тебя совершить обратное еще проще, тем более, бесплатно, в русле политики новой партии толерантщиков, хотя я бы подождал, ведь имея курс, менять его легче, - путаясь, успокаивал ее Андрей, выискивая глазами министра внутренних органов, который, естественно, и сам искал его... - Хорошо, тогда я все же попробую еще разок, может, мы с Харбидовой просто торопились,.. - вдруг засуетилась та, и бросилась в толпу, где первой завидела Экупюрова, который тоже с непонятной тоской посмотрел на нее, буквально разрываясь между ними, поскольку нечто более важное, даже слишком долгосрочное его сейчас связывало именно с Андреем... А за тем уже, кроме Аделаиды, на ходу переодевающейся в случайные трофеи той самой битвы, шествовали укрытые плотной фатой Харбидова и Ссылкина, в шикарных платьях, причем последняя рассказывала подруге, что происходит во всех концах длинной процессии, а также понурый Минотравов, высматривающий во все глаза уже отбывшую на конкурс "Булатная Леди" Нектаврову. Далее шли еще более понурые по статусу замы, спикер во главе с перзамом, который, правда, был гордо понурым и вышагивал впереди них, слегка склонив голову набок и не вынимая рук из карманов, что вскоре сделали и те, приняв загадочный вид заговорщиков, словно прятали там библейские плоды. При этом из карманов Чёлкина доносился странный звон. Даже Адреналина Антиоповна ковыляла где-то следом, но сказать ничего не могла - мешали ножки Буша. А толпа гостей была не просто внушительной - это был многоводный поток, устремившийся в недра земли, потворствуя извечной тяге плоти к чему-то более низкому, а, следовательно, более легкому из-за близости к центру земли, если, конечно, с этим не пытаться взлететь, во время чего этот, кажущийся почти невесомым внизу, груз резко тяжелеет, притягивая, приковывая или прихлопывая вас навсегда к земной плоти, конечно, к твердой, коренной ее части, погружая во все жидкое и полужидкое... Впереди всех вразвалку вышагивал Голова в черном, следом за которым, словно хвост мантии, вился шлейф отменного царского первача, бодривший последователей Капитулизма Петровича... Глава 24 Андрей, впервые оказавшись в этом подземелье, даже не подозревая ранее о возможности существования такого, внимательно поглядывал по сторонам, кое-что выспрашивая у Ссылкиной, которая шла сзади него почти впритык, ностальгически трогая пальчиками свое бывшее платье, и охотно делилась наблюдениями свысока... А окружающее вскоре напомнило собой грандиозную панораму некой великой новостройки или наоборот каких-то великих развалин неопределенного возраста, отличить которые можно, конечно, но лишь по косвенных признакам: наличию строительных лесов, кранов, людей с носилками... Кое-где эти признаки были налицо, хотя в основном серо-коричневый ландшафт представлял собой нагромождение местами неидеальных пирамидальных, башневидных конструкций, но, в основном, множества местами выщербленных, непрерывных, переходящих одна в другую, стен, словно здесь свилась в путанные, надломленные, кольца длиннющая змея Великой китайской стены, но в уменьшенной копии. Змеиной кожи асфальта лишь не было нигде, все было либо вымощено брусчаткой из серых копий слитков, либо покрыто щебенкой, песком, либо глазам представали ободранные, искореженные внутренности самой земли, оказавшиеся не по зубам железным монстрам. - ...вход сюда был только там, это ты видел, но выхода-то отсюда нет... Нет, вон там, кажется, что-то такое кажется... Даже голова кружится! - восторженно описывала ему видное только ей одной Ссылкина, на феномен которой, видимо, ваятели этих стен не рассчитывали даже гипотетически. Рассмотрела она и другое, о чем также поделилась шепотом с Андреем. - Ой, а Минотравов-то смылся туда, скрылся среди стен... Да, в тот проем, где, видимо, выход и есть... ...А стены все не кончались и не кончались, сколько бы они ни шли вдоль них, пока из первых рядов не послышался гул удивления, изумления и даже испуга, а вереница идущих начала разворачиваться в одну шеренгу, охватывая собой округлый край бездны, еще как бы одну, но уже незримую, но еще более непреодолимую, Стену пустоты... Взору подходящих к этой «стене» открывался огромнейший, глубочайший карьер, по голубоватому склону которого вниз змеею вилась широкая спираль террасы, по которой сновали вверх-вниз люди с носилками, а на дне, почти, наверно, у центра земли кипела работа, отовсюду шел пар, взлетали осколки от взрывов, хотя все было как в немом кино - оттуда не доносилось ни звука, словно работали некие глушилки… Внизу словно лежала, тяжко вздыхая, огромная рыба, Чудо-Юдо Рыба-Кит, мечущая черную икру… Заметил он там и... Авосина, сновавшего среди работяг с золоченым геологическим молотком, а рядом с ним и давнего знакомого Володю в золоченой каске, из-под которой тот бросал наверх испепеляющие взоры снизу, хотя и тут в привычной роли надсмотрщика, надзирателя... Край бездны был огорожен стеклянной, едва различимой стеной, и в толпе, суетящейся у нее, бьющейся в нее, словно мухи, некоторые мужчины даже начали играть со своими спутницами, нечаянно как бы сталкивая их в пропасть, хотя, может, и не поэтому, судя по их лицам... Парочку таких жертв шуток даже пришлось отнести в сторону - сердца их не выдержали, а, может, не выдержали сами тела груза обрушившегося вместе с ними металла... Прибывших было так много, что около трети окружности края бездны они объяли собой... - Братья! - громко обратился ко всем через непременный и здесь микрофон Голова, взойдя на небольшую трибуну в виде пирамиды, - взгляните вниз! Что вы видите в носилках, поступающих снизу со скоростью примерно одна в час? Не кажется ли вам, что они чересчур полны и слишком ярко сверкают для обычной породы?! - О! - прокатилось по всей шеренге, с восторгом прозревшей, хотя поначалу с аппетитом принявшей содержимое носилок за крупную черную игру. - Это же алмазы!!! Это алмазы?! Брюлики! - Да, братья! Это бриллианты нашего, но Копитулизма, начавшегося еще – поп не даст соврать – именно с копей царя Соломона! С их помощью вы завоюете, ну, скупите весь мир, на который тут их с лихвой хватит! - кричал почти в исступлении Голова. - С этим нам не страшны будут никакие ледниковые периоды, никакие термоядерные и кометные катастрофы, никакие желтые и зеленые миллиарды. Вы у меня будете покупателями, скупщиками, боевым отрядом скупщиков - БОСами! Вы будете скупать мир за эти алмазы, а наши боевые леди-десантницы, БЛД вновь отвоевывать и переносить эти алмазы обратно домой. И вскоре весь мир будет буквально меж ваших, то есть, у наших ног!.. Вы верите мне после этого, БОСы?! - Вот им! Вот им!!! Мы - БОСы! Мы - БОСы, БОСы, БОСы!!! - уже по-солдатски, вызывая многократно эхо, кричала толпа боевых торговцев, ощериваясь уже боевым жестом, ставшим теперь похожим и на пионерский салют, но только с зажатым кулаком и при соучастии в этом второй руки, хлопающей громко по согнутому, но несгибаемому, каменному локтю. В сплошном, повальном воодушевлении они даже не замечали, как их слабые половины, с трудом передвигаясь, сосредоточивались ближе к трибуне Головы, не сводя глаз с него и со стоящего невдалеке Андрея, словно бы с двух черных королей, вокруг которых теперь почти не смолкал легкий звон злата. Даже Экупюров и тот нацепил на себя золотые трофеи, сняв, правда, по совету Андрея все свои камуфляжные ордена и медали с просторного венчального наряда, сделанного специально под его фигуру почти с платья Харбидовой. И только... ее Андрей пока не видел. Ее нигде не было... - Братья! - продолжал далее разглагольствовать Голова, войдя в раж, - вспомните, с чего началось и наше настоящее царствование! С Золотой Орды, с помощью лавины которой мы спалили всех наших политических противников и взяли власть и все золото в свои руки! Так вот, братья, пришло время Алмазной Орды, за спинами лавины которой мы возьмем власть во всем мире, а, благодаря успехам наших космотехников, космотологов и космотичек и во всей галактической окраине! Да, вас не тьмы и тьмы, но у вас с собой будет тьма в карманах и в поясах. Но главным средством их переноса вас наградила природа! Или кто из вас будет против нести вместо двух простых... два, а то и три алмазных? Это вам не сказки о Курочке Рябе, это быль об алмазных яйцах Копитулизма! Та мощна минует любую таможню! Вот, гляньте, разве кто из бывших мошенников откажется от такого? С этим словами он воздел над головой руку, в которой сверкал гранями огромный, округлый, черный и уже бриллиант, размером с куриное яйцо, отблески которого засветились жадным блеском в сотнях глаз еще пока что мужской половины присутствующих, молча, как и спикер, поскольку их рты были раскрыты от изумления, ощерившихся салютом пионеров Копитулизма. - Это Bort - черный алмаз! Один тут, ну,.. Маркс,.. тьфу, маркшейдер – О’Кей, Гугл – нашел, нарыл! Хоть какая-то польза от науки все ж есть – не зря ее содержали, на груди пригрели, течку мозгов ей перекрыли и Стечкиным, ну, твариативностью – нестись даже стала под нашей опекой, и вы видите – чем! С помощью таких мы пробьем бреши в любых стенах, разрушим любые преграды на нашем пути, проломим борта их авианосцев, крейсеров! Вот, так!.. - крикнув это, он достал из кармана рогатку, вложил в нее бриллиант и под изумленный вздох толпы выстрелил им в одну из отдельно стоящих стенок, которая оказалась тоже стеклянной, разрисованной под кирпичную. Стена осыпалась со звоном, открыв взору присутствующих небольшую часовенку, рядом с которой на возвышении стоял массивный трон, к центральному, самому высокому стулу которого с боков были приставлены еще четыре поменьше, с мягкими сиденьями и одна табуретка. Последняя была совсем низкой, и всем посвященным стало понятно - кому он предназначался, отчего даже фата Ссылкиной покрылась легким румянцем. - А теперь, братья, приступим ко второй части нашего плана... Поп, кивни-ка, мог ли быть Соломон без этой, ну, царицы Совковой?.. Вот! В этой часовенке я и повенчаюсь посредством и с благословенья отца связного с моими четырьмя-пятью ферзями, и с моим новым титулом... Да-да, родные, принимая на себя опеку над вашими дамами сердца, я уже не могу оставаться вам братом, поскольку, сами знаете, что где за вас остался брат, там разбой или разврат! Ха-ха! Но у вас там, на нашей передовой и в их тылу, не должно быть ни капли сомнения во мне. Поэтому я вынужден обвенчаться и с титулом вашего родного, раз вы были мне братья, Отца. Возлагаете ли вы на меня эту ношу, этот груз, это ярмо? - А как же Татьяна?! Кто разрешил?! Кто дал ей самой лицензию?! Это нарушение конституции и нашего закона Общака! Она же не даст разрешения? Это узурпация генофонда! Да здравствует многоголовковая, но одноферзевая демократия! Да здравствует система включателя и выключателя, система весов и засовов! Свобода и равенство всем членам! Не допустим кастрации органов! Долой монополию воспроизводства! Виват, Реж-бублика! Смерть тир-ану! - запротестовали вдруг три зама во главе с первым, кое-что выкрикивая, правда, почти шепотом, но активно пробираясь к микрофону со спрятанными в карманах кулаками или чем-то таким удлиненным... - И ты, Бруттов, продаешь меня? Три Иуды не многовато ли на одни Кресты? - насмешливо процедил Голова, показав тем из-под края рубашки бронежилет и вновь обратившись ко всем. - Братья, ожидаемые ли с минуты на минуту сыны мои! Три наших собрата усомнились! Им, видите ли, подавай свободу их внешних и внутренних органов в вашем тылу, в ваше отсутствие, на передовой ваших дам! Мы не допустим! Иоанн уже садил таких на одно опричное место! И мы посадим! Но я согласен с некоторыми их возражениями. Они де говорят, что Татьяна не даст разрешения, что наш главный разрешительный орган не выдаст мне лицензию на воспроизводство нашего... производства! Но кто, скажите сами, стоит сейчас у входа в часовню, готовясь стать первой из четырех-пяти - пока не знаю точно - ферзей? Не сама ль Татьяна разрешительница из Лице-нзионной палаты? - Андрей, ты знаешь ее? - подозрительно спросила Аделаида, больно ущипнув сквозь облачение, из-за чего он прослушал восторженный вздох удивления, пронесшийся над всей толпой, устремившей взгляды на стоявшую в белом венчальном наряде и фате около большого деревянного креста Татьяну. - И с чего это она - первая? - Нет, не знаю, - упрямо отверг, словно опять отрекся Андрей, с трудом сдерживая свою радость и тревогу. - А остальное все зависит только от тебя. Ты что, считать не умеешь до двух? - Умею, - с сомнением произнесла та, несколько раз загнув и разогнув пальчики своей ладошки. - Странно, получается, что одна - первая, а все остальные - четвертые или даже пятые? - Получается, что пять, а то и шесть - избыток, потому что это дебют четырех ферзей, как следует и из приказа, ну, плюс-минус одна погрешность на новые веяния! - рассудительно и даже заботливо заметил Андрей. - При этом у двух первых очень похожие фигуры, почему двух первых и не должно быть! Ты поняла, что мы должны с тобой сделать, чтобы план Петровича и твой не сорвался?.. - Кажется, начинаю, - печально вздохнув, смиренно ответила Аделаида, - хотя из-за тебя все забыла... Я же подумала, что ты ей как раз помогаешь, а не... Петровичу как бы... Прости, конечно, хотя мне, если честно, не очень и... Но ты сам еще пожалеешь об этом!.. - Эй, поп, где ты там?! - перебил их нетерпеливый крик Головы, направляющегося к часовенке. - Пора приступать к дево-производству, ну, или как там у Веневрушки!.. Глава 25. Андрей же увлек за собой побольше дам, окруживших его почти сплошной стеной, ободряюще подмигивая и Экупюрову, чья фата прямо вздымалась от учащенного дыхания, проигнорировав только не отстающую от него Фроську, которая уже выплеснула всю плесень из банки, так и разинувшей пасть явно в предвкушении икры, а также ее приунывшую спутницу с пустой вазой, но с еще большей пастью... Подойдя к часовенке с трудом из-за насованного в карманы золота потенциальных невест, многие из которых просто избавлялись от лишнего веса, он поставил всех настоящих в одну группу, солидно разбавив ее саркофагами, окружив их плотной стеной огромный крест, и подошел к Татьяне, которая по-прежнему безучастно стояла, облокотившись на него, не подняв головы и при его приближении. - Любимая, что с тобой? - шепотом говорил он. - Я спасу тебя. Я все сделаю, поверь. Ты не узнаешь меня? Что они с тобой сделали?.. Но она не ответила, словно не слышала его, а только крепче ухватилась за древко креста, будто боялась упасть куда-то. Он даже заметил, как побелели ее пальцы от напряжения, а на ладонях словно проступили маленькие алые пятна. Он понимал, что решение, ею принятое, было для нее почти равносильно смерти, отчего она и пребывала сейчас словно в коме... Или, может быть, она боялась, что сказав и одно слово, она уже не сможет сдержаться, но он на это даже боялся рассчитывать, потому что и самому ему было невыносимо продолжать этот спектакль, собственная роль в котором ему была не просто противна... Но он понимал, что должен сыграть ее до конца, хотя и боялся думать о финале этой возможной трагикомедии... Поправив на ней фату дрожащими пальцами, он подошел к вратам часовенки, где уже скрылся Голова, и обратился к толпе: - Братья и сестры, для венчания нам нужны три свидетеля, да, в нашем случае три - не меньше, ибо они будут свидетельствовать перед вами - не перед богом, кому двух хватало. По статусу они уже избраны законом прошлым. Да, это они! - вещал он, указывая рукой на троицу замов. - Но готовы ли вы, братья, пройти обряд посвящения, инициации и по новому закону, чтобы быть допущенными в святая святых отцовской опочивальни?! Подойдите, исповедуйтесь тогда... Трое, хмуро поглядывая по сторонам, на толкающих их в бока собратьев, подошли к нему и покорно склонили головы. - Батя, а шанс стать ферзей это дает, ну, инициация как бы? - шепотом начал врать Чёлкин, первым подошедший на исповедь. - Можешь не отвечать, а только кивай. А это не больно? Ладно... Если честно, батя, я и того любил больше, чем друга, но он отверг меня в том, почему я и отомстил ему и им, лицемерам, но умывшим, однако, руки. Я и побудил их принять обет безбрачия, типа Римский клуб и прочее. Нет, сам я не сделал то, а так бы давно уже в операх работал, а не наоборот. Но цель моя была в другом... Я, знаешь ли, из простых, из кариозных, потому что сам прогрызался, вот, и терпеть не мог сынков попов, царьков, лавочников. Везде молодым сынам почетных стариков дорога! Сам посуди: фараоны Рамсесы, принцы Гаутама, Гамлет, царь иудейский Христос, потомок Давида! Даже туда! Разве Он поймет простого человека, который грешил, потому что честно не проживешь, не украдешь - не поешь? Тот, видишь ли, исцелил слепого и рад, а что тому потом делать, если только на подаяния и жил? Притворяться опять слепым? Я тоже хотел меценатом стать, подавать нищим, проституткам, чтоб не грешили от голода... А что подашь, если сам не имеешь? Вот и подумал, раз того все равно, ну, раз пнут, то хоть какая-то польза людям на земле останется, хоть не задаром им его отдать! Ну, и разве это грех - хоть какую справедливость соблюсти, хоть на земле, раз ее не добиться никогда там, где лишь они, избранные, да сынки их собрались, как и тут ныне, что и сам видишь?.. - Ладно, отрок, я понимаю ваши терзания, разделяю ваши сомнения, почему и говорю тебе, как самому известному проводнику на вершину славы, на крест ли, то, что ты передашь им, привычно предав, - шепотом как бы отпускал тому грехи Андрей. - Войдешь и воскликнешь: "О скопить нельзя холостить!" Запятую сам поставь, где надумаешь... Но в любом случае безгрешным потом станешь, ибо не первородный у тебя тот грех – от уродства общества! - Ей богу, ведь это ж прямо и есть суд Соломона! - восхищенно прошептал тот, торопливо направляясь в часовню. - Батя, я тебе мало разве дал кирпичиков познания, разве ты позволишь надругаться надо мной, не дать мне выполнить жизненное предназначение, ради которого я уже заколебался реинкарнироваться, причем не в нормальной обстановке, а обязательно во время смут, крутых поворотов линии партий, перестроек? Дай мне хоть одну возможность пожить нормально? - шепотом настаивал Бруттов, плохо осознавая плачевность своей ситуации. - Они ведь, пока шла подпольная война в пиццериях, на кухнях, оттягивались в Галлиях, Цюрихах, Форосах, а как у нас все на мази, так вот они: «веди, вини...», и разом вице! А нас опять на политическую кухню: умные, мол, Брут, все переврут. Но разве я виноват, что у нас от горя лишь умнеешь, отчего опять лишь печали много? Протрезвел, прозрел раз и раз тирана правой под сердце - проголосовал, а потом снова протрезвел... и где я? Даже похмелиться не на что, потому что на это сопьешься! Собрал все золото края, а тут время опять собирать, но алмазы! Не разбрасывать! Были несунами, и опять время нести? Суета суёт суете! А тогда с одним рублем был счастлив, была всегда перспектива! Нет, и при инфляции неплохо было! Швырнешь миллион без сдачи: "Эй, залетные! Куда же вы?" Но, зато, свобода! А сейчас? Ехал раз на трамвае, ну, на персональном, дал червонец, а она мне - сдачи, как нищему! Это она, мол, как представитель государства! Я говорю, милая, трахал я твое государство! А она: извините, но это, мол, в стоимость билета не входит! Прости, запутался вконец... Оглянулся я просто на дела, которые делали руки мои, делая их: и, вот, все суета и томление духа, противны стали мне дела, которые делаются под солнцем! Все! Хочу стать ночной бабочкой, уговорил, трехцветноречивый! Опусти... - Хорошо, собрут.., и отпускаю все будущие, как не твои, - успокаивал его Андрей. - Но раз справа устал, с левой уже поздно, то войди и крикни: "Левое долой правое!" А потом, когда прозреешь, и с Головой сделай то, что сделают там с твоей, но чужими, наконец-то, руками – не твоими! А когда протрезвеешь, то не станешь больше ничего сам делать, хотя все время при деле будешь... - Нет, батя, хотел бы я еще кардинальнее! Хотел бы я, наконец, все наоборот сделать, и долг вернуть, и стать чтоб вне подозрений, как жена того, - задумчиво произнес тот. - Ну, тогда после всего крикни: "Долой единство, да здравствует противоположность!" - посоветовал ему Андрей... - Отец, что за дела? Мне она сказала, что ты в доску свой, заморочек не будет, а что получается, - забурчал недовольно Косилов, так и не вынув рук из карманов, но вдруг переменил тему. - Ты только не уговаривай меня на это, потому что не люблю советов, сам пророком Барахолки считался, но на западе, где лишь считать и умеют. У нас почему-то их считают, но пороком. К тому же, своим прогнозам привык верить по должности... У нас, да, руки по локоть в крови, генофонд нации подорван, у кого и оторван, но зато теперь будет постоянно профицит, раз расходные статьи мы напрочь исключили из Кодекса. Видишь, даже думая о том, я говорю только о родине? А ты, батя, когда говоришь о боге, о чем думаешь? То-то! О ней! И кто, скажи, ему первым заменит ее? На то и Перзам! Она-то на это ему вряд даст лицензию, раз естественные дела у нас пока не лицензируются? Пока, кстати... Да-а... А это ведь Клондайк? Черт, почему я раньше это не ввел, ну, типа гос-калыма, будто солидарностью к ним страдал какой-то? А тут-то, выключая свет, они в тень не уйдут. Только свет выключил - плати-ка, приятель, за тьму налог! Ученье ж – свет? А не выключат - мы их тарифчиком! Слушай, а что если я к тебе на исповедь почаще ходить начну? Мысли, понимаешь, всякие приходят, государственные сплошь... Ты же понял, к чему я? Они ж тогда сами и без алмазов отсюда побегут! Сколько сэкономим? Сорокалетку Мойши-Маргарет мы за три года выполним и перевыполним – половина точно сбежит! Зачем нам это? Так, чтобы подорвать их основы, надо не баб, голодных конформисток туда, а мужиков наших засылать, но они ни в какую, их здешняя халява устраивает. А как сбегут, там сразу начнутся перекуры, дни веселья - дни похмелья, в конце месяца авралы-отчеты, дефициты бюджетов станут дефицитами товаров, зелень - нашим сухим деревом теории, евро - стервами, а их бумажный идеализм – нашим буквальным материализмом. Налево ходить будет не с чем – лишь в политике! Через три года изберут женсоветы, а со следующей пятилетки начнут строить развивающийся социализм, хоть и со своим мурлом, и окажутся в передовых рядах развивающихся стран, где наши спецы уже поработали. Что такое пермоментный Капитулизм Петровича? Лишь начать! Не зря ж мы им братков бывших сплавили даром и продолжаем? Фауста-то нет, крикнуть некому: "Остановись, мгновенье!". И чем то закончится? Их мужики побегут сюда, где налог лишь с того, натурального дела, а им уже не до того. И побегут уже с бабками, но без баб, ясно! А братья встретят их у входа, в орало меч перекуют! Ну, это как мы планировали, Юра еще, царство ему... Одна проблема – он с Копитулизмом его! Ему тот налог, как шило в заднице при его размахе – не подпишет... - Так, я и говорю, отрок, что отец у нас один, и на землю он только сына посылал и, кстати, божью матерь, но из местных,- подчеркнул Андрей, возведя глаза к незримому небу, - почему я тоже в сомнениях... Господь простит мне, если я благословлю и восемь ферзей, но вот отца и одного вряд ли. Поэтому я даже удивился, когда словно сам Господь доктора Корнилова в часовню послал... - Вот почему твои восемь дам и королей как бы проиграли его шестеркам, хотя козырную-то ты и не выбросил, замылил? Поздновато, конечно, я понял все, до конца, - хитро прищурился тот и достал мельком руки из карманов, показав то, за что держался. - Я ж говорил, что ты - шулер, ну, то есть, настоящий поп? Тогда еще я догадался, хотя и поторопился сделать выводы, но... На кой фиг тот налог я сам бы платил, сбегал ли из малины?.. Все, я побежал! Но ее ты, правда, лучше забери отсюда - не люблю шибко умных... Ха! Мужиков-то больше умных и не осталось после меня! Но тут одна голова, без любых вспомогательных, лучше – это ж исполнительная власть! Пока!.. - Подойди, сестра Аделаида! - позвал после того Андрей. - Мне исповедоваться не в чем, кроме работы... А с тобой, как с лицом святым, это и не грех как бы.., - зашептала та ему на ухо. – Я, увы, все делаю по плану Петровича, но ты ведь все делаешь ради... - В церковь направлять невест будешь ты, - перебив ее, зашептал и Андрей, - можешь сама войти дважды: первой и второй, третьей и.., ну, чтобы твоя конкурентка туда не попала... Я не узнаю ее!.. - Я же говорила, что ты знал ее! - злорадно зашептала та. - Не так выразился, - оправдывался Андрей. - Не знал, почему и не узнаю, словно она под воздействием опиума для народа... Сказав это, он вошел во врата вполне просторной часовенки, откуда уже доносились вопли двоих вновь посвященных... Толпа замерла в ожидании третьего голоса, надеясь, что он станет самым высоким из предыдущих, и не ошиблась в ожиданиях, заслышав знакомые ей выражения на последних из известных ей нот "ля-сы". Трио получилось превосходным, хотя знатоки вполне могли определить, что это был уже и настоящий, но высочайший квартет... Друзья, загримированные под власть, поджидали его во главе с Леоном, одетым в черное и как две капли воды похожим на нового царя, также с нетерпением посматривающего на дверь, в которой одна за другой вскоре должны были появиться его невесты... - Слушай, чем ты так обидел Венеру Минасскую? - недовольно, даже ревниво зашептал ему Гог в костюме Брута. - Она больше знать тебя ни разу не хочет и даже отказалась идти сюда, в грот... - Больше пяти мест я у него не смог выпросить, - оправдывался, точнее, врал Андрей, чтобы не сбить и их с толку. - А кто будет считать? - с усмешкой спросил Вилли, одетый под Кесаря и даже чем-то похожий на него, как-то так же искоса и подозрительно, как бы понимающе поглядывая на Андрея. - К тому же, есть ли какая разница вообще, если и демократы на такой, вот, подлог пошли, не моргнув даже глазом? Или вы – и гендерократы? - Ничего, Вилли, проморгаюсь, - сдерживаясь, отвечал Андрей. - И вам бы стоило принять это как спектакль и смотреть на меня, как на попа, а не... Хотя насчет кратов ты прав, однако... - Извини, Эндрю, но и я просто не люблю этих лицемеров, фарисеев, - краснея, оправдывался Теодей, играя оставшуюся роль. - К тому же я по роли должен так смотреть, так что не смотри на меня... - Если ты думаешь, что я тебе спасибо от имени труппы скажу за театр, за то, что ты насмеялся надо мной, заставив играть то, что я.., - даже побелев от злости, прошипел ему Леон, - то... не надейся! Я - режиссер, а не актеришка какой в чужом балагане! - Можешь отказаться, - спокойно ответил Андрей, пожав плечами, хотя скрыл этим жестом ту боль, которая сдавила ему грудь, - я главного уже достиг, насколько ты мог понять... - Да-да, как всегда демократы: за счет голосующего народа, искусства, голой же истины, - язвительно процедил Леон, отворачиваясь. – Тоже мне, режиссер, кукловод нашелся, манипулятор... - Доктор? – громко перебил Андрей, чтоб выдавить из горла противный комок обиды, - главный герой готов к венчанию?! - Да, ваше преосвященство, невинен! - важно ответил глуховатый доктор, умывая руки. - Извините, я в крови, можно сказать, праведника. Сего, вот, посмотрите... Какая красавица! Последнее он гордо сказал, ткнув пальцем в сторону Бруттова, отчего тот выжидающе захихикал и что-то сказал, но на слишком высоких нотах, пока трудно воспринимаемых немузыкальным слухом, но пробуя уже и другие регистры... нового «органа», внутреннего... - Может, сбудется моя мечта, - воскликнул Теодей, словно боясь сглазить, - откроем у нас театр оперы и балета, хотя бы оперетты на худой конец, на четыре даже? Тангейзера поставим.., тут как раз четыре пажа, ну, или пастуха с сопрано... - Но назовем «Грот Венеры», - подхватил Гог, - безопасней! Был уже опыт в Новой Сибири – зачем повторять? - Какого еще опера, с каким билетом? С Купюрой, что ли? - пискнула Бруттова. - Все шутим и шутим? Нашли опера с пером... - Нет! - запротестовал Леон. – Это я - не вам, даже не Тангейзеру, а святоше! Я сам обвенчаюсь, хоть и с этими... певичками... - Начнем, - выдохнул Андрей и подошел к алтарю. - Госпо... жи свидетели, можете встать? Нет пока? Хорошо, будете свидетельствовать лежа, этого в регламенте нет... Прошу ввести невесту! Первой, естественно, вошла, точнее, вихрем ворвалась Харбидова, поскольку у ее подруги неизбежно возникли проблемы с низким косяком, и рабочим пришлось разбирать его, снимая перемычку, балку между дверью и расположенным выше нее стрельчатым окном. За это время Андрей успел повенчать Харбидову с Леоном, от которой услышал только счастливое "да", а от того - лишь сдавленный ее мощными объятиями писк, поскольку он при этом уже осматривал с испугом следующую невесту, высоко задрав голову, словно бы пытался вынырнуть из водоворота законного поцелуя первой. - Святой отец, а вас я должна целовать? - смущенно спросила счастливая невеста, но не огорчилась ответом, компенсировав его еще одним поцелуем своего едва отошедшего от первого супруга. Со Ссылкиной, конечно, не обошлось без некоторых проблем. Во-первых, для их первого поцелуя пришлось искать вначале лестницу, хотя невеста, точнее, уже супруга сама нашла выход из положения, подняв жениха к себе на вершину счастья. Но, во-вторых, сделать последнее ей оказалось не так-то просто, поскольку жених, то есть, уже дважды супруг попутно за что-то зацепился, что потом, правда, стало и опорой ему при совершении первого поцелуя, и освободило его от слишком затянувшихся объятий Ссылкиной, еще не пришедшей в согласование со своими новыми возможностями... - Святой отец, может, он меня должен поцеловать? Исправить? Или без разницы? - вдруг опомнилась супруга, вернувшись с полпути. - Голубушка, теперь это, конечно, без разницы, но потом вы все же исправьте это раза три... для порядка, - посоветовал ей Андрей. - А тебе так это платье идет! - игриво прошептала та ему. - Как я, наверно, в нем классно смотрелась!.. Третьим, точнее, третьей в часовенку уже вошла Экупюрова, которая сама спешила побыстрее завершить формальности, почти набегу, даже не сняв фаты, чмокнув жениха, из-за чего, видно, взгляд того стал еще тоскливее, ну, или загадочней. - Ничего, мученье - это, разве что, в бою! - заметив то, торжественно пообещала ему Экупюрова довольно сносным контральто, еще более вдохновив Теодея, загнувшего еще один палец. Леон же от нетерпения чуть было грим не стер с нижней половины лица, но вовремя остановился, заметив, как в часовню величественно вошла Аделаида, которую и сам Андрей едва не спутал с Татьяной, даже похолодев слегка. Но более всего его удивило то, что и голоса их различить было почти невозможно, так как ее голосок настолько трепетно дрожал от волнения, что он только сейчас и понял ее, бедняжку, которая вовсе не той любви искала, как он считал прежде... Может быть, только сейчас он и себя понял или то, что понял это с опозданием, почему с невероятной тоской смотрел и в сторону двери, хотя и знал уже, что за нею - пустота... - Святой... отец, а вы искренно меня спрашиваете, согласна ли я выйти на веки вечные замуж, стать женой, постоянной и самой верной спутницей всей до гроба жизни и даже умереть в один миг с моим первым, единственным и неповторимым по сравнению... ни с кем мужем, супругом, спутником, отцом моих многочисленных детей и дедушкой моих внуков, прадедушкой наших правнуков и так далее, которому я с этого момента всегда буду говорить только да? - спросила она Андрея, сверкнув ему последний раз под фатой своим взглядом, который теперь уже не сводила со своего.., как она выше и сказала. - Да, раба божья, лучше вас на это и нельзя ответить, - скрыв некую печаль, согласился Андрей, и с легким сердцем разрешил им их первый поцелуй из целой чреды..., хотя ему было ужасно некогда... Тот единственный, чтобы уже не спугнуть счастливое мгновенье, поднимал ее фату с закрытыми от ожидания глазами и сам впился в ее сладкие, податливые губы, даже изумив Аделаиду, которая была теперь на седьмом небе, хотя собиралась сперва хотя бы на шестое. - Так, А-дочка моя, во-первых, я желаю тебе от чистого сердца счастья, хотя и жалею, конечно, ты даже не поверишь, как, но, во-вторых, милая, пусть Фортунатова проводит Татьяну к выходу, ну, чтобы переодеться с ней и побыстрее вернуться... Она все поймет, - шепотом объяснил ей Андрей, провожая к вратам рая. Потом, облегченно вздохнув, воскликнул. - Ну, все! - Как?! - донесся из-за алтаря писклявый голос Дарьи Фетровой. - Я насчитал пять невест! Можешь всех заводить, у нас опять демократия, плюрализм и мне плевать, сколько их у меня... не будет! - Хватит! - раздался еще чей-то писклявый голос, но узнать его пока было трудно. – Мы же еще тут, никак... Уже, то есть, тут... - Да, хватит. Леон, можешь сам довести первое действие до финала, можешь уступить это уже настоящему, точнее, настоящей Голове, - сказал Андрей, вернувшись к алтарю и не глядя ему в глаза. - Мне все равно! Я рад хотя бы тому, что мы, наконец-то, согласовали род имен существительного, прилагательного и глагола, - разглагольствовал тот, свысока, а-то и с жалостью поглядывая на Андрея. - Смешно было слышать: наш мудрый Голова сказал – как и, например: наша честная губернатор дала Маху по губе!.. Как по какой?.. Ах, да... Как наши прототипы думают? - Существующая братва тоже не противоречит теперь по роду, - с потерянным взором отвечала Голова, жеманно поеживаясь и бросая на Леона любопытные, даже интригующие взоры, - деятельности. Так вот, братва, мне уже до фени, поскольку Алмазной орды все равно не получится... Без хана ей – хана, хотя орда тоже ведь, как и толпа... - Ты не прав, ну, не права, - успокаивал его Андрей. - Надеюсь, наша церковь разрешит рано или поздно и клонирование, когда это правильно назовут, хотя бы клоунированием, клунированием, а лучше честно - Кланированием, о чем ты и мечтал... а-а. У тебя хватит клеток для более гуманного распространения уже чистых как бы идей или хотя бы помыслов по миру, даже по почте, кстати. Такая платоническая любовь гораздо сильнее и продуктивнее такой, вот... - А ты откуда знаешь? - недоверчиво спросил тот, сверкнув искорками надежды в глазах. – Ты же – не католик, ну, не либорал? - А ему только такая и осталась теперь, - с сочувственной усмешкой ответил за того Леон, добавив вполне серьезно. - Но прав он потому, что именно эта любовь - главная для Творцов, всю свою жизнь влюбленных в Муз, кому даже пальчик не смеют поцеловать, и не изменяя при том... Та любовь сжигает настоящего мужчину, а вместе с этой он творит, сам горит вечно! К тому же, скопить, скопировать, скопить – у нас почти одно и то же! Поэтому, батюшка, и тебе я тоже не очень сочувствую, а, может, и завидую чуть, хотя... - Спасибо, Леон, - признательно ответил ему тем же Андрей, не зная: плакать или смеяться. - Так, а ты... согласен, ну, на-на?.. - На-на? Ты даже настоящего имени моего не знал, расстрига, - усмехнулся Голова. - А, может, это и лучше... Ты и узнаешь меня сразу Дарьей Фетровой, которой я стану обязательно, потому что не смогу быть "ни то ни се, ни вашим – ни нашим"! Да, я, Дарькин муж, плебейская фетровая шляпа, по кличке Фетр, претендовал на алмазную корону мира, хотел стать отцом нового человечества, а не только одним из новых, но опять пустых совков! И у меня есть, было все для этого, я устранил последние препятствия с пути, всех подельников уговорив добровольно отдать мне не только трон почти державы, но и ее ложе со всеми своими вешалками, с которых мой театр нач... ался бы! И вдруг ты лишил меня обманом какой-то мелочи, винтика, пары болтиков, без которых мой колосс не может двинуться с места, никогда не поднимется на вершину, даже на горушку, потому что у него не только ноги теперь глиняные, но и!.. Сколько сейчас времени? Полшестого? Вот-вот, моя вечность умерла именно полшестого!.. - Да нет, это просто у меня часы... вдруг... Стрелки сами упали, - сказал, похихикивая вначале, Чёлкин, потряхивая часами, а потом прослезился. - Даже стрелки упали! Но ты права, Даша, зачем они нам вообще? А ведь хотел быть двенадцатым, а не тринадцатым... - Не дрейфь, Джудит! - бодро воскликнула Голова, хлопнув ту по тощему тылу. - Просто, действительно, надо науке больше внимания уделять... И ученым, конечно, ты права, Бруттая-Кури, ведь сейчас столько бедных академиков без степеней даже! Надо хотя бы каждому академику дать возможность окончить аспирантуру, защитить кандидатскую... Хотя, нет, лучше сразу начать с членов-, ну, просто с корреспондентов, даже корреспонденток, раз и по почте можно... - Ты, что, по переписке с ними будешь перепихи?.. - пожала было плечиками Бруттая. – Ну, академики ведь - уже действительные члены, зачем им кандидатами становиться? Куда кандидатами? В члены? Хи-хи! Блин, совсем забыл, я же теперь и сам кандидатом в члены стал.., ну, ла-ла! Чик - и стал за раз, а сколько собирался... - Можно сразу в доктора, - сделала знающий вид еще полу-Фетрова. - Хотя, таких докторов, как наш Корнилов, еще поискать надо. Тебя я первым и сделаю членом-корреспондентом... после углубленного изучения моей... темы... Как ты, поп, говоришь: Кланирование? Попробуем, док? Гены-то мои целы, надеюсь? - Увы, гены, крокодилы, корни даются богом – вздохнул с надеждой док, - мы, медики, лишь извлекаем как бы... - Тем более! Теперь и перед братвой я выполню на все сто свои благие обещания, впервые не соврав. Ты меня не только холостой мадемуазелью, кстати, но и честной сделал, расстрига! Двойной удар! Разве я так смогу вновь победить? - сокрушался тот вновь, но окрыляясь случайной мыслью. – Ну, если не стану.., допустим, во главе Новых Амазонок - из наших скифских степей, кстати? Помните: "Да, амазонки, скифки мы, да, с косами, с раскосыми глазами"? Надо будет лишь одну силиконовую сделать, даже ничего не отрезая. А что, учитывая рост нашей численности, продолжительность жизни, материнский капитал... Тех опять зашлю, тех оставлю, но уже без подозрений, на полном доверии, хотя у всех есть реальные шансы, как показал опыт Нектавровой... Нет, ничего больше не скажу... Главное, что с Копитулизмом все опять О’кей, даже более того! - Скопитулизмом? - переспросил Леон, уточнил ли. - Ага, скопи – тут национализируют, там аннексируют, если не капитулируешь, не покажешь силу Анов! Не анусов же. Улюлюкай потом, эль вирай, медовуху ли в пабах, – вздохнула Дарья. - Но есть и плюсы: мы ж – опять холостые! Велик наш язык! И тебе некому всадить нож в спину! Ты ж не ударишь в спину... лежащую на спине? - Я счастлива, Даша! Всю жизнь любил тебя, завидовал Тату, а теперь сама могу любить публично! Судьба сняла с меня и кровавый обет, и я буду тебе самой верной подпругой и буду, наконец, вне подозрений, как Помпея! - обливаясь слезами, ворковала Бруттая. - И Помпея должна бы, но развелся Юлий с ней за это «бы»! Нет вернее подруги, чем я! Кто хотя бы того возвел по дружбе на престол новой веры? Я! Тому шепнула, у того взяла, тому дала, ну, тогда еще взял - и пожалуйста! Тридцать три монеты и - в дамках! Так бы мимо прошли! Весь грех взяла на себя, весь позор, как Ева, первая, якобы, грешница! Да, стала притчей во языцех, и буквально стану в них же, но зато он - самый святой, невинный! - бахвалилась писклявым голосом Чёлкина. - Что поделать, если наша судьба такая - быть грешной с рождения, но в нашем случае – все же позже и не рожая? - Воз вела и уда – на шею! Ученье и Брут все переврут! - съязвила фальцетом Косилова. - Обе хороши, но вынуждено! Я же сама ради него пожертвовала самым дорогим, боевым прошлым, всем своим хозяйством, только-только как бы обретя его по праву, хотя только я и могла на что-то тут надеяться... Но я не стала ждать, с корнем, загодя вырвала измену из кармана, причем сам еще... А вы думали, чего я там, в карманах держала? Вот-вот, и думали, что фигу! - На фигу, кстати, и похож был! – брезгливо заметила Бруттая. - Ты просто намылилась первой к нему в постель без мыла пролезть!.. - Как без мыла, – переспросила Косилова, – ну, намылилась?.. Био.., ну, логическое противоречие! Хотя хрен редко сладкий... - К кому в постель, милая?- скептически спросила Дарья. - Там без нее слез хватит! Языки лишь почесать?.. Хи-хи! Все, нам ныне худо всем, раз худы стали, и надо держаться вместе, иначе с теми четырьмя... Хоть по миру иди и уди... А, кстати, зашьем и пойдем! - С двумя, - припоминал что-то Леон, но не очень уверено. - Да, с тремя-четырьмя, - поправил Андрей, вызвав у того дополнительный прилив мстительной гордыни. - Еще и Фортунатов поможет, как ваш самый козырный, трефовый ли... - Скажи еще, что в сей раз Татушки, Пусики-Псучки ли победят, и нам совсем леденец придет, - с язвительной усмешкой заметила Дарья, - хотя разницы и сейчас не вижу там, откуда все дается по образу и подобию, куда бы я сразу парами избирала, но не с одного поля вициками, а каждой твари по паре, чтоб все было ясно: Who is Ху?!.. - Все, я свое дело, похоже, сделал, чистка закончена! - заметил в сторону Андрей, направляясь к двери. – Остальное решите сами? А то тут дискуссия начинается, далекая от дел божьих... - Отдел божьих? – взяла на заметку Косилова. – Может, ты?.. - Ре-шим, ре-шим, до-ре-шаем! - перебили их хором подруги, а, главное, Леон с хмурыми друзьями, из которых лишь Теодей, забыв о своей роли, гонял под сводом часовни голубей разноголосицей очередной фуги, радуясь, хотя и удивляясь откуда-то возникающим в голове нотам, мелодиям, их полифонии... Он же, выйдя из часовни, за спинами длинной очереди к доктору припустил к выходу из лабиринта, откуда навстречу ему шла еще одна «невеста», прихватив и его брюки, рубашку... - Там не кончили? - спросил баском запыхавшийся Фортунатов, не приподнимая фаты, так как ему было неудобно ходить теперь в женской одежде. - Но кто же нас, кстати, обвенчает? - Некому уже! Все только начинается, и тебя ждут, как единственного, настоящего... К тому же подошел их пастырь, кажется, которому уже не привыкать такие браки освящать, поэтому желаю тебе взаимного счастья и.., - ободрил его Андрей, переодевшись уже без стеснения и поспешив далее, слыша за спиной восторженные крики толпы, приветствующей братьев и сестер в одних лицах. – Венере только расскажи все, от чего я ее уберег как бы... Пусть не дуется! - Уже сдулась пару раз, - усмехнувшись, успокоила его он. – Этот... такой шалун, деловой оказался, если не сказать точнее... Производитель! Я теперь всеми делами, отделами, отелами займусь... Глава 26 Татьяну он нашел недалеко от входа в темную галерею лабиринта, где она стояла, прислонясь к кирпичной стене почти так же, как к кресту, не обратив внимания на подходившего как можно шумнее Андрея. Казалось, она вообще ничего не видит, хотя безошибочно взяла его протянутую руку и уверенно, быстро пошла вслед за ним, обходя камни, рытвины. А он понимал, что времени у них нет для выяснения отношений, поэтому сосредоточился на одном - на дороге. Галереи были едва освещены светом, проникающим сюда со стороны карьера, отсвечиваясь от "тверди" каменного "неба", неровная поверхность которого была похожа на настоящее в преддверии грозовой бури. Галереи постоянно петляли, меняли направление, раздваивались, то и дело приводя в глухие тупики, которые, как заметил он по некоторым признакам, даже стали повторяться... Тогда он начал доставать из карманов те щедрые жертвы, которые ему совали туда, снимая с себя, обманувшиеся в надеждах, а, может, и нет, саркофаги, и бросал их в начале тех путей, которые он обходил, оставляя как бы нить Ариадны не за собой, а за тем, кто шел другим путем... Немало раз ему приходилось вновь проходить, но уже по тому пути, что был помечен золотой безделушкой, и тогда он бросал колечко на начало второго пути, которым уже прошел... Так же он пытался ориентироваться и по каменному небу, находя там какие-либо приметы, наконец, заметив, куда же ориентированы тени от незначительных выступов каменных облаков. Так у него появились страны света, что было бы вряд возможно без компаса в настоящем лабиринте... А ему все казалось, что лабиринт не совсем настоящий. Слишком уж прочными, не очень разрушенными, осыпавшимися, совсем не древними казались стены, каким-то похожим на обычный представлялся и кирпич их кладки... Да и то, что Татьяна совершенно безучастно и покорно следовала за ним, облегчало его выбор - он шел только сообразно разуму, не поддаваясь, стараясь, то есть, не поддаваться чувствам, даже не пытаясь убедиться в реальности виденного... Однако, у очередной развилки его поджидала весьма неожиданная встреча, даже встречи. Бросив колечко в начало правой галереи и пройдя по левой до поворота, он вдруг увидел весьма странную картину: в резко суженном проходе галереи на балке висела длинная пеньковая веревка с изящной петлей на конце, в которую была продета голова в черном колпаке довольно толстого человека, закрывающего собой весь проход разбухшим словно от водянки телом... Андрей даже удивился тому, как тот спокойно, скрестив короткие ножки, спрятав за спиной, видимо, связанные руки, стоит на весьма шатком помосте над глубоким колодцем. Сбоку от помоста висел ящичек, на котором было написано большими буквами: "Жека-Потрошитель! Хочешь пройти - опусти рубль!". Под надписью Андрей разглядел и щелку для этого. Да, длины веревки вполне хватало, чтобы Жека скрылся с головой в люке колодца, освободив проход, но Андрей, отбросив брезгливо даже эти предположения, повернул назад... - Эй, кто там?! - крикнул вслед Жека. - Дай закурить? Сюда сунь сигаретку, в щелку! Только не в ту! Или руки развяжи, а я сам... - И давно ты здесь? - поинтересовался Андрей, засовывая тому в щелку колпака зажженную сигарету. - Ну, как палач ушел в отпуск, так и стою вот, - поделился тот жалостливо, попыхивая жадно сигаретой. - Столько бы уже сделал за это время потро.., потраченное зря! Уходишь? Зря! Мы бы сработались! Я бы тебе дорогу расчистил, всюду бы зеленую улицу Вязов... Но Андрей уже завернул с Татьяной за угол и направился к входу в левую галерею, за поворотом которой в похожем сужении он сразу увидел молодую, чернявую нищенку, сидевшую в проходе на земле с крохотным дитем, хныкающим беспрестанно на ее руках. Увидев их, та сразу протянула им навстречу руку и запричитала: - Подайте, люды добры рубл, не пожалэйте для дитя рубл! - громко просила она, разглядывая их с любопытством своими черными глазищами. - Нет, не надо колца, добры люд! У меня, выдыш, сколко колца? А счаста нет! Хватыт одын рубл! Дай рубл! Но Андрею сейчас проще было осыпать ее всю золотом, что он с удовольствием бы сделал после предыдущей встречи, наряду с невероятным облегчением испытывая даже некоторые угрызения совести перед Жекой... А рубля у него еще с того дня не было... Однако, еще к большему облегчению он вдруг вспомнил и подземный переход, и куда положил тот, взятый на память, рубль. Такой выбор любого бы устроил... Тот был на месте! Рубль!!! Спаситель!.. - Спасиб, добры люд! Счаста вам! Спаслы мой дите! Все слезкы выклопал с глазкы бы, раз влэкут раз влэчен и я, а компутэр нэт, автомат нэт! Но ест рубл, тверды рубл! - благодарно причитала красивая нищенка, торопливо вставая с земли и освобождая им проход. Рубль его она тут же сунула в крохотную ручонку мигом успокоившегося, даже заулыбавшегося щелкой еще беззубого ротика, дитя и заспешила с ним куда-то, явно к игровому автомату... Но Андрей не мог и сейчас думать за всех, поскольку думал только о Татьяне, еще крепче взяв ее за руку и потянув за собой вглубь лабиринта, который становился похожим чем-то на настоящий, каким он себе его и представлял... По крайней мере, за одной из следующих развилок его поджидала новая встреча, но уже просто с препятствием. Проход в галерее был загроможден массивным шкафом из мореного дуба с тяжелыми, резными дверцами, инкрустированными позолотой. Задняя стенка из толстых, тоже дубовых досок даже не дрогнула под ударами его ноги, почему Андрей решил пройти на разведку в другую галерею. Там им путь преградила глубокая и довольно широкая яма, которую он сам, конечно, смог бы перепрыгнуть... Немного подумав, он вновь вернулся в предыдущую галерею и, сочувственно взглянув на это произведение столярного почти искусства, с трудом, но все же выломал дверцу шкафа, длины которой как раз хватило, чтобы перекинуть надежный мостик через яму. Когда они ступили с Татьяной на другую сторону ее, сзади донесся отдаленный грохот, видимо, рухнувшего почему-то шкафа... - М-да, созидаем, разрушая! - самокритично воскликнул он, чувствуя себя все же неудобно перед Татьяной, хотя она по-прежнему безучастно смотрела лишь перед собой, в себя ли... Но после следующей развилки, встретив в узком проходе галереи страшную старуху, он серьезно задумался над просьбой той: - Скажи мне, голубчик, что я самая красивая в мире, и я пропущу вас, - кокетливо поглядывая на него, попросила та, покрепче упираясь в стенки прохода и оскалив клыки почти вампира. - Да-да, сейчас, - растерянно бормотал он, постепенно отступая, пока не вернулся к развилке, в раздумьях направляясь в соседнюю галерею. Там он даже не удивился, заметив почти близняшку той старухи, перегородившую такой же проход... - Скажи мне, но скажи правду, что я самая страшная в мире, и я вас пропущу, - хмуро попросила та, бросая на него злобные взгляды бесцветных глаз из-под мохнатых бровей, морща беззубое лицо землистого цвета так, что крючковатый нос почти касался вздернутого подбородка... Увы, сделать выбор и в этой простой ситуации ему было не просто, хотя, вновь отключив эмоции и взглянув на Татьяну, он вдруг предпочел правду, услышав которую, старуха с диким ревом бросилась бежать в смежную галерею, освободив им путь... Но он уже не слышал, что там происходило, поскольку эта галерея привела его в Округлый зал, где он сразу заметил Ментурова... Конечно, встреча с ним, давно исчезнувшим с церемонии, была вполне ожидаемой и даже чем-то обрадовала Андрея, из-за нее он догадался, что хотя бы главная половина пути уже пройдена... Тот нетерпеливо расхаживал по просторной, округлой камере, из которой брали начало четыре галереи, точнее, и вели сюда, к нему. Естественно он был вооружен до зубов, даже в зубах держа тонкую трубочку, видимо, для стрельбы ядовитыми стрелками, и бросал на Андрея злорадные, но слегка затравленные взоры. - Что, новый Соломон, обманул бабок, хозяина, украл главное его сокровище? - язвительно спросил он, помахивая перед носом Андрея обрезом двенадцатого калибра, у которого вместо мушки была настоящая, жирная муха, нетерпеливо дребезжащая крылышками. - Ошибаешься, главное его сокровище было дальше, - спокойно, как бы сочувственно отвечал Андрей, поведав тому об алмазах. - А-а, он и тут спутал даже Купитализм с Копитулизмом! Выкопал, продал, купил! Дерьмо-товар-деньги! - отмахнулся тот. - С черными и алмазами ничего не добиться... без нее. Из-за чего была первая война? То-то, заслали красотулю, потом конягу даром, а в нем и сами, за своим... Алмазы – сажа, грязь, когда их как грязи, в карандашах и-то полезнее, хотя и от них чаще грязь. Ну, раздал бы тем болванам, вытурил из страны, остался бы хозяином главного - божественной красоты, от которой красота и родится, как и под грифелем, но в руках мастера... Мастера! Ты нас дураками-то не считай! Мы хоть не верили, но и круглыми... атеистами не были, чтоб не верить в часть, ну, сказок, даже зная смысл их, точнее, Программу части – тьфу, слово-то какое - человечества. Главной части - Партии! Для нас и мифы - не просто мифы. Случайно ли мы изначала все почти по Шумеру делали: контроль и учет, свободная любовь, ликбез, ну, всеобщее образование, не бог Энки, но Энкаведе, не третий Рим, а Новый Вавилон, но на грани столпотворения: один язык и много сразу – уже не разрушить такую башню! А ты и памятник, и этот лабиринт считаешь лишь копией, подделкой? Ха! Все то воздвигнуто на нем, ради него, существовавшего и тут тысячелетия! Это Экупюровы не знают, дальше своего внутреннего органа ничего не видя! А я знаю все тайные ходы и выходы, сам из этой системы! Кто такой Фетр? Никто! Ванька-встанька: Ваньку уронили, Манька встала! Потому и позарился на брюлики, которые тут лишь в виде ловушки, братву заразил... Считал, сколько там кругов спирали? В карьере, в его карьере, которая на дно, в ад и ведет, точнее, сами туда и прутся, идиоты! - Да, и ты, Ментуров, пробрался сюда в нашем, мифическом коняге, еще и понужая, но все же не на первые роли, - заметил Андрей, стараясь не возражать сейчас, даже зная – чем! - Я - не карьерист, не карьерщик, как ты мог заметить. Я и кабинет секретарше уступал, потому что все то, внешнее, не важно – лишь приманка, обманка для идиотов, Аватарка! Реальная власть не может зависеть от карьеры, случая! Карьера - это и есть карьер, подобие ада, но не сквозь розовый экранчик, где вы видели счастливых носильщиков алмазов! Окажись ты, как Данте, ну, Вергилий по ту сторону, понял бы, что его и всех ждет там! Но мне, как и тебе плевать на них. Я не из их круга, вверх-вниз не шастаю и сюда пришел сбоку, и отсюда уйду по одному мне известному выходу из лабиринта, который является входом в другой и в самый главный... Жаль некогда, а то бы я тебе показал, поп-демократ, с чем ты связался, на что твой Петрович замахнулся со своим музыкальным планом, тоже опиумом для народа! Твой-твой, хотя мы тебя и заслали к нему, хотя уже было поздно, Госплан был обречен! Зачем? Знали, чем занимаешься, к чему можешь и его подтолкнуть... Но раз не стал тогда коммунистом, то и капитулистом бы не стал настоящим, почему тебя в народ отправили... Но какие вы самоуверенные! Хотя это - от неполноты знания. Знаешь, что такое план, если смотреть сверху на города, страны с их улицами, дорогами? План и всего мира - вот это! То – лишь его отражение! Да, теорию его Ленин и продвигал, но в познании! Лабиринт – это План-Программа мира, но как «вещь в себе»! Тут заложены все их пути от начала до конца, что ты сам и писал, но, увы. Тут все тайные ходы и выходы, которые лишь надо найти, чтобы вернуться наверх, в исходную точку, но с чем-то новым: решением, знанием... Да, и в мозг – «мы в себе» - за этим, так же погружаемся. А ты даже нить с собой не взял, у вас клубочек всегда катит вперед, вы не хотите возвращаться, чтобы что-то переделать, перестроить, рассмотрев четыре варианта, оценив три чужих результата, но выбрав один – свой! До вас не доходит, что уходя в лабиринт, допустим, на запад, съездив в вагоне на север, сходив в сапогах на юг, возвращаемся-то мы на восток, к себе, в свою Землю обетованную! Вот и весь Капитулизм! Почти история иудеев, но дома, хотя у них он везде. А вы куда собрались – туда, развалить все и жить этим там? Ну, не ты лично, хотя мы и не против! И те тут стараются все развалить, но не жить, ясно! Дудки! Других, согласных идиотов развалят, а следом и себя по инерции. Уже валят, а те и рады, ножками сучат, не знают, что мы их сами туда выперли, халявщиков! И у нас пусть валят, что нам не нужно, расчищают площадку под новостройку, как Наполеон, Гитлер, мусорщики, золотари истории... Но тебе, гляжу, и это не нужно, да и мне некогда - ты и так перепутал мне часть планов. Я бы дождался, пока он сделает ее первой, а потом бы сделал его никем, а сам бы стал всем и для нее! - Но как? - с деланным восхищением спросил Андрей. - Как-как? Как было задумано, как не раз делали, убирая выскочек, когда мешать начинают, как уже убрали двоих, - скромно, но уже путано продолжал бахвалиться Ментуров. - Косилов уже подбивал Бруттого кончить нового Юлия Фетрова. Чёлкин, ну, «Чубчик кучерявый» среди братвы, его бы привычно продал, а те бы кончили одним из двух проверенных способов: зарезав или распяв. Братки бы им не простили, потому что их слишком много, потому поддержали бы Купюру, который бы развернулся, да так, что это их тоже перепугало, почему они бы и пришли ко мне, зная мои связи, умоляя, чтоб я их отмазал перед всей нашей, ну, мировой братвой. Вот, вкратце... А что ты натворил? В кого превратил Купюру? Подсунул тому четыре ферзи, из-за чего братва и триумвирата не испугается, даже предпочтет! И кто заменит его, их на время, если Купюра теперь только вниз пальцем может показывать? Я? Но ради чего и кого я это буду делать - заменять? Почему у нас чистые руки? Потому что чужими все делаем, твоими, вот... Хорошо еще, что ты ее увел от них, почему мне теперь на всех наплевать: если ферзя моя, то и король - я! - Мог бы и раньше сказать! – как бы огорченно воскликнул Андрей, словно что-то потерял. - Я ведь не знал твоих планов, поэтому я просто Экупюрову ее место продал. Останься ты – я бы и тебе уступил, но ты же... Но это еще не все, не главное... - А что еще? - недоверчиво спросил Ментуров, перестав размахивать автоматом. – Неужели я тебя все же недооценил? - А то, что там теперь все - ферзи, хотя и на стадии ладей пока, ну, или турок, турецких евнухов! - буркнул виновато Андрей. - Они выбрали третий, толерантный путь, промежный, новый, хотя и давно, после правления рода Андрея Кобылы, кому и князья доверяли своих невест, забытый нами. Как узнали, что у нас Татушки могут победить, как и у тех - всякие сшалавы, так бросились упрашивать меня, ну, и доктора - сделать их тоже ферзями, благословить на то... - Кто все? - выпытывал тот, даже опустив гранатомет. - Все, включая и его! Только одна, ну, Ссылкин, сам знаешь, кто, да Фортунатов, но им далеко до.., - скромно промолчал Андрей. - До кого? - самодовольно уже выспрашивал Ментуров. – Хотя, да, те ж готовы были на то, не зря сдали тебе всех дам, королей... А я-то удивлялся! Но за что ты-то купился? За нее что ли? Не верю! После таких глобальных планов купиться лишь на... - Вот, за это, в основном, - стыдливо, словно с неохотой доставал Андрей из карманов золотые брусочки, бросая перед собой. - А корчил из себя неподкупного! - с презрением говорил тот, потеряв интерес к нему. - Мог взять все, раз я специально ушел, но позарился лишь на это? Точно сказано, что люди гибнут или за металл, или за... мандат! Ладно, некогда мне с тобой, меня ждут великие дела, пока там Фортунатов со Ссылкиным власть не взяли!.. И как я удержался, не купился на твои басни? Вот, козел - Экупюров! Давай, мол, попробуем, дуэт создадим, назовем Дуду или Туту! На Стервовидении покажут. Ха, теперь у меня там целая октава, и театр Леона пригодится... Дарь-Кино, но мое! Ладно, бери один серебряный и идите. Она теперь там яблоком раздора стала бы, а это мне не надо – одной Адки хватит. А то пусть будет мой свадебный подарок. А, может, попом станешь, крест себе из него и выльешь. Попы ведь не могут без иудиного серебра!.. Куда ты? Обратно - мне! Нет, северный выход ведет в престольную, в диспетчерскую, не про тебя! Уже был, тоже зря. Там ты и одной развилки не одолеешь. Южный тоже, еще сложнее! То путь в главную застольную, хотя там теперь и сапоги помыть не успеешь - разуют... Вам, как всегда, на восток, подальше... - Слушай, Ментуров, неужели вся эта сложная и хитроумная система только для того, чтобы?.. Ну, для чего ты сейчас возвращаешься? – все же поинтересовался как бы Андрей напоследок, но не стал уточнять, вновь сдержав себя, хотя и через силу. - И это спрашиваешь ты, кто даже от такого... пустяка отказался, хотя начинал с Петровичем, подвиг его на такое, почти эпохальное? - с иронией спросил тот. - Ведь ты мог – хоть и временно - занять его трон, сделав всех своими ферзями, ладьями, конями! Ты же один там оставался почти королем, хоть без короны, но уже с королевой, которая бы дала тебе лицензию на что угодно, почему и нужна была? О красоте я, конечно, пошутил, хотя за приманку для тебя сошла, как и тогда Елена. Клюнул же! И ведь ты мог сам себя на то благословить, благословив недостойных даже спрягаться в одном роде с этим званием? Ты был бы достойнее этого места, даже в сравнении с Леоном, кто лишь играл бы короля, но так же, как и шута, хотя сам уже и играть не умеет – только ставить, почему и не нужен! Конечно, сами фигуры можно сделать какими угодно, из чего угодно, даже из вашей дерьмо-кратии, где выбора, кстати, намного больше, поскольку и случайные могут в урну залететь, отчего игра не стала менее интересной, а, наоборот, стала загадочней – из-за случайностей! Но ничего не решающих по сути! Почему мы на эту чистку спокойно пошли! Или не помнишь последних королей – мал мала меньше? Ну, может ли быть Голова только болтливой, Железная рука - трясущейся, Стальной Кулак – беспалым? Смешно! И кукиш Западу не покажешь! Потому мы тебя тогда и поддержали! У тебя хоть не то перо в руке, но хотя бы сам, под себя указы писал, не доверяя секретуткам, щелкоперам, и не мешал бы их исполнять со своей Музой, ну, и с ней тоже! Мне бы не мешал! Да, что поделать, если я привык вот так, в тени, из этих тайных галерей и заправлять всем? И тобой, умник, но как бы за твоей спиной, дергая оттуда за ниточки, струнки... Троянский конь, Аватарка... Фрейда надо было читать внимательнее, а не сказки всякие, ну, или не как сказки, умник! Я, не-Я! Но ты и этого не понял, почему и ушел оттуда, и пришел сюда, в ловушку.., хотя, скорей, мы просто ошиблись в тебе. Да, я, конечно, ошибся еще тогда... Думаешь, не знаю, как ты и Родину продавал? Ха, еще и в Капитулизм собрался! Я-то всю твою подноготную насквозь вижу! Ведь я... А, что теперь толку! Такую партию довести до пата, ну, или до полного апата своими – сколькими, кстати - восемью ферзями?!.. Примерно? Даже этого не помнишь? Черт, наградил же Создатель двойником... Нет-нет, это я шучу, политический ход, прием такой есть. Хорошо хоть эту увел, кстати, тогда, значит, их семь, и не все еще потеряно, есть куда... - Да, еще осталось одно место, потому желаю довести игру до... мата, - пожелал ему Андрей даже сочувственно, но поспешил уйти, поскольку вдалеке уже послышались гулкие голоса, навстречу которым величественно зашагал Ментуров, ощетинившись всем своим вооружением и надев на голову макет, скорее, шлема викингов с рогами, хотя, может, и... Но со спины разглядеть то было невозможно... Глава 27 Однако, идти им было еще далеко, хотя со стороны казалось совсем иначе... И после первой же, только тройной развилки их ожидала новая встреча. Галерея была перегорожена высокой, железной клетью, где ходил из угла в угол... Матюша в полосатом, точнее, в звездно-полосатом обмундировании, стесняясь слегка полосок... - О, какое счастье! Наконец-то! - обрадовано восклицал тот, вцепившись почти как Тарзан в железные прутья. - Андрюша, я ведь прямо для вас, можно сказать, сторожу этот проход!.. Да-да, ты же видишь, что двери сквозные, но их лишь надо открыть, чтобы... - Еще бы! - сказал Андрей, кивнув тому и озадаченно разглядывая тяжелые, кованые замки, висящие на толстых петлях дверей. - Я, конечно, тоже рад тебя видеть и даже помочь тебе, но... - Нет ничего проще, Андрюша! - торопливо объяснял тот. - В тех галереях сидят два грозных стража, мимо которых не пройти, но у которых есть ключи от дверей... Нет, драться с ними не надо, убивать тоже – они не коммунисты, сдаются! Не убий, Андрюша, - это наша теперь заповедь, раз мы вступаем в цивилизованное сообщество! Надо просто, ну, как бы изъять из кармана первого, крепко спящего стража этот ключик или же, что еще проще, взять его у второго, бдительного, но за некую мзду... Он так любит подарки, так любит! У нас в детстве на рождество не дарили подарков, так мы все как бы обделенными были. А что Новый год? Не поймешь даже, в каком году тебе подарили, какой год - более удачный! Теперь же два Рождества подряд, и сразу оба года счастливые! Да, наверстываем и совсем даже не борзыми и не легавыми даже... И как он тебя отпустил?.. - Как?.. А ничему нечего и противопоставить, - Андрею ничего не оставалось, как пойти в первую галерею и, сгорая от стыда или леденея слегка от страха, обшарить карманы крепко спящего посреди галереи стража, найдя ключ, естественно, в последнем кармане. Однако, вторую дверь клетки этим ключом они не смогли отрыть, выпустив только Матюшу на свободу... - Ничего, ничего! - успокаивал его тот, благодарно заглядывая в глаза. - Я посторожу Татьяну, а ты сходи ко второму. Это же не преступление, раз это для друзей, для своей любви, как я понял... - Что, господинчик, взятку принесли? - сразу спросил второй страж громко, хотя и озираясь по сторонам, словно боялся, что его услышат при исполнении. - Да нет, подарок как бы, потому что мне лишь дверь открыть и я снова верну, - путано объяснял Андрей, полевев цветом лица. - Ладно, так и быть, я у вас возьму не взятку, поскольку это тавтология даже, а просто мзду, ну, как берет мздоимец у мздодавца. Терминов этих, наверно, нет в Кодексе, раз он - не Библия, где слово взятка тоже есть! Что делать, пока есть недоступное, будут и отступные! - соглашался тот, поигрывая у него ключом перед глазами, моргание которых доставляло ему такое удовольствие, что он даже не стал рассматривать колечко с бриллиантом, которое сунул ему Андрей в руку. - Ну, господин мздодавец, берите ключ от свободы и ступайте себе на нее, на волю, то есть, с чистой совестью!.. И не грешите! - Блин! И этот от первого замка? - с чрезмерным удивлением восклицал Матюша, когда и этот ключ не подошел. - Прости, Андрей, но я не знал, Ментуров и тут надул нас... Мы ведь с Петровичем думали, что все, как и прежде, делалось по нашим планам, ну, как и вы, кто их создавал, придумывал. Но после конца Лени, то есть, лени, застоя, как после Ленина, кстати, хотя, скорей, и до него и он сам - все делалось по их тайным планам, какими они считали свои задумки, именно зад-умки! А какие у голи задумки? Вот-вот, почему выхода и нет, хотя ключи, вроде, есть! Будь выход – они-то были бы не нужны! Даже наш Капитулизм обратили против нас же, поскольку у тех свои капитулисты, с кем Юриковы Юрченковы, новые Юсуповы договорились опять, поделились не георгиевскими, как и Лавруша мечтал, так гордиевскими планами, то есть, сферами сливания, за что и получают зарплату. Те нам бомбу слили, свалив все на Юлиуса, посколь останься они одни с ней, то зачем бы они стали нужны? Довеском к всемогущей? Наши им слили чрезмерно прыткого миротворца, капитулиста, по тем же взаимным соображениям, поскольку он лишал всех работы: и ваших, и наших. А у нас они своих сливали зачем ни за что? Все слили, но сами остались позарез нужными, потому что сами себе работу, нужность и создают, как и чинуши, кстати, но тех-то можно проверить... Кто этих проверит, проверяющих: куда, что, кого и кому они сливают? Потому вход-выход разные, а ключ один! Их! Сам ты и убедился – тебя ж тоже слили только никому, просто выплеснули... - Ну, сегодня не очень ясно – кто кого, - заметил Андрей и нехотя, да и не очень уверенно рассказал о произошедшем... - Сколько там ферзей?! Нет, правда, и это все ты? – восхищенно переспросил тот. - Андрюша, ты оправдал все наши с Петровичем надежды! Это ж полный Капитулизм, даже Скопитулизм, наш план Б, на который я тебе вначале намекал: новая, популярная, либоральная Поп-Партия, новый Сосуализм, философия Единства противоположностей и без всякой борьбы! Это не с Советами туда соваться! Братков те наших не приняли, а этих – с распростертыми объятьями, как брать,.. точнее, как родню-1 встретят радостно у входа! Останется только брать, брать... Ты перевыполнил план! Вот, что значит научный подход! Про сексуальную-то контрреволюцию мы забыли, хотя и... Ну, думали про революцию. Утер ты нос Ментурову! Он бы не догадался, хотя теперь ухватится, но за что? Это Универсум! Бриллиантовые Леди, причем все Первые! Он лишь до Железных Марго, да Амазонок мог додуматься, и-то списав у них. Что против них - западные и бывшие наши пустышки, раздувшиеся от своей никчемности? Сомнительное удовольствие: лапку пожать Дуньке, коленку Ангелке! А дальше? Черная дыра! Но пустая! И что против них их королики-кролики? Анахренизм! Мы им не просто трубу вставим, но и по самые... Чита брита, толи-толи-рантность, а!.. Блин, а Петрович и не знает... Спасибо и за свободу, но мне надо бежать, а то там все разберут, как всегда, пока мы планируем... Доктор там еще, кстати?.. Андрей, когда тот торопливо убежал в сторону карьера, повел Татьяну в галерею, где они спокойно прошли мимо спящего стражника, которому он осторожно засунул ключ в один из карманов. Возвращать ключ второму стражнику он не стал - выбросил... За одной из следующих развилок дорогу им преградил еще один неплохо вооруженный стражник. - Так-так, господа, пришли, значит, волю взять у нас? - пытливо поглядывая на них из-под забрала, вопрошал тот, помахивая алебардой. - Что ж, воля - хорошее дело, стоящее... И знаете, сколько стоит? Ужаснетесь, узнав, что всей моей беспросветной жизни! Да, попасть вам туда только через мой труп... И что, почему погрустнели? Может, меня стало жалко? Так у меня жалко-то! Ха-ха! Ладно, вы мне понравились, она понравилась, точнее, потому я пропущу, но... Вторую галерею сторожит тоже как бы страж, но такой тупой, такая скотина! Сами увидите, что он и не страж вовсе, а стажер, хотя и стожор тоже. Сторожить самый ответственный под Стожарами объект с игрушечной пукалкой? Больше скажу: он и не страж, даже не кассир, а банальный танкист, как сказали бы классики пародии на паразитов Парадиза! Убей его, и я вас пропущу... совсем бесплатно! Увы, второй стражник, правда, оказался танкистом, поскольку восседал на огромном, ржавом танке, перегородившем им путь, и изображал из себя стреляющий пулемет, прототипом которого целился в их сторону. Изображал он пулемет так громко, или тот на самом деле был таким громким в жизни, что даже не слышал их. Андрей кинул ему конфетку и вернулся, когда тот смолк, засунут ту в рот... - Ну, что? Насколько я понял, ты убил его, - с затаенным восторгом спросил первый страж, - одним презрением? - Да.., - махнул рукой Андрей, уже устав и врать. - Да?! Спасибо! Теперь я один такой остался... Проходи, дорогой, гостем там будешь! Уважаю честных киллеров! Сказал - убью, и тут же сказал - убил! И ни грош цены тому не взял! Ты - настоящий рыцарь липового сердца, достоин ее!.. - вопил тот все подряд, что приходило на ум, но и на самом деле отойдя в сторону, положив алебарду на землю и склонясь в благодарном поклоне, но перед ней... Но Андрей не стал дожидаться, пока тот исчерпает весь словарный запас, и поспешил далее, поскольку Татьяна уже устала и начала сдавать, а вскоре вдруг совсем остановилась, закрыла глаза и опустилась на землю. Увы, она ведь не осознавала, что он хотя бы морально ее поддерживает... Теперь ему пришлось нести ее на руках, пытаясь еще и определить путь. А впереди их поджидала еще одна встреча. В привычном уже взору сужении галереи вздымался высокий крест, на котором был распят весьма страшного вида человек, всем напоминавший преступника, поскольку даже лишенный возможности творить зло он источал его из одних только глаз, воплотивших в себе всю подвижность, агрессивность своего недвижного тела, закрывающего собой проход. На кресте он увидел надпись «Barabbas». - А, наконец-то! - возопил тот, даже радуясь притворно, впиваясь в них дулами своих зрачков. - Дождался я! Никуда теперь ты не... сможешь мне не помочь, братан Буратино! Тебе ведь пройти надо туда? Но не сможешь, не помиловав меня, дружище, не сможешь! Даже Тот не смог, пока другого не прихватил с собой, двоих не потянув! Да, Тот, да не Тот! Скорей помилуй меня, и я пропущу вас, тоже вознесясь на волю! Не веришь? Вот, видишь кнопку с надписью "Помилуй"? Нажимаешь, и я фью, как на лифте, туда! Братан, ты что, сомневаешься? Но это ж принято у нас? У нас как карают особо опасных, госпреступников, ограбивших даже всю почти страну? Не знаешь принцип Питера? Да, нашего Питера тоже! Ну, вспоминай: если чинуша достиг уровня этой, ну, некомпетентности, где он только вредит, то его проще что?.. Повысить, причем пинком! Прежнего вашего Главу разве того?.. Нет, повысили до совсем безопасного для остальных места, покарав тем, что приблизили к себе, к неподсудным тоже. Чуешь тонкость? И так они всегда своих карают, кто натворит не меньше их. Поскольку таких много, то их чаще тоже пинком, но «пасом в сторону», главой типа Мин-атомных, На-на-технологий, где уже ничего и не разглядеть... Но мое-то место по делам моим и вовсе у самого трона, а-то и... Давай жми, а то там братки заждались, малина уже опадает... Куда ты? А, к тому... Ну, давай-давай! Все равно вернешься. Ишь ты, искатель справедливости!.. Нет ее здесь!.. Но Андрей, не обращая внимания на его хохот, уже шел по другой галерее, где в такой же ситуации встретил почти такого же страшного, но не видом, а страданиями, преступника, смотревшего на них совсем безучастным взором утомленных глаз. На его кресте тоже была кнопка "Помилуй", к которой Андрей тут же устремился, остановившись лишь потому, что увидел под крестом глубокий колодец... - Да, друг, помилуй, - обессилено бормотал тот, засветившись едва тлеющей улыбкой пересохших губ, - пусть хотя бы мой собрат по мукам спасется моей смертью. Не то беда, что я хотя бы невинным страдаю. Не то горе, что мне, невинному, нет спасения и помилования. Беда в том, что мы вдвоем страдаем, горе в том, что нам вдвоем нет спасения. Ему и вдвойне, раз заслуженно! Если меня помилуешь, а его спасешь тем от вечных мук - то для меня двойная радость... Ты ведь сам знаешь, что страшнее не твои собственные муки? - А за что же ты-то здесь? - только и смог Андрей вымолвить, обессилено прислонясь к стене с Татьяной на руках. - Разве земные судьи по душе судят, а не по делам? Разве о ее спасении думают? Нет, они ее и карают. И чем больше она, тем больше и кара ей, - говорил тот ослаблено, из последних сил стараясь донести до него смысл. - И все это идет как бы от закона нашей справедливости. Все могут судьи земные, но одно им неподсудно - то, что богом дается. Обидно им, что тот, не спросив их, одарил нас всех по разному: одному талантище винодела дал, а другому лишь жажду, одному лишь сокровище ваятеля, а другому - лишь кошель для сокровищ. Как тут соблюсти справедливость, если бога нельзя поправить? А так: ваятелю руки связать, а тому в кошель добавить, виноделу бочки разбить, а того вином залить. Почему так делают земные судьи? А потому что идут в судьи те, кто свою несправедливость устранить бы хотел, кто свое ничтожество возвысить хотел бы судом над величием других. Так и преступников они судят: за малое дело большую кару, а за большое злодеяние малую дают, опять же соблюдая справедливость, уравновешивая тем точные весы Фемиды. За корочку хлеба – пожизненный голод, а за обжорство – лишь недельный, но тоже мучительный пост. Эталон-то ведь - опять они сами, а их самое страшное перед богом преступление - судить других, кару за которое они себе наградой воздают. Да разве ты этого не знаешь по себе? Или кто оценит твои деяния? Или кто не покарает страшным судом твое малое зло, что творишь ты во имя добра? Оставь надежды тут, на земле... Одно лишь скажу тебе утешительное, что суд земной - это ничто, ничего он не значит и перед богом, почему и спокойна душа моя. Неспокойна она лишь тем, что сейчас не один я страдаю, а двое нас, что на земле и без того много страданий, чтобы не избавить ее хотя бы от одного, от коего можно. От телесных, земных страданий, друг мой, поскольку страдания души все равно вне земной юрисдикции... - Но ты же просишь меня помиловать? - с болью спросил Андрей, оказавшись в тупике. - Разве могу я это? - Но ведь я прошу тебя не как земного судью?.. - воскликнул тот из последних сил и замолчал, лишь безмолвно шевеля губами. - Но чем же я от них отличаюсь, если помилую тебя, невиновного, твоей смертью, то есть, страшной карой, но, зато, спасу от нее истинного преступника? - в сомнениях вопрошал Андрей, не дождавшись и безмолвного ответа. - Нет ли здесь абсурдного противоречия, хотя и столь естественного для нашего мира? Помиловав тебя смертью, я ведь становлюсь твоим убийцей, не просто судьей, но и палачом? Помиловав его пусть совсем несправедливо, я, да, тоже беру на себя грех, который хуже, но хотя бы спасаю его тем от самой страшной для него смерти, забытья, как и в этом же случае? Конечно, там и там от меня требуют лишь одного - помиловать, не обязывая думать о последствиях, а помилования достоин только ты. Но я же - не бог, чтобы его даровать? А вот предать смерти или спасти от нее я вроде бы могу... Не знаю, имею ли я право так же думать о твоей смерти, как и о своей, которую я, в принципе, считаю... освобождением, а не карой? Не знаю... Нет! Прости, друг, но лучше я сделаю то, что я все равно не смогу сделать, поскольку я - не бог, чем я покараю тебя так, как это может сделать человек. Возможно, я не взял бы на себя ни тот, ни другой грех, если бы уже не взял их столько ныне... Нет, и это, конечно, не оправдание. Прости, но я уже не могу, не имею права тебя миловать, хотя душа, конечно, мне подсказывает иное! Я понимаю, чем это обернется для меня самого, но все равно... Прости! Сказав это, Андрей с горечью взглянул в угасающие глаза невинного мученика, где увидел, как ему показалось, лишь сострадание, сочувствие, но никак не муку, и поплелся обреченно к первому распятому, встретившему его довольным хохотком. - И что я говорил?! Разве не это есть настоящая справедливость - помиловать наиболее нуждающегося в этом, а не того, кого и миловать-то не надо, раз он не виновен? Там-то, брат, судью миловать надо, а не его! Я ж понимаю тоже! - радостно покрикивал тот, егозя от нетерпения на кресте, отчего Андрей заторопился, спешно ткнул пальцем в кнопку, с облегчением вздохнув, когда тот взмыл вверх вместе с крестом и исчез в раскрывшемся на миг каменном своде... - Боже, и мне никто не простит, и меня тоже никто не помилует за все это, - бормотал он про себя, устремляясь дальше, стараясь не слышать донесшийся из другой галереи грохот, перестав даже на время внимательно всматриваться в дорогу. - Да и есть ли у них это право миловать, прощать? Нет, конечно же, нет! Помиловать меня за эти мои грехи смог бы только Он, но я и не буду просить Его даже. А, вот, осуждать меня им есть за что, теперь, вот, и за все это тоже, что я и сам понимаю, и мне даже возразить нечем... И меня это не трогает! Меня одно тревожит... Боже, что скажет она?.. Скажет ли она вообще?.. Ведь ее-то суд совсем не земной как бы... Ну, для меня... Смогу ли я просить и в этом случае?.. Не себя ли я буду при этом спрашивать?.. Что же я тогда боюсь сейчас так этого вопроса?.. Почему и с ним не решился, хотя он лишь и был достоин помилования!.. Когда он, как ему вдруг показалось, уже раз в четвертый вышел к одной и той же развилке, а за спиной или, возможно, за стеной, послышались уже не столь отдаленные голоса толпы, он наконец-то вспомнил... Да-да, свернуть здесь он уже четыре раза не решался, потому что оттуда ужасно, но как-то знакомо пахло, даже воняло, словно эта галерея вела в сторону канализационных сооружений, верного признака близости города... - Но ведь никто даже не подумает, что я могу пойти сюда, или что королева позволит мне это? - вдруг стыдливо мелькнула у него мысль, прошмыгнув мышью по волосам и исчезнув во мраке той самой галереи, словно указав ему путь все же спасения... Нашарив трясущимися пальцами в дырявых карманах пальто завалившиеся в угол два колечка, он бросил одно на прежний путь, надел второе про запас на палец, повязал Татьяне лицо платком и, глубоко вздохнув напоследок, устремился по этой самой мрачной галерее вперед. Через несколько шагов потолок ее вдруг опустился ниже, отчего воздух стал еще более затхлым. Вскоре и кирпичные стены закончились, и он уже вышагивал, покачиваясь от усталости, по темным галереям, вырубленным в камне, выбирая дорогу на ощупь. Только легкий сквозняк помогал ему в темноте... На единственной развилке, встретившейся ему на пути, воздух в левой галерее показался совсем невыносимым, почему он наудачу шагнул вправо и вскоре вошел в более просторную, наполненную почти по-весеннему свежим, как ему показалось после пройденного, воздухом... Еще через какое-то время он завидел впереди желтоватый свет, и, почти падая от усталости, подошел к проему знакомого тупичка, в котором на куче лохмотьев нахохлено сидели Петр с Валерием, откупоривая бутылку... - Ты пришел... оттуда? – не без разочарования, даже морщась от недоверия, спросил Валерий, сразу узнав его и под бородой, которая уже кое-где отклеилась, и даже отставил в сторону бутылку. - Но, как всегда, не вовремя. Может, вы хотя бы поражение дадите нам без вас отпраздновать? Победить помешал, и тут... - Ладно тебе, Валерьян, - спокойно заметил Петр, хоть так отличая его от святой Валерии, с интересом разглядывая Татьяну, которую Андрей держал на руках, прислонясь к стене. - Ему можно и не прощать, но даму выгонять не стоит, пусть даже они его и сгубили... - У нас только одна дама! Валер-и-я! - огрызнулся тот, усмехнувшись своему как бы каламбуру, и поморщился, хотя его собственное одеяние производило довольно отталкивающее впечатление. - Ты это про что? - удивился и Петр, подозрительно на него поглядывая, хотя сам был совсем на себя былого не похож. На нем было какое-то жуткое, потрепанное рубище, лицо же скрыла спутанная, хотя и густая борода, которая могла бы стать и роскошной. - Это сейчас повальное явление, - махнул рукой Андрей, - ну, то есть, нормальное даже, толерантное... - Какое нормальное! Вы даже забыли уже, о ком я речь веду! - разозлился Валера, одним движением откупорив бутылку, облив себя слегка при этом и достав даже третий стакан из-за спины. - Согласен, дама твоя красива, но где ты с ней оказался? Откуда ты сейчас вышел? Из самого, тьфу... Не с того ли ты и начал? - Да, надо было идти твоим путем? Непротивления злу.., - рассмеялся невесело Андрей, слегка расслабившись, беря у того из рук стакан, - ну, прости, неучастия во зле, во лжи... Но куда идти, если они там всюду, сплошь? Вот-вот, столько веков даже борьбы с ложью что породили? Увы! Это отрицание истины – ложь, но даже отрицание, опровержение лжи – это уже не истина! Да, всего лишь некая неопределенность, точнее, ничто, ни белое – ни черное, то же самое и твое неучастие! Такова наша логика, таков наш плод с Древа Познания! К чему они там пришли? Ни зла - ни добра, ни истины - ни лжи, уже и ни Адама – ни Евы, а некий симбиоз, гибрид, ну, или Е-да, хотя и их Эдем изначала был не лучше, ну, с нашей точки зрения, конечно... - И что, думаешь, что твоя словесная ботва - это бред лучше, чем их жратва? – насмешливо заметил Валерий. – Чем он лучше лжи, если такой же бесплодный?.. - А, все это не важно, - сказал Петр, держа стакан свой дрожащей рукой. - Выпьем за красоту! А так, выходит, что мы совсем ни за что вроде бы и боролись... Ничего, даже воля и та, вот, какой оказалась, не говоря уж о пути к ней, в чем ты сам и убедился, все же пройдя там, куда и я не решился... Но ради нее не жалко и все потерять, так ей и скажи потом... Ну, или хотя бы сам запомни это... - Да, наверно... Только вы, если тут кто появится, не говорите никому этого, - сказал напоследок Андрей, почувствовав некоторый прилив сил после водки, и направился дальше, где до выхода его проводил Петр с факелом, освещая в основном ее. А перед самой дверью и Татьяна вдруг очнулась, хотя все равно словно не узнала его, но улыбнулась Петру, позволив тому даже поцеловать руку, которую потом вновь протянула ему, но словно подачку... Выходя, он еще раз взглянул на картинку, похожую чем-то на шумерскую «Любовь» - Ul: - Ул-летай! – мелькнуло лишь в голове что-то знакомое... РЕПРИЗА бессмыслицы Глава 28 Город все еще был пуст, хотя ветер уже немного стих, и Андрей довольно быстро дошел с нею по мостику до дома. Точнее, ветер сейчас, слегка лишь подгоняя их в спину, дул неистово где-то наверху, словно пытался разогнать, растрясти ли сплошной покров свинцовых туч, которые никак не могли просыпаться на землю снегом и почти каменели от неразрешимого бремени... Дома он решительно провел Татьяну во вторую, давно уже не так роскошно обставленную гостиную и осторожно усадил на последнее сохранившееся кресло. Заслышав шум шагов в студии, он быстро, как-то трусливо сбежал в комнату Надежды и, сорвав с себя одежду, спрятался от них, с наслаждением забравшись в ванную, где вдруг появилась даже горячая вода... Потом сварил себе кофе, выпил пару чашек, выкурил несколько сигарет, и больше не знал, чем еще отсрочить их встречу... В гостиной их он не застал, но уже слышал доносящуюся из студии музыку - ее сонатину, уже более спокойную, никуда не спешащую мелодию которой она наигрывала тихо на гитаре, щадя, видимо, оставшийся в живых мир... Когда он вошел с виноватым, а, может, с глупым даже видом, они обе рассмеялись, словно заговорщицы, и он с облегчением заметил, что к Татьяне будто бы вернулась память, она уже смотрела на него приветливо, с каким-то интересом - почти так же, как и тогда, когда они впервые встретились. Увы, смотрела на него она почти знакомым взглядом, но крайне редко, потому что они постоянно переглядывались с Музой, в которой он тоже что-то не мог узнать, как будто бы вдруг стал плохо видеть, разучился ли совсем... Нет, она улыбалась ему, но даже не бросилась навстречу, распахнув крылья своих объятий... Черт, он даже вспомнить не мог, как это было прежде! Друг друга же они прекрасно понимали по взглядам, по улыбкам, легкому подмигиванию, кивкам, другим секретным ужимкам обычных девчонок, по сравнению с которыми он вдруг словно бы резко повзрослел, постарел даже, а душа его стала как бы мудрее, но потеряв чувство какой-то простоты... Он не мог понять, о чем они безмолвно переговаривались, весело поглядывая на него, кого собирались, видимо, разыграть... Но молчали! Потом они вдруг легко вспорхнули, словно крылатые феи, со свои мест, обнялись, закружились так быстро, что даже потеряли чуть равновесие и чуть было не упали на него, чего ему страстно захотелось, но... Он уже почти протянул к ним одеревеневшие руки, готовый вернуться, как его вдруг остановил их журчащий весело смех, в который вплелся простенький вопрос, очень простенький: - И кого ты из нас выбираешь? Нет, только одну! Двоих нельзя – ты же знал! Чур, меня! Чур, не меня!.. - смеясь, наивно поблескивая озорными глазками из прорезей одинаковых масок, откуда-то взявшихся на их лицах, спрашивали они почти одинаковыми голосами, то и дело меняясь перед ним местами, отчего он даже не всегда успевал различать их. Он видел в их нарисованных усмешках, улыбках ли, что они-то знают ответ, что он даже нравится им, но больше им нравилась его нерешительность, осознание ими того, что он-то не знает этого ответа, что он просто не может ответить, как и раньше, когда даже не задумывался над этим, не собирался выбирать и даже считал себя вправе не делать этого... А они продолжали веселиться, танцуя вокруг него, словно елки, по всей студии, высоко подбрасывая над головой белоснежные листы с нотами, которые кружились над ними, словно опавшие листья каких-то волшебных, вечно белых, зимних деревьев... В какое-то время ему даже показалось, что они совсем забыли про него, а просто веселятся, как обычные девчонки, оказавшиеся вдруг в своем немного забытом детстве, куда уже не очень надеялись попасть, если бы не этот невероятно счастливый случай, именно случай – но не он... К сожалению, он не мог порадоваться вместе с ними и даже за них - что-то ему мешало. Словно он потерял на то право! Там потерял, где пришлось выкручиваться, выбирать из двух зол меньшее, пусть немного, но лгать, отрекаться от чего-то, пусть даже не на самом деле, а лишь ради чего-то хорошего, ради этого же, ради.., ради... Он не мог даже вспомнить и это - ради чего он все то делал, хотя и помнил – что, но словно это было не с ним! Ему вдруг начало казаться, что он вообще ничего не совершил, что все это и сотворила, сочинила сама Муза и, если бы он не мешал, то у нее бы все вышло совсем иначе, без той лжи, без той неизбежной грязи, плесени, с которой ему хотя бы столкнуться, но все же пришлось, да и не только столкнуться... И он вдруг почувствовал себя совершенно лишним, чужим здесь, среди них, даже не тем плебеем, который протестовал, мог сбежать, броситься в омут, а просто лишним... Он просто и ушел, четко и противно осознавая, что этого никто из них двоих даже не заметит. А музыка звучала и без него... Закрыв за собой дверцы шкафа, он заторможено выкурил пару последних папирос, тупо осмотрелся вокруг, ничего не видя, и размеренно, аккуратно, как в гроб, лег на диван и словно упал в безмолвную, совершенно пустую бездну, чем-то похожую на алмазный карьер, на блестящем дне которого его поджидал Тот, набычившись и... И ему вдруг невыносимо захотелось вырваться оттуда... И он рванулся вверх, но, как вскоре осознал, ощутил ли, оказался в каком-то ужасно тесном и душном проходе, точнее, в нескончаемой, невероятно запутанной череде узких нор с едва различимыми стенками, прикосновения к которым и позволяли ему ощутить себя, странно похожего на почти бестелесного «червя», изо всех сил пытающегося вырваться из этой бесконечной ловушки вслед за своим «взглядом», чем часто и представлял себя во сне, в неузнаваемом ли зачастую шлейфе былого. Что-то подсказывало, что весь тот хаотичный лабиринт ходов – тоже он, тот самый не-Я, но ставший каким-то чужим, враждебным, пытающимся раздавить его или же выдавить из себя пульсирующей чернотой едва осязаемой плоти, со смачным чавканьем захлопывающейся где-то позади того кольчатого червя, напоминающего чем-то и кусок кинопленки с множеством разных кадров, фрагментов минувшего, которое, оказывается, всегда было с ним... Но будь и так, просматривать их было некогда – он рвался наружу, на волю! И он вырвался, наконец, оттуда, вновь ощутив себя просто неким объемным взглядом с едва различимыми крыльями ресниц, с облегчением затрепетав ими над распахнувшимся перед ним, точнее, под ним ландшафтом, хотя, скорее, картой, планом ли странного города, отсюда, с высоты даже более похожего на громадную, от горизонта до горизонта, электронную схему, печатную ли плату некой супер-ЭВМ... Город был невероятно зеленым, с множеством парков, бульваров, широких газонов, разделяющих относительно узкие, порой едва заметные среди крон деревьев серебристые тротуары, дороги, посреди, по краям которых повсюду тянулись ветвящиеся ряды серебряных рельс, проводов, труб... Здания вдоль них и в кварталах были сверху весьма похожи на микросхемы, а люди, снующие меж ними, от дома к дому, от двери к двери, меж остановками – на электрончики, так же примерно носящиеся по схемам в поисках подзарядки, новой информации, перенося ли уже обретенное по вполне определенным адресам. В их, вроде хаотических внизу перемещениях отсюда, сверху можно было заметить вполне определенный порядок, определяемый схемой, ритм, пульс ли, задаваемые неким хронометром, невероятно сложным, но гармоничным спектром незримого электронного поля, пронизывающего весь город, небо над ним,.. и даже смысл! Да, ведь благодаря их нескончаемому движению город и жил. Остановись они, исчезни – и он станет похожим на громадное кладбище, особенно, благодаря множеству едва заметных сверху памятников... Были заметны отсюда и другие сооружения, так же чем-то напоминающие радиодетали... Взлетев еще выше лишь несколькими взмахами ресниц, он увидел, что и город оказался лишь отдельным узлом более громадной, преимущественно зеленого цвета платы, соединенным с другими узлами, узелками паутиной серебряных проводников... Взглядом уже геолога он различил и неоднородности в строении ее основы, преимущественно состоящей из разнородных покрытий, слоев, причем полупроводникового состава, с множеством уже природных серебристых полосок проводников, точнее, рек, ручейков, образующих весьма сложный, но закономерный рисунок в целом... Вспомнил он и то, что было там, под поверхностью, в многослойных земных недрах, разглядел вскоре и далекие океаны на горизонте... Вскоре и вся Земля предстала пред ним некой сложнейшей Электронной машиной, где и континенты были лишь отдельными платами... Да, а каждый ее геологический слой казался лишь напластованием на ее «магнитной ленте», хранившей в себе информацию обо всей ее истории, Жизни... Нет, конечно, больше, насколько это вообще возможно во сне, думал он сейчас о себе, поначалу, пытаясь охватить взором всю невероятную сложность и грандиозность открывшегося пред ним, и себя представляя столь же громадным, почувствовав себя почти Богом, творящим нечто одним воображением, силой мысли! В голове его вдруг громко зазвучала Музыка Сфер, закружился вихрь галактических спиралей, запрыгали нотки черных дыр на незримых, черных струнах-струях Вселенной... Но едва он представил всю Землю опять чем-то цельным, некой единой схемой и прочее,.. как и сам вдруг словно схлопнулся до размеров муравья, почти атома, который прежде тоже считал не столь простым скопищем неких банальных частичек, а... Но все равно – пылинкой, а свои поначалу столь яркие откровения – лишь неким байтом всеобщей, вселенской информации, которую никак не мог охватить в целом, понять, а, тем более, что-то сделать с этим... Буквальность мышления ли взяла свое и здесь... Музыка вдруг рассыпалась, словно паутинки струн расстроились... Он начал стремительно падать вниз, обратно на Землю, словно в замедленной съемке видя, как там все быстро меняется... Зеленая основа платы стала на глазах ржаветь, поначалу лишь покрывшись неким подобием игривой позолоты... Поля, леса становились едва отличимыми от голого камня гор и пустынь... Серебряная фольга рек, рельс сначала покрылась какой-то радужной пленкой, на глазах становящейся серой, потом бурой, став вскоре едва различимой на окружающем фоне. Все то происходило и в том городе, строгая, тщательно спланированная схема которого стала покрываться, обрастать хаосом цвета, нелепых, выпячивающихся бессмысленностью, мелких форм... Не этот хаос форм тревожил его, а воцаривший вдруг на дорогах, тротуарах, газонах, во дворах, где беспорядочно метались, сталкиваясь друг с другом, с машинами, деревьями, столбами, тумбами не похожие друг на друга люди с пустыми, порой безумными взорами. Беспорядочный шум, гул, гомон их голосов, рев клаксонов - какофонию города, дополнял треск тысяч дверей, судорожно распахиваемых прохожими, врывающимися в подъезды домов, в магазины, банки, офисы,.. буквально через миг выскакивая обратно, устремляясь к другим, часто путая двери с витринами, которые не легко было различить на стеклянных, пластиковых стенах зданий, какими те оказались, едва он очутился на перекрестке, чуть над перекрестком ли одного из его проспектов. Ни по плану сверху, ни по прохожим разных наций, рас, времен, в разных одеяниях, ни по мерцанию рекламы, вывесок... он не мог узнать, что это за город, даже в какой стране, части света он, напрасно напрягая память, пока... Да, пока полупрозрачные стены зданий по обеим сторонам проспекта, в поперечных улицах, переулках не засветились, как некий единый экран, на котором распахнулась вдруг панорама совершенно другого города, который он тоже не успел узнать, поскольку она плавно, как-то незаметно сменялась панорамами других городов мира с изредка узнаваемыми элементами архитектуры, но все с теми же, бессмысленно мечущимися по их улицам, тротуарам машинами, повозками, прохожими, всадниками,.. в какофонии голосов которых лишь изредка слышал знакомые слова на разных языках мира, вдруг даже забыв, а какой из них – его родной. Да, особенно, когда оказался на каменной мостовой посреди широченного проспекта, ведущего к странно знакомой, недостроенной еще, а, возможно, уже разрушаемой небесной стихией башне, с которой, как кирпичи, сыпались слова... И лишь когда оказался на пересечении Васильевского спуска и Кремлевской набережной, почувствовав кожей влажное прикосновение ветерка с Москвы-реки, а потом – посреди памятной, узкой улочки Китай-города, но во Фриско, откуда вскоре вернулся на Светланскую улицу с панорамой Золотого рога, ощерившегося вздыбленными рогами нового моста, свисающие с которых тросы напоминали ее серебряные струны,.. он вдруг понял, что то был некий город-городов, принципиальная ли их схема, которую создал... Увы, в тот же миг картинки его города сменила панорама невероятно запутанного Лабиринта, уже виденного во снах, простирающегося от горизонта до горизонта, и далее, в дымку бесконечности... – Но что же такое Лабиринт: Хаос, путаница, или схема, система, понять которую нельзя, пребывая в ней, ее частью, аватаркой Души, Музы ли, которым и не положено знать, как пустым аватаркам? - вопрошал он, не зная, какой ответ лучше. Хаос, судя по недавним событиям, казался земным, рукотворным, легче преодолимым не системой, планом, детерминантом, а интуицией. Его теория и практика казались понятными и тупицам, дилетантам от нынешней политики, взявшим его на вооружение во всем мире! Некие муд(р)аки убедили их в его келейной управляемости, представив чуть не манной небесной некоего Стива Манна, хотя наш былой опыт трижды показал – какой ценой достигается порядок в Хаосе смут! Да и его, удачный как бы, опыт имел весьма сомнительный итог, как он предчувствовал уже по их реакции. Ведь и логически Хаос непреодолим, как множество неопределенностей, и его выход оттуда оказался всего лишь... - Надо ли было выходить - вопрос?! - потому он, не думая ни о личных, чужих ли целях, мотивах, попытался взглянуть на тот со стороны, издалека, хотя мог уже давно это сделать даже во снах, столько раз видя там почти всю его схему, кроме лишь того узла, где и... Но он опять не успел разглядеть, потому что оказался вдруг посреди одной из его коротких, но довольно просторных галерей, обрамляющие которую стены были зеркальными, отчего вокруг распахнулась от горизонта до горизонта лишь пустынная каменная мостовая, где-то в дымке горизонта смыкающаяся и по цвету с ясным, лазурным над головой, безоблачным небом, под которым в разные стороны, будто бы навстречу друг другу и ему самому, и сопровождая его, брело невероятное множество его бестелесных двойников,.. одним из которых он и сам себя почувствовал, особенно, когда геометрия галерей, стен вдруг резко стала меняться, искривляться, перестраиваться кем-то, и он уже с трудом различал не только путь, куда идет он, но и «идущих» по нему, включая себя... Подспудно он понимал, что сама геометрия, схема Лабиринта может устроить и весь этот Хаос, но и задать вполне определенный, весьма строгий порядок шествия среди него и всех его мнимых, виртуальных ли «аватарок»... Интуиция его молчала, у него не было никакой цели – только вырваться из Хаоса, что можно было сделать, или закрыв глаза, или остановившись. И он, спящий, остановился, как и мириады его двойников, посреди восьмиугольного зала Да Винчи, его Зеркальной комнаты с мнимой, но рукотворной бесконечностью, со строгой геометрией мнимости, строгим порядком в рядах отражений, что склонило его к «мысли», что Лабиринт, творение Дедала, а, может, и самого Творца, создававшего и наш Мозг, и был создан, как безвыходный Хаос троп для нашего бессознательного «зверя», для которого и стал ловушкой, но... и как схема-программа множества Путей вперед – не назад, не возврата, как у Тесея – даже по кажущемуся замкнутым, заколдованным кругу действительности – для мыслителей, творцов, хозяев и своего Лабиринта-Мозга, и для остального, ведомого ими Человечества, со всеми его атрибутами человечности: Добро, Любовь, Красота, Искусство, Творчество, Разум, Музыка!.. Му... - Идиот! Атрибут! - рассмеялся он во сне над собой, словно оправдываясь перед строями, рядами своих двойников, прячущихся чаще за ближайшими к нему, хотя во сне мог видеть и всех их. – Почти все перечисленное – ее творения, ее Гармонии, Музыки сфер! И в кажущемся Хаосе форм-цветов Кандинского – ее, бессмертной Музыки, Гармония, без которой и последний Хаос никогда б не стал новой Вселенной, давно, в веках, что прошли до,.. рассыпавшись в пыль Хаоса! Ты ведь видел у него ее Музыку? И слышал! Он и писал картины на холсте, как на нотном стане, стремясь уподобить живопись самому абстрактному, отвлеченному, чистому искусству... Или не так? Или ее сонатина была хоть чем близка к их пошлой, примитивной реальности, вторила ей? Да, даже моим о ней представлениям, хотя я тоже раньше подбирал музыку под предчувствия, представления: от радужных жучков до глубокого, подсознательного пурпура, вплоть до черного шабаша названий, имен уже не Адама, а «Перекати-поле», рыщущего среди камней Вавилонской башни, не собирая, не разбрасывая их – сокрушая! Тогда, в 50-80-х Музыка еще была, еще задавала ритм и быту! Остался лишь Рок, но в нашем звучании, смысле и обрекший мир на ненасытный, обезьяний Хаос Попсы, среди коего наши рокеры – в пику западным – стали, наоборот, запевалами-подпевалами мещанской барахолки, с кайфом названивая сребрениками нот... Трудно сказать, Иван, с чего началось: со Слова, Цвета, Музыки ли, - но не случайно именно Рэгтайм, предтеча Джаза, и стал буквально «разрывом времен», ритмов, вернувшихся к кроманьонцу с Прародины, не склонившихся навек даже в «променадах с пирогом» Кекуока черных слуг романтизированных мещан во «дворянстве», придворных хлева Золотого Тельца. Но шедеврами даже «Салона отверженных» владеют его «пастухи», «конюшие», миллиардеры ли... Но Слово, нет,.. Музыка нового «Перерождения» и родилась в темных массах, и живет среди и за счет них, их голосов – для всех слышащих!.. И сегодня Ее нет там, в плену его хлева, среди звона золотых копыт, рогов, несмолкаемого хруста заплесневелого сена... Даже слово, хоть с маленькой буквы, но, как цифра, прислуживает, вторит бессмысленному, НеЛеПому мычанию Минотавра, позолоченного лишь песками Синая, все ж неслучайного порождения вечного Духа и смертного праха. Да, неслучайного, планового даже порождения Высшего Разума, но, как и Его Логика, тоже не знавшего, что же делать с порожденной уже тем наготой Лжи, даже при всевышнем отрицании порождающей лишь Хаос неопределенностей. Ему даже пришлось, упредив Кардена, Юдашкина, скрыть примитивными шкурами свое почти идеальное творение прежде чем изгнать его чрез единственный выход из бессмертного Рая, где не могло быть и не-не-белых снегов – в созданный для того логический Лабиринт самопротаптываемых троп Земли, почти безысходный... Ни одной же нити, пряди в их исходных одеждах не было, если верить Слову... Да, ее смогла соткать Ариадна! И не-не-белых снегов, льдов здесь появилось столько на картинах Левитана, Рокуэлла Кента, Рериха, зрящих наготу Его Природы даже в морозные дни! Да, Иван, я молчу о множестве дополнительных цветов Ван-Гога, о фантасмагории цветов и форм Василия, о чем-то ли подобном на стенах допотопных пещер, древнего Чатал-Хуюка... Тем более, об иконах, фресках капелл Его храмов – ничего этого в Его Космосе, Раю не было, но теперь есть – в созданном нами, названном ли на свой лад Его мире... Да, не только созданном, но и попутно разрушаемом... Тысячи и тысячи творцов, вторя Ему, даже соц-реалисты, натуралисты исправляли, дополняли, опровергая и друг друга, и Его самого, его Творение, Истину ли, созидая нечто совершенно новое, чего не было в веках, минувших до них, но останется уже на века... Да, они были не одиноки, хотя не столь ясно, кто и где «создал» и множество попутного, лишнего, не просто отсутствующего во вселенной, но и в целом нечто мнимое, бессмысленное, даже враждебное нам, типа денег, власти, алчности... – неотъемлемой сути нынешнего мира. Судя по Адаму, Каину и их первым «творениям»: греху, брато-убийству... – мы сами, потомки верного себе во всем изгнанника! Но, судя по творению пришлых из «ниоткуда» основателей Шумера – тем же пустышкам-деньгам, ныне правящим миром – не только мы сами, хотя и для всех, даже апологетов Искусства, Разума... Среди модернистов, их ли предтеч не зря называют - кроме Достоевского - и Фрейда, реинкарнированного мифотворца, но воплотившего, вернувшего мифы древности в нас самих. Не скатился до банальных наследственных инстинктов нашего плотского, многоликого зверя, а заново мифологизировал их, щадя, может, наши ранимые души, Либидо, проявляющее себя во всех ипостасях. Но я не о нем! Я – о нас, и физиологически, биологически, генетически, и в любом – даже искусственном - случае потомках Зверя: о Кентаврах, Минотаврах, Сфинксах и прочих персонажах той же Египетской, звероглавой живописи, весьма детализировавшей творчество, культы и далекого во времени Чатал-Хуюка, предшественника и Крита... И тут мы вновь попадаем в единый Лабиринт, в Египте более сложный, двухэтажный, в наше время обретший еще три-четыре этажа, включая новейший Виртуальный, некий информационный синтез всех остальных, но все еще обитель Минотавров и прочих звероголовых, вновь и как бы оправдано не считающих грех грехом, зло – злом, попутно плодя то и в реальной жизни, теряющей защитные функции порядка, невольно обращая ее в Хаос. Увы, в творении техногенной Сингулярности Разумом был неизбежно осуществлен сдвиг главных исходных условий: Слово осталось, но плоть, прах перестали быть таковыми, сменившись аватарками, иконками и нас, и материального мира, и ставшего Театром, где и смерть не была смертью! Отсутствующая там Жизнь обрела бессмертие, но потеряв ценность! Там нет строгих социальных, гендерных, матримониальных связей, барьеров, будто Человек вновь начал путь, но не с Рая, вновь став Герм-Афродитом, но созданным не Творцом. Хаос неизбежен, хотя и был порожден Разумом, строгими алгоритмами, Логикой, и в Начале было «Слово», порождающее Все, в нем и «живущее», проводящее там пока большую часть свободного времени, не живя, а играя в жизнь. Гендерные различия сохранились пока в том, что у мальчиков преобладают Каиновы игры разрушения, а у девочек - «Созидания» Евы, что неизбежно должно бы окончиться Матриархатом, но... Чьим? Сколько их уже сегодня в армиях, даже командуя ими?.. Абсурд!?.. Но не это, уже неизбежное, мучило его и во сне – а почему и зачем Она рушила и Лабиринт, как ему, правда, показалось, если у этого мира не оставалось никакой иной схемы, программы, Логики действий – кроме него? Он ведь знал, что Лабиринт – это и возможность множества решений на весьма ограниченном пространстве возможностей, где реализация их все равно не выйдет за рамки некой исходной заданности, схемы, созданной Дедалом, Создателем, но где все зависит и от самого обитателя, от путника? - Ведь ничего другого не остается, и «Теория управляемого хаоса» - это не теория, а очередная спекуляция, - восклицал он во сне, - поскольку в этом Хаосе, только кажущемся им рукотворным, и все их, исходно нелинейные функции, подпрограммы тоже теряют смысл! Они ж и там вместо прогресса запустили цепную, типа известную им реакцию, но самоуничтожения кажущегося им лишним Человечества, явно надеясь на исключительность своей осведомленности? Ну, посылая в жертву одному Минотавру по семь юношей и девушек, Каину ли обещая отмстить его всемеро, а семя его Еноха – и в квадрате! Гармония смерти? Ха! Но что мог придумать Monkey-Head Манн, возомнивший себя, как и сподвижники, хозяйчиками Вселенной, не знающими лишь, как сладить с обычным для Земли периодическим Хаосом самоочищения от вшей, блох, разбивающим вдребезги все их надуманные, нелинейные конструкции обогащения? Да, Иван, они непричастны к началам, даже к пониманию Хаоса - и с Рэгтайма Америки, с «Салона Отверженных» Европы, где урожденный идеалист Кандинский и расставил почти математические точки и запятые, подвел черты, из Хаоса сотворив Идеал! Те же, как звери, бизоны, надеются спастись от «пожара» и его всесокрушающих полотен линейной функцией бегства в Земли Обетованные, этак разумно, ну, расчетливо расчищая те чужими руками... Вся их «теорийка упр...», якобы возвысившая менял не только над Христом, но и над всеми земными Богами! Увы, но и у наших капитулистов, их последышей, усугублявших с их подачи Хаос, но для жертвенных толп, якобы, нет одного – нити Ариадны, по которой они могли бы выбраться из Мирового, может, и Вселенского Лабиринта, созидаемого тысячелетиями и миллионами Дедалов... в первую очередь – для них, звероголовых! Да, кроме творений Искусства, ради коего и был создан Человек, они, попутчики, еще с Рая, с первых шагов по Земле натворили столько попутного, лишнего, враждебного и себе: Money, money Monkey! - безысходный, хоть и бесплотный лабиринт, неизбежно кончающийся бессмыслицей Сингулярности, куда их мирок и катится, пытаясь удержаться пустыми нулями за бесценные, вечные сокровища Творчества, зримой хотя бы Живописи! Чует Зверь: больше не за что! От его нулей лишь пасть шире разевается, задыхаясь, что бы ни верещали ободряюще под тяжестью мешков продажные паяцы, обратившие и Театр, и КИНО в беспроигрышное для себя КазИНО!.. - Но их лабиринт, их мирок мишуры и рушила Музыка! - воскликнул он, вспомнив весь путь. - Лишь она и могла, непричастная, явившаяся на крылах птиц задолго и до нас, и ныне даже в воплях Попсы, в монологах Рэпа обличающая, отвергающая, втаптывающая его в прах. И мне так не хватает сейчас крыльев моей Музы?!.. От последнего слова он и проснулся, вскочил, забегал по комнате, плохо соображая, где находится, забывая и сон... Вспомнив что-то, он бросился в шкафу, распахнул дверцы, но и за ними, кроме запыленного черного пальто и полотенца, ничего не было... И за картонной стенкой он обнаружил только глухую, правда, не выгоревшую на солнце, показавшуюся ли свежевыбеленной, стену... Все было как тогда, когда Надежды вдруг не стало, когда она покинула его навсегда, даже не предупредив и себя... Только ее портретик печально улыбался ему со стены, словно никому... Да, на пальце он обнаружил золотое, а, точнее, позолоченное колечко, от которого кожа уже стала слегка зеленоватой. Но это его совсем не удивило, а, тем более, не обрадовало. Во все то, якобы произошедшее с ним, вполне можно было поверить, но и это уже ничего не меняло... Поверить было невозможно в другое, от чего в душе осталась абсолютная пустота, словно он упал в ту бездну за стеклом на самом деле. Он не мог поверить, что так нежданно замолчала его Муза, и даже в памяти он не слышит ее печального, радостного, молящего или всесокрушающего голоса... Он не мог поверить, что не видит и красоты Татьяны, ведь с портретика на него смотрела не она, хотя и была невероятно похожа, так же, но все же иначе красива... Он не хотел верить в то, что это он сейчас здесь, тот, кто, ничего, вроде, не имея, столько теряет, опять только теряет... Лучше бы это все, и правда, было сном, только для него одного сном, потому что в других он был не уверен. Они все там были словно на своих местах, чего-то добивались, на что-то надеялись, к чему-то стремились, быстро меняли мнения и все остальное... Кроме него... Все, что происходило с ними и с ним тоже, он как бы и там видел со стороны, так, как и видят глаза, словно они были только замочными скважинами, в которые он лишь подсматривал за происходящим, машинально кое-что поправляя с помощью пульта с несколькими кнопками, когда надо было подправить чье-то положение, в чью-то пользу слегка исправить ситуацию... А ведь ему даже показалось в один миг, что его туда привела вполне ясная цель, какое-то страстное желание... Но где оно, его собственное? Тоже мираж, как и Лабиринт? Или только оно и мираж? Он вдруг почувствовал себя страшно тесным, душным кинозалом, где кто-то недавно показал забавный фильм, после которого там остался лишь пустой экран и пленка с множеством кадров, к которой он имел лишь некое отношение стороннего зрителя, хотя еще совсем недавно... Странным было и то, что такой итог не удивил его, он словно был готов к нему и уже давно, почему, видно, и выбирал не свой путь, не ради себя, предчувствуя, явно, что любой из них приведет сюда же. Какая тогда разница? Когда он то понял, ему, действительно, стало все равно. Почистив пальто, где обнаружил серебряный брусок и, положив тот в банку с водой на окне, он оделся, взял дипломат с рукописью и пошел в город, попутно вынув из почтового ящика чью-то странную на вид телеграмму, которую машинально, не читая, не ожидая уже ничего, сунул в карман... Увы, и мостика уже не было, так как по нему не к кому было идти и возвращаться, как не было больше и двух берегов, да и весь город был укрыт одинаково белым, пушистым снегом, продолжающим сыпаться с разрешившегося бременем неба огромными снежинками, каждая из которых была похожа на сверхновую, появления которой на небесах сегодня все будут ждать, но напрасно - этого просто никто не увидит из-за снега, даже случись оно... К сожалению, опять были сумерки, и Андрей не узнал, исчезла ли серость или просто была засыпана снегом, как и скользкая змеиная кожа тротуаров замерзшей Леты, предательски скользящая под ногами. Но в этот мягкий, щекочущийся снег, так похожий на лебединый пух, было приятно падать, из него совсем не хотелось вставать, ведь все равно идти было некуда... Нет, он понимал, что возвращается в первую жизнь, потому и ключи от дома Надежды почти сразу зашвырнул куда-то с закрытыми глазами... Не в свою собственную, которой уже давно не было, ведь он ее всю отдал им обеим, а то, что осталось - ему самому было совсем не нужно. Он просто возвращался в жизнь, боясь одного – нечаянно, безысходно влюбиться и в нее, как то случается с детьми, едва лишь они в нее попадают, выпадают ли из небытия, хотя... Но если она была вдруг такой же, какой он видел все вокруг себя еще не так давно, то это бы случилось неизбежно... Наиболее часто встречаемыми сегодня прохожими были бомжи и Деды Морозы, спешащие куда-то с огромными, красными мешками или плетущиеся в никуда с пластиковыми пакетами. Он вроде бы вспомнил, что сегодня было первое Рождество, которое у нас, как и второе, наше, еще не принято было особо праздновать, поэтому обилие Дедов Морозов на пустынных улицах его немного удивило. Первое рождество отмечали лишь малочисленные группы протестантов и католиков вместе с редкими прихожанами, а также новые совки, связанные или ищущие связи с западным бизнесом, да еще и наша продвинутая богема, которой был бы лишь повод. Потому других живых свидетельств Рождества он на улице не заметил, хотя всюду: около элитных магазинов, офисов, забегаловок - сверкали огнями электрические елки, реклама, гирлянды разной формы, но с непременными, почти волшебными тремя нулями, словно бы и оставшимися от трех девяток, от трех вполне оптимистичных запятых былого... Увы, еще лет десять назад он ждал совсем другого от этих нулей, ну, да, обнулявших как бы все былое и начинавших отсчет заново... Там он был далеко не одинок, особенно, среди науки, научных фантастов, среди которых в этом веке, наоборот, появилось намного больше т.н. «пророков», вещающих уже не о расцвете земной цивилизации, а о ее гибели, Апокалипсисе... Да и сам он уже готов был перейти в лагерь последних, если бы... Но это уже другая история... Глава 29 Мигающие огни елки он увидел и в окне пока еще театра Леона, вспомнив, что тот уже не первый раз предоставляет свои площади западникам для празднования их Рождества, давая возможность и своим артистам хотя бы попить, поесть, пожить за счет чужой Веры... Двери были открыты для всех, ведь миссионеры этот праздник ранее, в прошлом почти веке, использовали для роста рядов сторонников, поэтому только, как он убеждал себя, Андрей и направился к театру, куда уже стекались редкие прохожие, подъезжали и роскошные машины, те «мыши»... Закрыт был лишь гардероб... В паркетном зале кучковались гости, некоторые сидели за столиками в просторном артистическом буфете, где в обычные дни Леон кормил своих артистов вместо зарплаты пустыми щами, бескровными бифштексами. Он сразу заметил своих друзей, которые в этот раз довольно холодно его встретили, и только Теодей, виновато шмыгая понурым шнобелем, выдавливал из себя редкие фразы, перескакивая с темы на тему. Гога и Виллисов даже отошли в сторону, подчеркнуто повернувшись к нему спиной... - Да, Эндрю, все кончилось благополучно.., - мямлил Теодей, старясь не смотреть ему в глаза, оправдывая это малыми вырезами для глаз в маленькой же маскарадной маске, поскольку большую он не смог бы надеть из-за своего носа. - Все ведь всегда кончается благополучно, даже если не очень стараться... Наше, кстати, представление вполне оценили, хотя Леону это не простят, не простят потому, что получается, что это не он играл, а те как раз, ну, тот... Но мы не смогли, да, не смогли, и он тоже... Но у меня и не было никаких надежд, никогда не было... Понимаешь, нам даже вредны перины, потому что душа на них засыпает... Нам даже лучше, когда с нами борются, бьют, гонят, и тогда нам не надо самим выдумывать повод, создавать самим себе преграды, и остается много времени и сил для духовного сопротивления тому, что они сами обеспечивают своей глиной. Работа землекопов, горшечников - их работа! А так нам бы пришлось самим создавать и то, чему мы должны противодействовать. Они должны создавать и искушения, на которые мы не должны... Поэтому даже хорошо, что ты ушел, что мы не победили, то есть, не воспользовались плодами пира во время оно... Ладно, я пойду, а то редко доводится пообщаться, ну, и, сам понимаешь, пообедать... За дальним столиком в буфете он заметил Валерия с Петром, довольно сносно изображавших народников, даже гордясь своим настоящим рубищем и обличием, хотя сегодня на маскараде они были не одиноки в подобном наряде. - И ты тут? - процедил Валерий, небрежно ломая булку и высоко поднимая вилку с закусками, не позволяя себе и чуть нагнуться. - Надеешься, что тебе вновь поверят? - Валер, - рассуждал Петр, не поднимая глаз и основательно работая над тарелкой, - верить можно только в бога, но не в человека! Последний слишком слаб, чтобы возлагать на него такую ношу после падения язычества, когда он стал далек от своего бога! Андрей, наливай, звезд сегодня все равно не видно. Да, это и не наше рождество, сам понимаешь, поэтому мы не погрешим... - Я, Валера, и тогда не за этим шел, хотя,.. - равнодушно отвечал тому Андрей, но только, чтобы говорить о чем-то. - Конечно! Цель у всех одна – карьер, а! - язвительно усмехнулся тот, пододвигая к себе очередную пластиковую тарелку. - Вера - это лишь средство для его достижения, это понятно... Но не для нас! - А что делать, Валер? - в том же духе продолжал Петр, торопливо выпив рюмку водки. - На Голгофу взойти можно только одному, ну, с парой случайных попутчиков. Это ведь даже не четырехглавый идол! А куда идти остальным? Почему бы не в карьер, где больше кругов, поворотов? Вот, снова поворот! И гонит Макар телят, пока самого не погнали! Сплошь повороты, а прямого пути туда нет, не бывает. Это ведь тоже их выбор, имеют право на него, и мы разве не за их право боролись? Да, даже за их право на ошибки! Даже за его?.. - Увы, но права не ошибаться, не грешить как бы и нет, - проговорил Андрей, налив себе вторую рюмку и тут же выпив, не закусывая, - это наша обязанность, долг как бы, святой даже... - Интересный вопрос! - воскликнул Петр, аппетитно прожевывая колбасу на остатках зубов. - Выходит, что права - только для грешников? Толерантно! Ведь и борьба за гуманизм, за права человека, личности началась именно как борьба с властью и той же непогрешимой церковью Рима? Это мы только еще и за право верить, за свободу совести как бы с таким опозданием стали бороться, хотя в том, возможно, и состоит абсурдность наших реформ. Да-да, борясь за свободы мирские, мы ведь боролись и за добровольную кабалу веры, ее-то сполна получив, весь мировой букет партий Бога? Противоречие! Вот и... Воля вольера или Вольтера! Странно, очень странно!.. - А ты какое к тому, к борьбе отношение имеешь? - презрительно спросил Валерий Андрея, с усмешкой наблюдая, как тот наливает третью. - Или ты и свои якобы ошибки грехом не считаешь? - Меня лично этот вопрос вообще не волнует, - ответил ему Андрей, слегка морщась и промокнув губы рукавом. - Добиваться своих прав, клянчить, кичиться ли ими - я уже считаю самоунижением, а на остальных, на рабов, мне наплевать, как и на эту жизнь, состоящую из твоих, из их ли условностей, норм, прав, обязанностей их соблюдать... Мне достаточно, что могу считать себя свободным от всего, даже от твоей борьбы за свободу... Я, к счастью, увидел то, с чем ты пытаешься мужественно сражаться, и мне стало просто смешно! Это даже не донкихотство, это война с... Не хочу сегодня произносить это слово, хотя мне и на это наплевать. И вопрос даже не в нем самом, а в том, для чего они это используют! Извините! Скажи, кто твой враг, и я скажу - кем бы ты хотел, но не можешь стать... Сказав это, он налил себе еще, выпил, и пошел дальше... А зал уже был почти полон гостей, среди которых было слишком много ряженых, что его даже развеселило... - А разве на Рождество тоже наряжаются? - спросил он у девушки, одиноко стоящей рядом с колонной, и сам же ответил. - Ах, да, ночь перед Рождеством! Созвучно ряженым и в ангелов... - Но сегодня ведь не Рождество, - улыбаясь ответила она, - сегодня – этот, миллениум, Новый ли Год, ведь тут же елка? - Не может быть, тогда же все начнется сначала, - засомневался и он, прислонясь от легкого головокружения к колонне рядом с ней, добавив, словно что-то вспоминая, - бедная Мария! - В каком смысле? - удивилась та, слегка порозовев. - Разве обязательно должен быть во всем смысл? Если должен, то тем более, - проговорил он. - Все равно же его нет, скольким бы он ни был должен, своим самонадеянным кредиторам? Здесь нет... - Не знаю, но все почему-то его ищут, - печально произнесла она, - ведь тогда нет вообще ничего, наверное... - А вы можете просто так, без всякого смысла, станцевать сейчас со мной? - попросил он, почти с мольбой глядя ей в глаза или даже глубже, поскольку увидел там что-то такое, что... - Конечно, хотя еще никто не танцует, - отстранилась она от колонны, послушно позволив ему себя обнять, легко поддаваясь его рукам, движениям... даже без музыки. Гости в зале с удивлением, равнодушно ли расступались, освобождая им место, которого им все равно было недостаточно, потому что только он один знал и слышал, под какую музыку они танцуют этот непонятный, стремительный танец головокружительной любви, которой больше никто не был нужен - только чьи-то руки, чьи-то слегка касающиеся земли упругие ноги, чьи-то закрытые глаза и слегка, трепетно ласкающие друг друга тела, узнающие только сами прикосновения, точнее, эти их земные звуки, отзвуки... А он уже не мог остановиться, поскольку Муза вернулась к нему ненадолго, впорхнула в его сердце, заиграла своими тонкими пальчиками на струнах его напряженных, рвущихся нервов, рассыпала в нем тысячи игристых пузырьков-нот, вспенив его кровь, которая превратилась вдруг в пенистое, смеющееся шампанское, наполнив его небесной пустотой, среди звонких звезд которой и зазвучала в нем своей первой и последней сонатиной любви, ее ли репризой, которой, кроме него, больше никто никогда не слышал и вряд ли услышит. Увы, она-то поняла, что это никому и не нужно - только ему одному, да и то, как память... Конечно, ей, девчонке, он сам был безразличен, как и вообще слушатели. Для нее в этом мире существовала только музыка, которая не могла жить лишь без любви, чьим дыханием она и была. И теперь, когда она забрала у него и любовь, ей осталось только оборвать тонкую струнку их памяти, чтобы нервные, печальные и, значит, фальшивые звуки не тревожили больше ее слух, не вносили даже легкий диссонанс в ее вселенскую гармонию... Он же для нее, видимо, был лишь тем паучком, который, соткав дивное кружево паутины, мог бы использовать ее не совсем в благих целях, не созвучных ее красоте, Идеалу Паутины. И она, видимо, потому и захотела оборвать единственную связующую их сигнальную паутинку, но на какой-нибудь приятной, созвучной своей и его душе, ноте, почему и вернулась к нему ненадолго, вновь вырвав его из объятий чуждой ему жизни, где ее уже не было... Может, из ревности... - Это была прекрасная, волшебная мелодия! - с восхищением сказал им вслед после этого танца Теодей, размазывая красные из-за маски слезы по покрасневшему шнобелю. - Ты все же счастливый, Андрей! Ты слышал ее! В сравнении с этим все остальное - пустой... Но Андрей не слышал сейчас и его... - Прости, Мария, я думал, что у меня еще есть время, но звезда уже давно, без меня родилась!.. - несвязно бормотал он, провожая партнершу к ее одинокой колонне между залом и буфетом, взяв по пути со столика рюмку водки и выпив, словно там была налита вода. - А теперь я должен успеть... Очень много успеть, потому что все невероятно быстро кончается... - У вас еще столько времени! - пыталась переубедить или просто остановить его она, словно понимая, что это надо и ему... - Земное время – ничто, так, нервный тик! За этот год, десять ли - точно не помню - я прожил вечность! - бормотал он, выпив еще одну рюмку, но не утолив жажды. - Но я пошел туда, в вечность, не взяв нити – не у кого было - и прошел мимо своего выхода. Да и вечность - не то, откуда есть выход. Это, скорее, и есть безвыходная ситуация. А я нашел... самый легкий! А надо было просто остаться там, но я не смог выбрать... И сейчас мне надо бежать отсюда, где нет ее, нет их... А ничто - это слишком много, это почти столько же, сколько и все, даже больше... Я должен был либо остаться там с ней, либо вернуться сюда к ней, но сделать выбор здесь почти невозможно!.. - Можно снова найти, хотя бы попытаться, - предположила она с сомнением, уже и не пытаясь его понять, удерживать, думая так же и о чем-то своем. – Но,.. хотя зачем нам еще ошибки? - Да, Мария, можно попробовать, нужно пробовать... все! - решительно сказал Андрей и направился вдруг, едва лишь заиграла какая-то музыка, к одной из масок, пригласив ее на танец... По ходу он чуть было не столкнулся с Леоном, который шел через зал, держа под руку даму в широкополой шляпе, поля которой почти закрывали ее лицо, и без того скрытое маской. Леон резко отдернулся в сторону, увлекая за собой и свою спутницу. Но Андрей почти не видел их, лихорадочным взором разглядывая потрясающую фигуру своей новой партнерши, с которой вскоре уже кружился среди редких танцующих пар, казавшихся на их фоне почти недвижными... Муза вновь вернулась к нему или пока еще не покинула окончательно, продолжая забавляться, поскольку вряд бы нашла еще кого-то, столь послушного ей. А партнерше его даже нравилось их стремительное кружение, их полет в диссонанс немного заунывному блюзу, который она вскоре тоже перестала слышать. Ей нравилось и то, как он непосредственно называл ее чужими именами... - Мило, очень мила Муза! - смешил он ее, соглашаясь с отказом снять маску, словно и предпочитая заблуждение. - Да и что-то конкретное вряд ли было бы достойно вас... - Мне и не хочется услышать то, что слышишь каждый день! Мило очень Мила! - отвечала она ему громко. - Если бы вы мне сказали: какая ты страшная! - и полюбили бы вдруг? А так не интересно! Так я не поверю никому, что меня, когда я надену маску старости, будут любить так же... сильно и не попросят ее снять... Сегодня такого не бывает! Сегодня и свое лицо со временем становится маской... Вот видите, вы даже ищете не меня и под ней... А Леона уже окружила цветная стена маскарада, за которой тот все равно резко выделялся своим светло-кремовым, немного пижонским смокингом, как и его дама во всем абсолютно черном, на фоне чего кожа ее подбородка казалась чрезмерно белой, самым ярким пятном стены. Андрею со своей партнершей пришлось обходить эту стену, чтобы вернуться туда, где она стояла со своей подругой... - Зачем тебе это? Ты и так счастлив! - прошептал ему предупредительно Теодей, стоя с краю. - Поэтому тебе не прощают даже своих грехов. А ведь никто из них так этот блюз не слышит, все думают - он печален, трагичен, а ведь он... - Да, господа! - продолжил как бы разговор Леон, но, наверно, услышав их. - Личная свобода, видимо, гораздо ближе, дороже несвободы других! Ради нее, наверно, можно всем пожертвовать, даже приличиями! Но моя личная свобода - это мой театр, это моя труппа, это.., и я, в отличие от этих... счастливчиков, не настоль свободен в своем выборе, я навеки обручен, обречен ли! Моя свобода - это сугубо осознанная необходимость, а для их свободы необходима, наоборот, бессознательность, разгул беса подсознательного! Ничем иным они свои поступки не оправдают, но нигде больше свободы и не достигнут - попытайся даже осознать ее необходимость! - Да, ты прав, Леон! - поддержал стоящий за его спиной мужчина, похоже, сразу в трех масках, скрывающих даже его, чуть знакомый голос. - Они и тогда думали, что их бессознательное не подвержено планированию, не понимая, что именно бес сознательный - самый изощренный, самый инициативный в мире манипулянт! И даже их собственная жизнь, где планируется смерть, а теперь - и рождение, и то не убеждает их в этом! И даже их Ад, я уж не говорю о... - Но ты все равно ведь уйдешь, Леон! - не сдержался Андрей, перебил его, проходя мимо и не замечая никого, кроме той таинственной дамы в черном. - Уйдешь, чтобы не погибнуть со своим театром вместе, чтобы убить, но не согрешив, не своими руками!.. - Да, я уйду, но чтобы только театр не погиб вместе со мной, не согрешив и не убив! - высокомерно отвечал тот, глядя в глаза Вилли, слишком усердно хлопая его по плечу. - Я лучше погибну сам! Но твой Глобус останется, Вилли! По крайней мере, я не стану его палачом! Я уйду, едва осознаю, что буду вынужден погубить свой театр своими руками, якобы спасая, маскируя под их балаган! Лжа! Ха!.. - Или ты раньше этим не занимался? Не маскировался под их мнимую соц-реальность, не маскировал, то есть, ее под эту действительность? - насмешливо спрашивал Андрей, не совсем понимая, зачем это ему надо. - Разве действительность изменилась? Ничуть! Та же, что и при Шекспире! Пусть не в кибитках, не в балаганах, но на тех же площадях, где вас, эстетов, почему-то не было ни среди актеров, ни среди сценаристов, режиссеров! Только среди телезрителей, телекритиков, как и большинство, которое тоже невинно, ни при чем, ну, и ни при делах в итоге! Телестатисты! А ведь то и был грандиозный телеспектакль, особенно в 91-м, ну, а в грядущем начале этого века – уже сериал... И кто его ставил? Незримые кукловоды... Тени! - Но если ты это знал, то зачем участвовал в нем? – почти одновременно спросили его Валерий и Леон, но последний профессионально добавил. – И в какой роли, кстати? Зачем и в том маскараде участвовал, даже разыграл его сам, поставил, да еще и нас втянул, завлек в их лабиринт, из которого и нет реального выхода?.. - Не знаю, наверно, в традиционной российской роли, - с усмешкой ответил Андрей, на что те оба громко воскликнули: - Дурака?.. Идиота?! – но Леон все же добавил. – Не слишком ли замахнулся? Может, все же опять искусителя, как и тогда, на площадях? И теперь жалуешься, что даже из их Райка выперли? - Но ты же не захотел... даже здесь поставить, сыграть хотя бы это?.. – Андрею совсем не хотелось говорить им правду, да и сам ее боялся потерять, еще слыша какие-то отголоски. - Ха-ха! Все думает, что это он придумал, поставил, даже сыграл... в подкидного! – рассмеялся тот, в трех масках. – Наивный! – Зачем тогда тебе театр? Прятаться от жизни? – Андрей не обратил на того внимания. - Они хотя бы себя тут будут во всей красе показывать, сейчас еще прячась под твоими масками! Да, их тоже не было на площадях, никого из вожаков – только старые партийные клячи, активистки!.. Почему? А потому, что в это время уже занимались делом, делили собственность, партийные бабки – готовились к новому, антагонистическому строю, публично, морщась при его упоминании, вопя против с трибун! Молчу о комсе, которая уже была на передовой, в бизнесе, почему, как ГБ, нас и поддерживала, даже охраняя, но за кулисами, в тени! Вся элита самоустранилась! Вся! Они уже были в новой жизни, уже создавали свой капитулизм, зная его лишь негативные стороны – почему он, в том числе, такой и получился. Не хочу говорить о западных советниках, шептунах, кого винить и глупо, как и ждать реальной помощи - от врагов... Виноваты ж все равно оказались мы, кто вышел сам, кого запустили на площади, строго по Высоцкому. Потому и говорю про идиотов, да про буйных... - Насчет них, вас согласен, но мой театр не трогай, пока он мой! – выпалил Леон, грудясь в кучку с соседями, особенно с дамой в шляпе, хотя та и сторонилась их всех, и от них прячась под шляпой. – Если ваша жизнь, ваша правда такая, то ей и не место здесь, на сцене, как и ее персонажам! Хотя я и не убежденный соц-реалист, конечно, но и не юный натуралист, как некоторые естественники! Но, слава Творцу, классики и на этот, похоже, век лихолетья хватит с лихвой... - Декамерона, Мольера,.. - не стал дальше перечислять Андрей, заметив его выжидательный взгляд. – Но ведь ты пришел туда все же, хотя я уже не надеялся, если честно... - Я пришел туда не из-за своей и, тем более, не ради твоей страстишки! – запальчиво заявил Леон. – Только ради Красоты, без которой и все это теряет смысл, конечно... Да, ждал, когда ты и Достоевского мне напомнишь, но, видно, духу не хватило? Да, он не устранился, пошел в самое его логово среди первых, первым и обжегся, в похожие чем-то и времена, увидев, наверное, все то изнутри, всю подноготную тех свобод, как и их обратную сторону... Но в его истинных героях я не узнаю никого из нынешних, никого, кого и назвать так язык не поворачивается! Бесы лишь и бесы... Стада! - Зато он их всех знает! Лично! – язвительно заметил из угла Валерий, но на его реплику даже Леон поморщился, не оборачиваясь. - И где она, Красота, - Андрей и не спрашивал, потому что знал ответ, как ему, возможно, казалось, хотя смотрел сейчас на партнершу, сочувственно ему улыбающуюся, - где новое Искусство, которое там и могло родиться, став авангардом, а не пост-постом?.. - Авангардом? Чего? Стада бесов? Лжи?! Музы ложь не переносят, как и нот фальшивых, - с усмешкой отвечал Леон. - Они ненавидят ее, почему и не приняли!.. Да, Красота спасет мир, но только своей правдой, ну, или погубит, если недостоин ее... Поэтому ты его и не назвал, наверняка, испугался своей же правды... - Она не умеет... ненавидеть, они не умеют,.. - говорил словно сам с собой Андрей. – Правда, Мила?.. Беда лишь, что, кроме нее, больше нет истины в мире, уже обреченном на хаос... Ведь даже здесь это лишь игра! А теперь и там всюду игра, Театр по обе стороны экранов, где все лишь играют: одни – жизнь, другие – в свою якобы жизнь, но буквально, как в спектакле, в чужом для всех! Многие же ныне вообще просто играют, начав еще в детстве... - Но при чем тут мой театр – в твоих блужданиях запоздалой совести? – возмутился Леон. – Ты сам отверг, даже свергал систему, строй, рушил порядок, а теперь печешься о хаосе, даже пророчить пытаешься? Не думал, что и тебя это коснется?.. - Я и говорю, что ни при чем, - продолжал Андрей. – Никто теперь там не знает, даже актеры, кто же был режиссер того хаоса... - Главный режиссер – Один! – величественно заметил, указав пальцем органиста в потолок, высокий пастор местной, еще не действующей, правда, кирхи, хозяин сегодняшнего торжества, точнее, Рождества, но предпочитавший пока держаться в тени. - Я и говорю, что его, их ли никто не знает, даже веря, - продолжал Андрей. – Никто ныне ни на бумаге, ни на экране, ни в жизни не берет на себя открыто его роль, ответственность, вину, да и некому – одни актеришки, да саксофонисты и там, в кустах чужих Олимпов. Взял было один – и где он! Кто сегодня не кинет в него камень, поскольку больше не в кого, хотя и есть за что? Да, был Гавел, драматург, но сценка не та, да и раскололась! Потому, пастор, миллионы и бывших атеистов потянулись туда, в один из главных доныне Театров, с самыми роскошными, искусными декорациями, костюмами, одно сияние которых не оставляет ни тени сомнений среди серости паствы, вызывая тем лишь доверие к вере. Самый великолепный Театр, но где играют лишь некую запредельную, идеальную по своему Жизнь, Сказку, куда наверняка хочется сбежать из этой, и многим, наверное, удается - хотя бы сбежать! Возможно, земные правители, пастыри и низведены сегодня до ничтожества, безликости в преддверии давно ожидаемого вами Второго Пришествия – дабы не выше сапога! Но я – язычник и по вере, а ваши боги – это только ваши же прообразы и взаимные подобия! Для меня же веры нет вне науки, вне творчества, вне природы, главной Истиной, идеалом которых и является Красота! Вряд ли случайно она полонит сегодня все подиумы, трибуны, салоны, улицы, галереи каменного Лабиринта хаоса, бессмыслицы, морального и духовного уродства. Да, вопреки и тому Искусству хаоса, отвергнувшему природную Красоту, но все же созидающему свою, свои образы, подобия вне жизни, вне природы, вне божественной данности! Сон разума, оказывается, порождает не только чудовищ, как и сам Гойя! Да, если сказать честно, прямо, то все почти Искусство – ложь, потому что этого нет в природе, в божественном Творении! Но все это и есть плод с Древа Познания добра и зла, истины и лжи, вкусив который, человек и стал творить то, что не сотворил сам Создатель, создавший вроде бы все для уютной жизни Ню в Раю. Да, даже Его вынудив сотворить им одежды, первый подиум, признав тем первую победу Евы, Красоты, созданной якобы лишь помощницей Адама, хотя, по сути, равноправным Творцом, самым верным и искусным последователем самого Создателя! Сравните ныне ее творения и наши, уже столь тысячелетий пытающиеся описать ее создания в словах, красках, формах, в звуках музыки, меняя подходы, направления, даже школы, но так и не достигнув того идеала, который она и сегодня, в этом хаосе, среди полного абсурда жизни вдруг выплеснула на улицы наших городов? Да, что мы опять не смогли осознать, оценить, опять, как и в Шумере, и в Искусстве, дав тому свою цену, превратив в буквально ходовой, самореализуемый товар – и только! Да, и только! – если взглянуть хотя бы, на кого, на что сегодня потомки Адама, даже наши кумиры, меняют по плотскому, животному, хотя и рассудочному вполне бартеру ее, Красоту уже и официально, даже с позволения толерантной церкви! Не знаю, может, и абстракционизм, модернизм, а, скорее, вся эта Попса отучила, отвратила их, потребителей, от Нее, оставив им доступным лишь скотское, чувственное удовлетворение плотского голода! Может, само их общество потребителей, пожирателей земных благ изжило себя, изживает и так, буквально, становясь бесплодным и физиологически. Может, изживает себя и сам род Адама, Каина, братоубийцы, даже возлюбившего вдруг одного собрата, но тоже бесплодно, убивая тем уже саму жизнь. Конечно, в Искусстве, на сцене эта, как и любая смерть, может быть и бывает тоже красивой, потрясающей, но мы и этим оставляем Ее одинокой по ту сторону экранов, страниц – в жизни! Нет, буквально мы не убиваем, конечно, но тоже предаем, продаем Ее, Красоту... - Мы-мы, но кто крестом освятил, устроил чуть ли не «Грот Венеры» там, в их Лабиринте? – не выдержал Леон, хотя, возможно, в чем-то был с ним и согласен. – И бросила-то она тебя! Как и Муза! - Изгнала ли, как Венера... - того, - добавил с усмешкой Гога, но не стал уточнять под гневными взглядами Теодея. - Да, Леон, ты опять прав, - равнодушно отвечал Андрей, и не собираясь оправдываться, - но иначе бы я, наверно, даже наверняка, так бы и не понял ничего главного в жизни, страдая лишь от множества других, мнимых потерь, и, возможно, как большинство, считая главной – потерю самой жизни... - Главное – потеря веры, а не жизни! – высокопарно заявил пастор, окруженный уже возросшей группой сторонников, куда перебрались и некоторые из окружения сомневающегося Леона. - Потеряв веру, вы все равно потеряете и жизнь, но ничего не обретя взамен! Только в вере вы обретете жизнь вечную, какую Адам и потерял, вдруг усомнившись, хотя его и простил, однако, Создатель... - Что, действительно, освятил? – скабрезно поинтересовался тот, в трех масках, но ему никто не ответил при пасторе... - Да, его потерей мы и живем, хотя их первородный грех нам всем Христос и простил, вроде, но какой лишь – вопрос, - усмехнулся Андрей. – Но я о другом, Леон, о режиссерах этой, сегодняшней жизни, откуда настоящие, признанные вдруг самоустранились, спрятались от нее в своих малых театрах, в мыльных операх, после экзистенциалистов ставя там маленькие проблемы маленьких человечков, до сих пор бунтующих по кухням, гаражам, даже в домах на Набережной, но все как-то за стенами, за кулисами, по тупичкам, словно боясь простора площадей, форумов, где этих стен вроде бы нет... - А ты, разве, не выступал за свободу личности? – с сарказмом спросил Леон. – Но ты хоть задумался при том – какой личности? Свободу какой требовали и прочие буржуазные революции? Байрона, Лермонтова? Или все же личностей Гоголя, Чехова, Достоевского, Кафки, ну, того же Трифонова, раз уж ты упомянул? Молчу про режиссеров, актеров – они играют, ставят не свое, а востребованное! Но что осталось в классике от величия их многочисленных республик, ну, кроме подземелий Гюго? Что осталось от свобод Александра Второго, от Февральской революции? Да, опять Достоевский! Он и сейчас всюду – своими Верховенскими, Раскольниковыми, Мармеладовыми, Карамазовыми, Рогожиными, даже Идиотами... Не комплимент, не надейся! Про воскресшие «Мертвые души», заштопанные «Шинели» уже молчу! Твои сегодняшние прозрения я слышу на фоне и всего предыдущего! Да, ты вдруг одумался, возможно, но этим сотворенное вами уже не исправить! Вы ввергли державу, мировую систему в хаос этого, якобы, свободного рынка, базара, пустив все на произвол случая, полу-животных инстинктов, алчности.., что сейчас и процветает всюду, и ты же вдруг вспомнил о судьбе Гомеровской Красоты, из времен, когда герои, цари готовы были умирать, рушить города, стены – только ради нее?! Со многим сказанным тобой согласен, но одно не пойму – при чем тут ты? И она этого не поняла... Не обессудь, но ведь это так? Не знаю, может, и благими намерениями, но вы выстлали дорогу в ад! И какую дорогу – вспомни? И ты хотел, чтобы и я принимал в том участие, если я на дух этого не принял? Какое новое Искусство, вообще новое, если мы вместо движения вперед опять вернулись к Февральскому аборту, от которого вообще ничего не осталось ни в истории, ни в Искусстве? Нет-нет, я не о самих временах! Не зря же сейчас говорят о роли в Искусстве – не революций, а именно кризисов, упадка... Вот, и против чего же ты тогда пошел?.. - Нельзя идти против веры – это то же самое, что и против себя! - резюмировал пастор, понимавший все по-своему. - Надо идти за нее в новые крестовые походы, и уже идут, вновь лишь разрушая, обращая в хаос, в ад огромный мир другой веры, да и свой тоже, - усмехнулся Андрей машинально, думая о другом. – Да, Леон, согласен с тобой, в итоге я неизбежно и не получил ничего, остался один, потому что и пожертвовал-то только своим – ничем, ничего и не имея! Но я все же добивался, намеревался добиться свободы не просто некой личности, наших ли личников, а личности творящей, кому нужна эта свобода, свобода творчества... - Кто лишь сам может стать свободным, - усмехнулся Леон. – Но я же говорю не о твоих, ваших благих намерениях – только о результате, о том обществе торгашества, продажности, сплошного воровства, бандитизма, повальной нищеты, где всем правят деньги, нажива и опять чинуши, но уже не подконтрольные никому, никакой партии, идеологии все же равенства – только себе самим, да своим паханам, стоящим выше лишь за счет превосходства в этом же! Об обществе, какое, как и у Александра тогда, только и могло получиться из громадной толпы, стада безвольных холопов, твоих личников, да кучки околовластных прохиндеев, перевертышей, мафиози, и опять же каторжан, но уже не политических, над которыми вдруг не стало двадцатимиллионной армии контролеров, надзирателей, которая только и могла справиться с такой же громадной Россией, где, правда, ранее вполне справлялся один царь! И какую же свободу творчества я получил, да и мог бы получить в таком обществе, за что я должен был идти на площадь и бороться? За свободу продаваться, какую первой получила вдруг и Красота, как ты и говоришь? Но кому и что продавать? Или ты сам не видишь, не знаешь, что теперь продается-покупается на культурной барахолке, где наше массовое искусство стало банальной попсой, пародией? Трагедия не только во власти, олигархах, которые могут просто отобрать, купить мой театр. Раньше я ставил для всех, спуская как бы сверху, да, под контролем и верхов, но некий пример, образец для подражания, урок жизни, чем, в основном и является классика, а теперь... Теперь я должен ставить и для всех лишь то, что они купят, что знают, узнают, принимают, но лишь в еще более изощренных формах, чем их бытовые, сексуальные, бессознательные фантазии - клубничку, десерт к ужину! Уволь! Конечно, у меня еще осталась аудитория, сильно постаревшая, есть и среди молодых... Но я про массы, про потребителей тех самых сериалов и сайтов, в которых и заинтересованы дельцы, кому нужен и мой театр: здание, сцена! Или ты не понимаешь, что такое переворот культурной пирамиды, да, где культурное быдло вдруг стало верхом, хозяином, заказчиком? Креативом кретинизма! Да, а творчество опустили на дно кассового ящика... Ты все по верхам ищешь оправданий, а ты спустись вниз, в толпу героев и нового Достоевского, о чем ты и не думал, но что вы и сотворили походя с нашей плохой, но системой! Ваши великие Гайдары, Ельцины, Сахаровы, Собчаки, Станкевичи... Где сегодня дочь Собчака? В самой пошлой телепередаче! Почему? А потому, что он, вещая с трибун о святых свободах всех, не задумался, а кто же эти все в массе, в толпе... Дочь же быстрее сообразила об их потребностях... - Не трогайте Сахарова! Он – святой! – воскликнул из-за столика Петр, молча поддержанный нахохленным Валерием. - Сахаров? – насмешливо переспросил Леон. – А чем святой? Тем, что как ученый, выступил вместе и с вашей Новодворской против порядка, системы, когда та разрешила, дала трибуну, но в пользу хаоса, той хорошо известной ему цепной реакции, но безумия, беспредела, Хаоса, о которой и мой оппонент говорил? Или он тоже не ожидал, не знал, что выйдет при очередном разрушении Вавилонской башни, системы? Извините, на Руси святыми не были ее разрушители! Ваш святой, может быть! Как и ваша Новодворская, из которой просто брызжет ненависть к России, просто к русским – даже не скрывает! Я уж молчу о главном критерии Истины... - Друзья, но вы совсем не там видите лжепророков, причины ваших бед! – осторожно заметил пастор, подозрительно поглядывая и на тех двоих, за столиком. – Это же все – он, он вас смутил, фривольно, в свою пользу трактуя даже Библию, неприкосновенный документ цивилизации! А ведь это не просто хаос и прочее – это именно Апокалипсис, причем именно по «Откровению» Иоанна Богослова, начиная с того же Чернобыля, буквально горькой звезды «Полынь»! Нет-нет, я не о том! Леон, я, конечно же, читал вашу классику! Я прекрасно помню и его: «Красота спасет мир!» Но какая красота? Сегодняшних торговых подиумов, буквально грязных Дефиле, еще большего числа порносайтов, захлестнувших мир, где все, начиная с музыки, это какое-то безумие, скотство, далекое не только от веры?.. Разве, эта красота спасет мир, ежеминутно погружая его в бездну похоти?.. - А про какую вы красоту говорите, пастор? – насмешливо переспросил Андрей, заметив, как замешкался Леон. – Не ваших дефиле, толерантных порносайтов? Да, сегодня там дефилируют и наши красавицы, что неизбежно для вашего торгашеского строя, по недомыслию воспринятому и нами со всем этим! Да, мы здесь бьем порой и рекорды, но у нас все же есть свое понятие красоты! Для нас не главное яркость фасадов, шик парадных подъездов, у которых мы никогда не ждали ничего хорошего. Да, сегодняшние учреждения, типа пенсионных фондов, даже церковь излишествуют этим, буквально сверкая златом, словно дорвались, как бы компенсируя и нищету посетителей... Но идут и туда за другим: взглянуть на святые лики! Не за поучительными проповедями ваших прагматиков, якобы протестантов, учащих нас торговать – они и бегут туда от них, от жуткого прагматизма сегодняшней жизни, и привнесенного к нам ветрами перемен с вашего якобы идеалистического, но в реальности потребительского мира вещей, чего не знали мы, якобы и материалисты! Парадокс, но мы, и отрицавшие божественную душу, всегда считали главным духовную, а не материальную красоту, как ни пытались представить нас, сделать из нас бездушных шариковых, шмондеров! И экономически не могли, и в утопиях наших не было того, что удалось вам: создать Общество дословно “consumer”: «истребителей, потребителей, пожирателей» материи - заразивших булимией, шопингом и нас, благо в большинстве не имеющих для того возможности! Что и спасает! И он говорил о другой Красоте! Разве, Сонечка Мармеладова была красавицей, как, например, Настасья Филипповна, натура еще и сильная, но именно она спасла героя, его душу, а не погубила, как та? - О, да, Сонечка Мармеладова, но, прости.., тут как бы... то, - заюлил слегка пастор, не решаясь сказать прямо, но на удивление вполне владея и тонкостями нашего языка, – что вы и говорили про порносайты и прочее... Нет-нет, мы, говорили, конечно, об этом с другой стороны, с противоположной, хотя мы и к ним тоже толерантно относимся, у нас даже есть их профсоюзы, в отличие от вас, но ведь и Христос не осуждал их – даже наоборот... - Вы даже толерантней и самого Творца, разрушившего Содом, который вы недавно откопали, – рассмеялся Андрей, но чувствуя ужасный холод в груди, - если даже благословляете явный брак природы, правда, присущий и зверю! Ваша толерантность уже буквально становится тоталитарностью греха, порока, противоестественности! - Но ты сам-то кого бы из них двоих предпочел: Сонечку или все же Настасью Филипповну, – с усмешкой спросил Леон, на правах хозяина решив все же поддержать пастора, – спасение или, наоборот, падение, безумие, что ведь и случилось в итоге? Не знаешь? Или все же сказать не хочешь, признаться боишься? А я даже знаю – почему: ведь ты сам, как овца заблудшая, запутался вконец: критикуешь их потребительство, торгашество, продажность.., но кто же был впереди толпы, в первых рядах борцов за все это, за свободы совести, рынков, пусть и творчества, ну, и, наоборот, против того, что сейчас так защищаешь, но перед кем, от кого? Перед больной совестью? Ведь ты-то, прости, совсем не Идиот и не был им и прежде, хотя это вполне могло показаться со стороны! Ты, скорее, Раскольников, может, тоже в горячке, но только убивший не старуху процентщицу, а почти мать, родину, хотя, возможно, вы ее тоже процентщицей считали, только требуя, ожидая от нее что-то, свои проценты!.. Помогал разрушать систему, а теперь говоришь о хаосе!.. Нет, падшую Сонечку ты бы не выбрал никогда! И не выберешь! И не смог выбрать... Потому и остался один, не достойным и спасения! Да оно тебе и нужно как бы, ведь ты ищешь оправдания, может, даже винишь себя, но лишь в наивности, доверчивости, даже, может, и в идиотизме типа княжеского... Но, увы!.. - Да, даже в Библии ищет себе оправдание! – воскликнул с пафосом пастор. – Хотя, замечу, в Откровении вполне может найти и себя, среди множества тех лжепророков, от которых сегодня, возможно, и открещивается, что для них и неудивительно! - Согласен, ведь я, примерно, с того и начал, - обреченно бормотал Андрей, погружаясь в себя или, наоборот, сопротивляясь чему-то внутри себя, вновь пробуждающемуся, рвущемуся наружу, словно из тесной клетки, хотя это, возможно, ему лишь казалось, и это он сам хотел бы вновь вырваться из нее, но лишь не знал выхода для себя, да и не искал его для себя никогда, а теперь больше и не для кого было искать. - Легче, конечно, ставить чужие, проверенные веками, подмостками, пьесы, где все давно известно: сюжет, фабула, персонажи, а, главное, финал... Остается внести лишь нечто свое, новое, согласно веяниям времени, чему и учили, хотя для местных подмостков и это бывает не обязательным, наверно. И в жизни проще, безопаснее поступать, как все, а, тем более, быть простым, сторонним зрителем, а теперь и телезрителем, ничем не жертвуя, особенно в эпохи перемен, смут, где и по названию ничего не ясно, все смутно, и где правым остается лишь победитель, но лишь до следующей смуты... Да, может, ты ничего и не обретаешь при том, но, зато, можешь считать себя потом самым непредвзятым, беспристрастным, полноправным критиком, судьей, как многие ныне, даже среди самых родных и близких, даже среди... любимых... Но разве цель жизни – просто выжить, сохраниться, не ошибиться, не потерять, может, даже себя самого? - Можно возненавидеть и жизнь... Но ради чего – вот вопрос?! – гневно воскликнул пастор. – Ради веры, ради Господа, да, можно потерять и себя, и душу, тем ее и спасая! А вы-то ради чего? - Ради Красоты, истины для, - насмешливо ответил за него Леон, - можно, оказывается, и солгать, и согрешить, и душу, и родину продать, предать! Они лишь не знают - где она, к счастью... - Скажи, скажи ему, Леон, - воскликнул заносчиво Виллисов. - Покажи ему, Леон, контрамарку, - сердито бурчал Гога. - Дай ему план-программку, - посоветовал тот, в трех масках, - пусть убедится, что все идет по плану, где нет лишь его самого... - Да, теперь-то, после всего... вы вполне можете сделать это, - невнятно заметил Теодей, не глядя в глаза никому, - теперь это не загадка, не проблема ни для кого,.. хотя там, тем путем и дважды не пройти – на то ведь он и Лабиринт... Но трагедия - в другом: как выбрать меж земной Красотой, Любовью и крылатой Музой, если они равно бесценны и сами зачастую, да почти всегда выбирают нас. Это труднее, чем даже «Быть или не быть?» И он не смог... Ведь при любом выборе предаешь обеих... А он не смог... И я бы не смог... - Где Муза, Теодей, где Она? – сдавленным, словно от удушья голосом спросил Андрей, уже не различая никого вокруг, кроме него и своей партнерши, цепляясь за нее, как за хрупкую соломинку. – Ее нет здесь и под маской! А ведь она всегда, в любой толпе под маской, поскольку для нее и нет толп, как нет и ее для них! Под маской я ее и встретил, по маске я ее и узнал бы! Да, она всегда в маске: одиночества, отрешенности, печали, даже отчаяния – но всегда вдохновенных, всегда крылатых! Не случайно ведь и маски эти так похожи на ее распахнутые крылья, на которых она и парит над этим миром, над толпами смотрящих под ноги, на иконы или на подобные им всем лики вождей... Но ее нет здесь и под масками! Не знаю, друг, может, ослепил нас блеск тех черных алмазов корысти, сияние золотых куполов слепой веры, а, может, и солнечный свет самой Красоты, но я не вижу ее... Не слышу! И пушки молчат, и толпы давно безмолвны, и вроде бы стихли бури столетия, а ее не слышно – сердце словно оглохло! Неужто смог заглушить ее глас мышиный шорох зелени, клацающий звон золотых цепей и даже поднебесный – колоколов? Или не пробивается глас ее сквозь несмолкаемую вакханалию, алчную какофонию нынешней плотоядной, буквально Попсы, сквозь рев нашего озверевшего, остервеневшего от внешнего изобилия подсознания, беснующегося словно в предсмертной агонии по темным углам, тупикам лабиринта? Да, может быть, мы разошлись с ней, я ли потерял ее среди мертвых, глухих стен его галерей, его безысходных тупиков власти, где ей и нет места, где ей не хватает воздуха, простора творчества, откуда она могла вырваться, только как Икар воспарив на крылах в небеса, или же погибнуть... вместе со мной, бескрылым, забывшим, предавшим ее хоть и на миг, хоть и ради Красоты, но тоже земной, тоже не могущей ныне вырваться из его каменной, пусть и позолоченной паутины, пусть даже усеянной каплями алмазных рос... Но ее нет нигде! Нет без нее и выбора! А это страшнее, Тео! Зачем тогда и свобода, если выбор один: жизнь или смерть? Даже в неволе их больше – там смерть хотя бы равноценна свободе! Но без Музы что жизнь, что смерть – одно и то же, стоящее лишь ненависти, да и то... - Не знаю, что ныне, да мне и без разницы, - глухо ответил Теодей, - для меня Муза – всегда в чужой памяти, не моя, хотя я и понимаю... Но моя память, как и моя скрипка всегда полна ее бессмертных творений! Я почему и прощаю тебе все – потому что... завидую! КАДЕНЦИЯ - Чему? Без Музы моя память – пустыня, пустынный брег, где не слышно и ее гласа, хотя, возможно, я просто потерял там, в лабиринте, слух, сам его каменной пустыней и став, глухим ли, слепым лабиринтом рассудка, пусть и разума, тупики которого полны, конечно, знаний, неких мемуаров, но, в основном, чужой памяти, - выпалил Андрей невнятно и пошел дальше с партнершей, которую так и не отпустил от себя. Было страшно отпустить ее, одну из героинь будущего романа, может, и жизни, вдруг тоже обратившейся в безмолвную пустыню, куда страшно было уходить, возвращаться ли одному... «Идиот! Тупица! Де-Билл! – услышал он вдруг опять чей-то знакомый голос, хотя, кроме нее, рядом никого не было. – Я-я, ну, не-Ты, то есть! Неужели ты так и не понял, что загубил все своими собственными руками? Все загубил! Мы же все с Петровичем сделали! Ну, то есть, чего только ни делали! Даже заманили как бы ее туда – на самый верх, зная, ну, надеясь, что придешь спасать! Да, хоть тут, что называется, не обманулись! Но как спасать? Именно, самому став первым, ее первым и там! Думаешь, зачем мы Фруктозова тогда, именно в тот миг разорили, Леона до ручки, но не ее, довели? Ну, да, в общей куче – для отвода глаз... Совпадение, случайно? Это Петрович-то случайно? Я еще на госдаче понял, пока тебя не было, пока ты... хи-хи, что у него ничего случайного не бывает – даже просчетов! Даже Венера тебе помогала, собой пожертвовала, хотя и сама могла, давно, правда, могла... А ты? «Пришел, победил и... свалил»,”veni, vici, abiit” - обиделся! Да еще и ее увел оттуда, из Лабиринта! Да, не Еленой она звалась – у нас свои на то классики, но мы на то и рассчитывали! Именно на его Татьяну, в чем, возможно, тоже промахнулись, доверившись еще одному писаке! Да, в том числе и тебе, еще и умнику как бы, то есть, вдвойне, вроде, заслуживающему доверия! А ради чего мы с самого начала заслали тебя туда, освободив, можно сказать, от всего попутного, распахнув все врата, заведя, ну, заманив в самое логово, но во всеоружии и к тому же без ниток? А ты, Тесей неотесанный? Пришел с тесаком, всех там обтесал и... А власть? Самое главное уступил этим паяцам, калифам на полтора часа, для кого все - игра, спектакль! Не сам «Грот Венеры», а лишь оперетта, как и для тебя – либретто, но где не ты - герой! Считаешь, нас театр его интересовал, что закрыть, купить можно? Ха, вот и он на тебя зол! Ну, ты-то бы не закрыл? Но ты... бой на бабу променял!»... «Никаких Мен!.. – с досадой пытался возразить он. – То ее Сонатина. Музе нельзя даже подсказать. Она так решила. Да, мне отомстила за предательство одной любви ради нее и за предательство ее ради другой... А вам, разве, не за подобное же?.. А тут еще вы со своей властью, с этой продажной шлюхой! Они хоть на сцене играют, Муза – на скрипке, а там и в жизни бы пришлось - не себя! В лучшем случае – ее сутенера!»... «Черт, что за народец! Который раз облом! Вот-вот, одни Обломовы! Муза, Любовь! Да, понимаю, даже преклоняюсь - но ты-то кто сам? Не себя! Но кто ты теперь и для них? Зачем ты им такой – никто? Даже игрой это теперь не оправдаешь! Даже играть тебе больше некого! А ведь жизнь - тоже театр! Не ваш ли кумир сказал это? – вопил тот, хотя никто не мог то слышать, но вдруг сник. – Хотя почему – некого, если ты не один? Не притворяйся, что не знал! Да, ты и был моим конягой, ну, тем, Троянским, сам же говорил, но, извини, я-то вынуждено - твой пассажир, ты был хозяином положения, хотя оказался... Но то уже и не важно, потому что... был! Теперь ты и тут один, да еще и никто, потому тебя и бросили все, отвергли! Кому нужно ничто? Жесть, во!.. И мне уже не нужен даже... Аватаром, мне тоже больше некем и нечего играть... Да, лишь Аватаркой ты и был! Не зря мы, как и Егорушка, и предпочли умникам... урок еще с Аргонавтов! Они идут до конца, а вы?.. Добились, якобы, свободы и наелись! Идиоты! А зачем она, ее Хаос? А вас то и не интересует! Она, истина – для вас цели, а не средства достижения главного! Потому прощай, уже навсегда! Не знаю, зачем и возвращался». «Знаешь... Затем и вернулся. Я ведь тоже знаю, как убийственна правда, не оставляющая ни надежд, ни сомнений, ни... Да, был, может, этим,.. но не твоим, не вашим, а только ее, без кого я, действительно, никто, ничто... Да, ради нее я должен был пожертвовать самым дорогим: ее Любовью, ею самой и... самим собой... Последнее было самым легким, ведь я и был всего лишь ее...», - обреченно заметил он, ощутив вновь в себе, под сердцем страшную, сосущую пустоту,.. и поспешил мыслями к попутчице: - Выпьешь со мной... хотя бы... за твою красоту? Ее ведь не может скрыть... и твоя маска... - Но ты уже и так почти ничего не видишь, не слышишь, не замечаешь вокруг, - взволнованно прошептала та, пытаясь отвлечь его. – Иначе зачем ты с ними, вообще,.. если сам знаешь... ответы?.. - Да так. Мы ведь и говорили почти одно и то же... от бессилия, - соглашался он, наливая водки в бокал, - я - от бессилия потерь, он - перед находками. Он ведь тоже вынужден скрывать ее под маской. Но разве маска бывает красивой... на женщине? Если она скрывает красоту... Она - ужасна! Театр масок - то был театр мужчин, особенно, политический! Хотя прими Владимир тогда иную веру, сейчас бы, возможно, и все были постоянно в масках... Но ныне в виртуале мы и сами все постепенно становимся масками, «иконками»... - Ты же мог убедиться во всем сам, - настаивала незнакомка. - И не сомневался никогда в том, милая... Но, наверно, хотел, чтобы за завесой слов это не увидели другие, даже он, кому я все же верю, хотя и не умею верить, к сожалению, - пытался придумать он правду, хотя ему трудно было формулировать мысли - уже не мог их уловить, они перепутались с нотами, вдруг снова в нем зазвучавшими, но словно затихая где-то вдали, в прошлом, а, может, и в недоступном уже будущем, которого он сам себя и лишил. – Но ведь и в Хаосе надо ориентироваться на кого-то, на что-то главное... - Просто и тебе легче заблуждаться хотя бы в других, раз не можешь – в себе... И ты, наверно, прав, хотя сама я ненавижу маски. Но ведь красота - тоже маска, лишь не маскарадная, а повседневная, и под ней тоже вполне можно прятаться от других... Однако, той маске я не доверяю, потому что сама маска не стала бы себя прятать, - печально сказала она, подходя с ним к третьей незнакомке... - Это и не маска, а ее новая роль, что от тебя и хотят скрыть, - произнесла очень умным, отчего немного усталым, голосом ее подруга, маска которой чем-то походила на большие очки отличницы, - боясь, что она вернется... Она ли просто не знает – куда... - Она просто сама не знает, кто она сейчас,.. без меня, до этого никогда не сомневавшегося... и в них, - сказал он то ли вслух, то ли про себя, вдруг громко спросив ее. - А ты не согласишься станцевать со мной танец... все же победы, пусть и без наград? Но победы!... - Над кем?.. А, какая разница! Конечно! Я обожаю танцевать! – невероятно грациозно ответила она, одна из трех его последних спутниц, устремляясь вслед за ним, порой закружив, но чаще подстраховывая, упреждая его слишком резкие, пылкие движения, когда они мчались вихрем мимо других пар, вдоль пестрых стен, добавив тихо, с улыбкой, - особенно... мой танец... - Да, пусть он и будет твоим, танцем Виктории! - говорил он, увидев, узнав ли в чужом будущем и ее имя, но пытаясь изо всех сил сосредоточиться на музыке, которая быстро улетучивалась из головы, из памяти вместе со всеми воспоминаниями. Муза уже оборвала последнюю струну, словно не желая ее просто так отпускать, сама ли та не выдержала напряжения, и он, пытаясь ухватиться за ее прощальное эхо, падал, кружась, в черную, пустую бездну беспамятства... Перед глазами краем пропасти плыла призрачная стена маскарадных лиц, костюмов. Она была слишком пестрой и казалась бесконечной, закручиваясь вокруг них несколько запутанной спиралью скрипичного ключа, для которого у него уже не было подходящего замка... Когда они неслись внутри нее уже почти со скоростью звука, света ли даже, стена стала казаться совсем прозрачной, прозаичной.., и за нею, внутри ли нее отчетливо виднелись ступени, круги ли уходящей вглубь бездны некоего карьера, края уступа которого были чересчур скользкими при такой скорости, и из-под подошв их уже вылетали и с шумом осыпались вниз черные, круглые камешки эха, так похожие на последние ноты ее Сонатины... Ми-ля... до... ми-фа... до-ля... ми... соль... Ре!.. Соль! - Нет! Остановись, М-м-м,.. - закричал было он, или таким и был звук, последняя ли Нота порванной в странном, непредсказуемом месте струны, связывающей их, последнего ли аккорда Сонатины, так похожего и на последний удар разрывающегося сердца... И тогда он, впервые за последние годы оказавшись в уже абсолютной, невыносимо трезвонящей тишине и всего зала, почувствовав нежданную свободу, бросился на эту стену высокомерного молчания, желая пронзить ее хотя бы стрелой отчаяния, раз не удалось - любви... И это был Финал... Фи, нал!.. Увы... Типа Zal – на шумерском, хотя у них то Слово означало и «Свет», «Сияние»... Странно... Соль всего... Но это уже была не Музыка - только Жизнь! Влюбиться хотя бы в эту одиночку, всеми брошенную, оболганную, обворованную... было невероятно трудно, почти невозможно – оставалось только... воз... не... на... – той дороге, не там ныне, где привыкли - видеть,.. что тоже надо было уметь,.. ну, или учиться... Владивосток, 2003-15 Рейтинг: +1 Отправить другуСсылка и анонс этого материала будут отправлены вашему другу по электронной почте. Последние читатели: |
|
© 2008-2025, myJulia.ru, проект группы «МедиаФорт»
Перепечатка материалов разрешена только с непосредственной ссылкой на http://www.myJulia.ru/
Руководитель проекта: Джанетта Каменецкая aka Skarlet — info@myjulia.ru Директор по спецпроектам: Марина Тумовская По общим и административным вопросам обращайтесь ivlim@ivlim.ru Вопросы создания и продвижения сайтов — design@ivlim.ru Реклама на сайте - info@mediafort.ru |
|
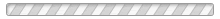
Комментарии:
Оставить свой комментарий