



Рубрики статей: |
Сергiй Осока. Жучок
Не могу не поделиться. Всякий раз, когда читаю его оповiдання, удивляюсь ёмкости его повествования, его словам, его стилю...
Прочтите. Если кто-то не понимает украинского, скажите, я переведу, насколько смогу. Потому что у него есть такие слова, которым сложно найти аналог. И где он из выкапывает? Может из летнего детства, проведенного в селе у бабушки-дедушки, сохранивших и передавших внуку язык своей земли. Жучок Осінь на той час уже втратила геть усі риси осені, але ще не набула рис зими. Вона була ні на що не схожою, страшною, як п’яна жінка, що побивається в калюжі. Я дивився на її корчі з лікарняного вікна і думав про неї. Думав, що вона ніколи не закінчиться, що вона отак скапуватиме і скапуватиме, як чорна венозна кров по стінці крапельниці, а я дивитимусь і дивитимусь, аж поки в мене самого не піде горлом кров. Унизу дві санітарки несли відро з написом „Первое” у сусідній корпус. Унизу сухотний чоловік у запраному бушлаті надсадно кашляв, однією рукою зминаючи червону пачку цигарок, а другою тримаючись за груди. Позаду в лункому коридорі бігали діти і ходили суворі й вимучені медсестри, никала з кутка в куток мати немовляти, яке півгодини тому на каталці з підстрибом потягли на п’ятий поверх в операційну, а вона все никала, тинялася, з липким волоссям на щоках і халатом, ледь прихопленим на грудях. У буфет тим часом привезли зеленкуваті зморщені мандарини, і вусатий грузин на вантажівці лаявся на гнилі ящики, підморгував продавщиці, яка шарілася на ті підморгування, механічно затуляла собою двері, коло яких уже назбиралося чималенько жінок. Мені не хотілося читати книжку про комсомолку Зою Космодем’янську, а натомість хотілося їсти, хотілося до школи і чомусь дуже хотілося стрибнути з вікна. Мені таки дужче всього хотілося їсти, бо їхня пшоняна каша мені вже набридла. Вдома їжа була не набагато краща, але то ж удома. Там і вода з крана капає лагідно, і білизна на батареях сушиться якось затишно, не те що тут. Мати у відрядженні, буде там і завтра, коли мене випишуть. Але вона приходила вчора, принесла рисового супу, печива в кульочку і точно пообіцяла, що тьотя Наташа зварить спеціально для мене курячий бульйон. І щоб я, щойно випишусь, і додому не заходив, а зразу йшов до тьоті Наташі. Я вже не пам’ятав, коли їв востаннє курячий бульйон, я вже другий день уявляв як він гріє мені в роті і як запаморочливо пахне, як я доїдаю повну миску і знаю, що в каструлі його ще дуже багато. Я думав про бульйон і більше не хотів їхньої юшки, яку вже пронесли мимо мене у відрі, їхнього хліба з величезної алюмінієвої миски. А в селі дід може ще й кроля заб’є. Це ж для мене. Я ж хворий. Позаду на лавочці для відвідин жіночка з хитрими очима сиділа з дівчинкою на руках і поправляла на ній то заколку, то піжаму, то стрімляла їй до рота шоколадні цукерки, одразу ховаючи папірці в кишеню свого пальта. - Їж, їж, доця… Вона поглядала то на мене, то на п’ятирічного хлопчика, який снував коридором не в домашній, як на мені, піжамці, а в лікарняній – великій і брудно-синій. Він трохи шкутильгав і тримався рукою за животик. Медсестри й санітарки ставилися до нього трохи гидливо, бо в приймальному відділенні у нього виявили вошей і постригли налисо. І налисо, і вошей уже ніяких не могло в нього бути, але персонал все одно міцно стуляв губи і поважно відводив голову в інший бік. Бо й воші, і піжама, і сам він був схожий чи то на вірмена, чи то на узбека. Був схожий на біженця. А біженцям медперсонал уже відправляв поштою теплі ковдри і дитячі іграшки, якими вже ніхто не грався. Хіба цього мало? - Ви дивіться, жіночко, щоб цей маджахед у вас із сумки чогось не потяг… Велика, як молочна цистерна, медсестра, пропливла мимо, війнувши чи то спиртом, чи то йодом, чи то злістю, хіба розбереш. Маджахед. Мені не подобалось це слово. Мені подобалось слово Жучок. Так його називали в палаті. „Ади, який! Як жучок чорненький!” Як собачка. Жучок майже не вмів говорити і на нечасті запитання лікарки „Отут болить? А отут?” відповідав мовчанням і понурим поглядом з-під брів. Жучок не говорив і не грався. Тільки весь час снував коридором туди-сюди, тримаючись за животик. Вочевидь, саме там йому боліло. Лікарка, слухаючи його, щоразу хитала головою і зітхала. А він мовчав. Оживав лише під час сніданку, обіду та вечері. Рвучко хапав у їдальні свою тарілку і допадався до неї, мов зроду не їв. Ми часто віддавали йому свої миски з тією пустою кашею, бо на нас у палатах чекали ще теплі півлітрові баночки, дбайливо загорнуті районкою. Він брав і ніколи не дякував, а просто їв. Ми й не чекали подяки, ми були діти, ми, похитуючи своїми чубчиками і бантиками вставали з-за столів і стуляли губи, як дорослі, і відводили голову вбік. Ми виходили з їдальні, а коли озиралися, бачили як Жучок змітає зі столу крихти. Посмітюшка. Собачка. Фе. Ми не думали про нього, бо думали кожен про своє. Хтось про курячий бульйон з пахучим лавровим листком, хтось про польські кольорові жувачки і ляльок Барбі, і про роботів. Ото тільки Валька з якогось там села водила його часом за руку коридором і він її не боявся. Тій Вальці нічого більше не залишалося, бо в неї одна нога коротша за другу, а очі косили так, що ми всі весело жартували, буцім Валька з палати може спостерігати що відбувається в маніпуляційній на протилежному боці коридору. Ніхто ніколи не бачив його матері, тільки я, один раз, майже вночі. Я вийшов з палати, бо мені захотілося пити, і йшов півтемним коридором до умивальника. Десь біля лавочки для відвідин чувся якийсь приглушений гомін. Вдень я б не зважив, але вночі мені стало цікаво. Я роззувся і прокрався туди, як нишпорка. Лікарка, яку я пізнав лише за голосом, бо вона була в пальті і в’язаній шапці, дві медсестри, і якийсь чоловік, перебиваючи одне одного, говорили до когось: - Наплодять дітей! - Про шо ти думала, коли везла його сюди?! - Чого ти мовчиш? Ти мати, чи хто ти така?! - Та хіба тобі не видно, яка вона мати… Мені стало теж цікаво, яка ж вона мати, і я підійшов ще ближче. Жінка з високими бровами, і з рисами обличчя, твердими, як у сивого кочового ідола, сиділа на лавці у збитій набік хустці. На її колінах, закинувши голову назад, мирно спав Жучок. А вона, нахилившися вухом до його відкритого рота, слухала, як він дихає. Ані сльозинки не було на її темному обличчі, ані якогось жалісливого принизливого виразу в її древніх очах. Але й медсестер навколо не було. І лікарки в пальті. І чоловіка в окулярах, який цідив крізь зуби „Циганва…”. Була вона – наодинці з диханням сина. І навіть мене не було там. І, Господи, як би я хотів, щоб мене там справді ніколи не було… Наступного ранку я прокинувся від лементу. Вискочив у коридор і побачив, як опасиста санітарка тягла кудись Жучка, ляскаючи рукою йому по штанцях. - У мене одна зарплата! Одна зарплата! Як украдеш, то я ніде не возьму! Ніде не возьму! На кожний повтор припадав дзвінкий ляск. Жучок вивертався, звивався і стогнав, намагаючись ухопитись за живіт, але санітарка не давала, а продовжувала його тягти. І тягла, безконечно тягла коридором перед моїми зомлілими очима, аж поки він не ослаб у її руках, аж поки вона не завважила, що Жучок уже не йде ногами, а справді тягнеться за нею. Поряд зі мною раптом не своїм голосом закричала Валька. Вона не бігла боронити Жучка, не гукала на поміч, вона просто стояла і кричала в стелю, міцно заплющивши очі. Збіглися лікарі і медсестри. Санітарку прогнали, Жучка понесли на руках кудись в ординаторську. Був день моєї виписки. Було ще сіро за вікном. Моя мати, певно, тільки виходила з готелю, несучи в руках папку і сумку. Тьотя Наташа зовсім недалеко, за два будинки, певно клала в каструлю велику жовту курку, призначену на мій особистий бульйон. Але мені було для того бульйону занадто рано, і занадто пізно. Позаду молода мати з ледве зібраним на грудях халатом чучикала немовля, метляючи хвостом веселого волосся. А позаду шелестіли голоси. „Ееее, Жучка вже під простинку”. Я не розумів, що означає під простинку, але здогадувався. Мені чомусь до болю, до якогось панічного нелюдського жаху захотілося підбігти до косоокої Вальки, упасти їй в ноги і ридати, і просити пробачення, і битись головою об кахляну підлогу. Медсестра вже подала мені виписку з печаткою і пакет з моїми речами. Я поставив пакет під стіну і пішов у палату до Вальки. Вона стояла біля вікна. Я обійняв її ззаду. Вона повернула до мене голову і глянула крізь сльози косими очима. Більше всього на світі я боявся тоді, що вона зараз відкине мою руку і кинеться тікати від мене. Але вона не відкинула. І я досі вдячний їй за це. Вдячний так, як мало кому і мало за що був колись вдячний. Я вдягнувся й пішов додому. Біля порога відділення, на землі, в калюжі, корчилася, звивалася й нудила світом опасиста санітарка. Сухотний чоловік у бушлаті жалів її, але одвертався курити й кашляти. У вікнах біліли голови в ковпаках. Було пізно і рано. Починалася мжичка, а може перший сніг. Ніхто цього не знав. ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК Осень в то время уже потеряла абсолютно все черты, присущие осени, но еще не приобрела очертаний зимы. Она была ни на что не похожей, страшной, как пьяная баба, что бултыхается и дергается в луже. Я смотрел на ее судороги из больничного окна и думал о ней. Думал, что она никогда не закончится, что она так и будет сочится и капать, как черная венозная кровь по стенке капельницы, а я буду смотреть и смотреть, пока у меня самого не пойдет горлом кровь. Внизу две санитарки несли ведро с надписью "Первое" в соседний корпус. Там же чахоточный человек в застиранном бушлате надсадно кашлял, одной рукой сминая красную пачку сигарет, а второй держась за грудь. Позади в гулком коридоре бегали дети и ходили суровые, измученные медсестры, металась из угла в угол мать младенца, полчаса назад которого на каталке вприпрыжку потащили на пятый этаж в операционную, а она все металась, не находя себе места, с липким волосами на щеках и халатом, едва прихваченным на груди. В буфет тем временем привезли зеленоватые сморщенные мандарины, и усатый грузин на грузовике ругался, глядя на гнилые ящики, подмигивал продавщице, которая краснела от тех подмигиваний, механично заслоняла собой дверь, у которой уже накопилась приличная кучка женщин. Мне не хотелось читать книгу о комсомолке Зое Космодемьянской, а просто хотелось есть, хотелось в школу и почему-то очень хотелось прыгнуть из окна. Мне таки больше всего хотелось есть, потому что их пшенная каша уже остохорошела. Дома еда была не намного лучше, но это же дома! Там и вода из крана капает ласково, и белье на батареях сушится как-то уютно, не то что здесь. Мать в командировке, будет там и завтра, когда меня выпишут. Но она приходила вчера, принесла рисового супа, печенья в кулечке и точно пообещала, что тетя Наташа сварит специально для меня куриный бульон. И чтобы я, только выпишусь, даже домой не заходил, а сразу шел бы к тете Наташе. Я уже не помнил, когда ел последний раз куриный бульон, и второй день все мечтал-представлял как он греет мне во рту и как удивительно пахнет, как я доедаю полную миску и знаю, что в кастрюле его еще очень много. Я думал о бульоне и больше не хотел их жидкого никакого супчика, который уже пронесли мимо меня в ведре, их хлеба из огромной алюминиевой миски. А в селе дед может еще и кролика забьет... Это ж для меня! Я же больной! Позади, на лавочке для посещения сидела хитроглазая дамочка с девочкой на руках и поправляла на ней то заколку, то пижамку, то всовывала ей в рот шоколадные конфеты, сразу пряча бумажки в карман своего пальто. - Ешь, ешь, доченька ... Она смотрела то на меня, то на пятилетнего мальчика, который сновал по коридору не в домашней, как на мне, пижамке, а в больничной - большой и грязно-синей. Он немного прихрамывал и придержал рукой животик. Медсестры и санитарки относились к нему немного брезгливо, потому что в приемном отделении у него обнаружили вшей и постригли налысо. И, уже стриженный налысо, и без вшей, которых уж никаких не могло у него быть, все равно вызывал у персонала крепко сомкнутые губы и они важно отводили головы в другую сторону. Был похож на беженца. А беженцам медперсонал уже отправил по почте теплые одеяла и детские игрушки, которыми никто больше не играл. Разве этого мало? - Вы смотрите, женщина, чтобы этот маджахед у вас из сумки чего не стянул ... Огромная, как молочная цистерна, медсестра, проплыла мимо, повеяв то ли спиртом, то ли йодом, то ли злостью, да разве разберешь чем? Маджахед. Мне не нравилось это слово. Мне нравилось слово Жучок. Так его называли в палате. "А глянь какой! Как жучок черненький!" Как собачка. Жучок почти не умел говорить и на редкие вопросы докторши "Тут болит? А тут?" отвечал молчанием и понурым взглядом из-под бровей. Жучок не говорил и не играл. Только все время сновал по коридору туда-сюда, держась за животик. Очевидно, именно там ему больно. Докторша, слушая его, всякий раз качала головой и вздыхала. А он молчал. Оживал только во время завтрака, обеда и ужина. Резко хватал в столовой свою тарелку и нападал на нее, как будто никогда не ел. Мы часто отдавали ему свои миски с пустой невкусной кашей, потому что нас в палатах ждали, еще теплые, пол-литровые баночки, бережно завернутые в районную газетку. Он брал и никогда не благодарил, а просто ел. Мы и не ждали благодарности, мы были детьми, мы, покачивая своими челками и бантиками, вставали из-за столов и смыкали губы, как взрослые, и отводили голову в сторону. Мы выходили из столовой, а когда оглядывались, видели как Жучок сметает со стола крошки. Подбирушка-мусорщик. Собачка. Фе. Мы не думали о нем, потому что думали каждый о своем. Кто-то про куриный бульон с ароматным лавровым листом, кто-то про польские цветные жвачки, о куколках Барби и о роботах. Вот только Валька с какого-то села водила его иногда за руку по коридору и он ее не боялся. Той Вальке ничего больше не оставалось, потому что у нее одна нога короче другой, глаза косили так, что мы все весело подсмеивались над ней, будто Валька из палаты может наблюдать происходящее в манипуляционной на противоположной стороне коридора. Никто никогда не видел его матери, только я один раз, почти ночью. Я вышел из палаты, потому что мне захотелось пить, и шел по полутемному коридору к умывальнику. Где-то около лавочки для посещения слышался какой-то приглушенный гул. Днем я бы не обратил внимания, но ночью мне стало интересно. Я разулся и прокрался туда, как сыщик. Докторша, которую я узнал только по голосу, потому что она была в пальто и вязаной шапке, две медсестры, и какой-то человек, перебивая друг друга, говорили кому-то: - Наплодят детей! - О чем ты думала, когда везла его сюда ?! - Чего ты молчишь? Ты мать, или кто ты такая ?! - Разве тебе не видно, какая она мать ... Мне тоже стало интересно, какая же она мать, и я подошел еще ближе. Женщина с высокими бровями, и с чертами лица, твердыми, как у сивого от вечности кочевого идола, сидела на скамейке в сбитом набок платке. На коленях, запрокинув голову назад, мирно спал Жучок. А она, наклонившись ухом к его открытому рту, слушала, как он дышит. Ни слезинки не было на ее темном лице, ни какого-то сострадательно-унизительного выражения в ее древних очах. Но и медсестер для нее вокруг не было. И докторши в пальто. И мужика в очках, цедившего сквозь зубы "Циганва ...". Была только Она - один на один с дыханием сына. И даже меня не было там. И, Господи, как бы я хотел, чтобы меня там действительно никогда не было ... На следующее утро я проснулся от крика. Выскочил в коридор и увидел, как тучная санитарка тянула куда-то Жучка, лупя рукой ему по штанишкам. - У меня одна зарплата! Одна зарплата! Если украдешь, то я нигде не возьму! Нигде не возьму! На каждый повтор приходилась звонкая затрещина. Жучок изворачивался, извивался и стонал, пытаясь ухватиться за живот, но санитарка не давала, а продолжала его тянуть. И тянула.., бесконечно тянула по коридору перед моими обомлевшими глазами, пока он не ослабел в ее руках, пока она не заметила, что Жучок уже не идет ногами, а действительно волоком тянется за ней. Рядом со мной вдруг не своим голосом закричала Валька. Она не бежала защищать Жучка, не кричала на помощь, она просто стояла и орала в потолок, крепко зажмурив глаза. Сбежались врачи и медсестры. Санитарку прогнали, Жучка потащили на руках куда-то в ординаторскую. Был день моей выписки. Было еще серо за окном. Моя мать, вероятно, только выходила из гостиницы, неся в руках папку и сумку. Тетя Наташа совсем недалеко, через два дома, вероятно укладывала в кастрюлю большую, желтую от жира курицу, предназначенную на мой личный бульон. Но мне было для того бульона слишком рано, и слишком поздно. Позади молодая мать с чуть присобранным на груди халатом покачивала младенца, помахивая, как метлой, хвостом веселых волос, . А позади шелестели голоса. "Ээээ, Жучка уже под простынку". Я не понимал, что значит "под простынку", но догадывался. Мне почему-то до боли, до какого-то панического нечеловеческого ужаса захотелось подбежать к косоглазой Вальке, упасть ей в ноги и рыдать, и просить прощения, и биться головой о кафельный пол. Медсестра уже подала мне выписку с печатью и пакет с моими вещами. Я поставил пакет под стену и пошел в палату к Вальке. Она стояла у окна. Я обнял ее сзади. Она повернула ко мне голову и посмотрела сквозь слезы косыми глазами. Больше всего на свете я боялся тогда, что она сейчас отбросит-отвергнет мою руку и бросится бежать от меня. Но она не отвергла. И я до сих пор благодарен ей за это. Благодарен так, как мало кому и мало за что был когда-то благодарен. Я оделся и пошел домой. У порога отделения, на земле, в луже, корчилась, извивалась и проклинала все на свете тучная санитарка. Чахоточный человек в бушлате жалел ее, но тут же отворачивался, чтобы курить и кашлять. В окнах белели головы в колпаках. Было поздно и рано. Начиналась морось, а может первый снег. Никто этого не знал. Рейтинг: +4 Отправить другуСсылка и анонс этого материала будут отправлены вашему другу по электронной почте. |
|
© 2008-2025, myJulia.ru, проект группы «МедиаФорт»
Перепечатка материалов разрешена только с непосредственной ссылкой на http://www.myJulia.ru/
Руководитель проекта: Джанетта Каменецкая aka Skarlet — info@myjulia.ru Директор по спецпроектам: Марина Тумовская По общим и административным вопросам обращайтесь ivlim@ivlim.ru Вопросы создания и продвижения сайтов — design@ivlim.ru Реклама на сайте - info@mediafort.ru |
|
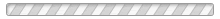
Комментарии:
Муля працювала на олійниці. Набирала в мішок соняшнику, завдавала собі на плече, несла й кидала в жерло. Тоді поверталася, лягала в насіння й чекала, поки видавить, щоб нести наступний мішок. Літав гіркий пил. У кутках кублилася густа павутина. Муля лежала поверх соняшника в подраній кухвайці, з під-якої виднілася чорна спідниця, а з-під неї – спортивні штани, заправлені в валянки. З картатої товстої хустки стирчало неохайне сиве волосся.
Колись Муля вирятувала таку ж, як сама, робітницю. Та напилася й заснула. У кутку, де варилася картопля, зайнялося якесь ганчір’я й та жінка мало не вчаділа. Муля в той день не працювала, але побачила дим, прибігла й витягла вчаділу за ноги. Надворі розтирала їй обличчя снігом, била по щоках, перевертала, кричала – аж поки та не розплющила очей. Наступного дня звільнили їх обох. Муля ходила під вікнами контори, куди її вже не пускали, била руками об поли, матюкалася, набирала в пригорщі щебеню з купи, грозилася кинути, але не кидала, а висипала на землю – камінці дрібно шурхотіли між її чорними пальцями, в які навіки в’їлася олія.
Муля дуже любила, коли з нею віталися. Особливо діти. У відповідь на привітання вона лагідно посміхалася, ворушила руками в кишенях, мов шукала чогось, а не зайшовши, зітхала й хрестила дитину вслід. Діти віталися з Мулею рідко. Куди частіше вони з-за парканів, з підвалів, рівчаків та інших схованок кричали на неї образливі слова. Якщо Муля їх чула, то спинялася, і всі, хто хотів бачити, – бачив, що її чорні пальці клякнуть і в них ще дужче в’їдається олія. Світ над Мулею похмурішав, і навіть лілейник, щедро насаджений біля дворів, блякнув, утрачав кольори. Муля не плакала, але ображалася. І та її образа, постоявши якийсь час над тим місцем, куди її кинули, розповзалася по крамничках, і до пам’ятника Леніну, і в квартири – від неї людям ставало душно, але мало хто з них насправді хоч раз просив дітей не дражнити Мулю.
Часто вечорами у дворі через дорогу Муля з подругою Ольгою пили горілку за низеньким столиком і співали незмінне:
Зелене листя, білі каштани,
ой, як же сумно, як вечір стане.
Судячи з усього, Мулі насправді було сумно. Може, тому, що вона не могла відмовитись від горілки. А може, тому, що горілку так само пила дочка – непоказна веснянкувата жіночка з рудими зубами. А може, тому, що онук погано вчився в школі й недавно почав красти. Хтозна чому, але Мулин голос сумував так красиво, що й мене огортав сум, і хотілося лікувати Мулю від горілки – копитняком, утопленим цуценям і ще бозна чим. Хотілося розгребти гнидники біля її крихітної хатки, де вони втрьох жили, і насадити там як не білих каштанів із зеленим листям, то хоча б того недолугого лілейника. Іще хотілося злити їй на руки. Але як це зробиш? Тому я тільки вітався з Мулею, дуже чемно, дуже-дуже чемно, як з першою вчителькою. А особливо після того, як дід мені сказав:
– Хароша вона жінка. Бабу колись дуже виручила. Їй же бо, от вона – хароша людина.
А баба закивала й чогось одвернулась.
З того часу мені було ще приємніше казати їй "Добрий день!" і слухати, як у відповідь у неї булькає в грудях, і як вона силкується відповісти, а їй щось не дає. Але я стояв і посміхався до неї, терпляче чекав, поки вона спроможеться на слово. І це, можете мені повірити, один з не так уже й багатьох споминів, од яких мені досі стає тепло і лоскітно.
Муля мала дивну звичку – у день зарплати накупити повну торбу морозива й роздавати дітям біля центрального ставка.
– І тобі на. Бери-бери! Пожелай бабі здоров’я! І тобі хай на здоров’я буде.
Якщо з дітьми були матері, вони воліли одходити подалі, аби не нарватися на подарунок з Мулиних чорних рук. Вони хапали дітей і вели їх, вели, швидко, бозна куди, як від бруду. І я не впевнений, але мені здається, що діти ті багато чого втрачали на ходу – щось таке, що хтозна, чи дасться їм у житті ще раз.
Я не цурався Мулиного морозива. Брав і їв. І байдуже мені було на всі мікроби й хвороби. І жодного разу не захворів.
Востаннє я їв її морозиво ранньої осені, у вересні. Привітався, як до вчительки, дочекався, поки вона тремтячими руками дістане з сумки морозиво, прикрите синьо-білою з рожевими літерами серветкою, відходив на два кроки, сідав над водою і їв. Зазвичай Мулине морозиво було дуже смачне, густе й солодке. Але цього разу мені заважав їсти клубок, який підступив до горла, коли я побачив, як вона на мене дивиться. Вона дивилась на мене, мов на якусь тиху радість, яка ніколи не матиме стосунку до неї. Вона дивилась із жалем і погано прихованою надією. На той час її онука вже посадили, а дочка виїхала з селища з черговим хахалем. Подруга Ольга, з якою вони співали, померла від горілки.
Коли я вже доїв морозиво і викинув серветку, підійшли двоє хлопців. Муля їм посміхнулась і дістала з сумки два морозива. Вони взяли, відійшли подалі від стежки і дружно жбурнули гостинці Мулі в спину. Вона дивилася на них, а не на мене. І я знаю, як вона дивилась, бо вербове листя падало в воду, сіріючи на льоту. Сіріли двори й паркани. Веселі собаки сіріли й уже не метляли хвостами. Дві білі плями на її кухвайці теж сіріли й текли кудись униз. Подивитися їй у вічі й сказати щось мені було над силу, а тому я просто схопився на рівні ноги й побіг, і біг доти, доки і ставок, і всі Підварки з вербами щезли з очей.
Востаннє я її бачив узимку. Муля йшла, похитуючись, і ні на кого не дивилась. Безсила брудна сумка билася об ноги й уже точно знала, що в неї ніколи не покладуть сто порцій морозива. Мулині руки ще ворушились – так мимовільно, як зимові гілки, коли з них струшується сніг. А пальці... пальці були вже не чорні. Вони були білі – до мурашок під моєю шкірою. Такі білі, як цвіт каштана в зеленому листі.
Меня ведет сейчас читать на украинском языке. И не переполняет пока что. Иногда я беру и читаю книги на каком-то другом, кроме русского языка, наступает момент насыщения. Что всё. Получается на то время, что больше не хочу читать по-английски, польски, белорусски или украински - насытилась на данный момент. Потом снова закортит. А тут читается и читается, слушается и не пресыщается душа моя. Как будто стала она бездонной. И сколько в нее ни вливай - она все принимает и принимает. И все хочется-хочется наполняться. С удовольствием читаю авторов, пишущих на украинском, владеющих разными диалектными языками. И как это интересно - видишь сразу, откуда в эту местность слово пришло и застряло - осталось - влилось органично в язык - местный диалект людей. По словам можно видеть с кем этот народ общался долгое время, что остались слова чужого языка и стали тут своими. Язык, как вышиванка - сразу покажет кто и из какой местности. У каждого свой узор - вышивки или речи
Позже, в 18 лет, переехала на Украину - с детства любила ее. Полюбила по фильмам и книгам украинских писателей. Украина мне казалась сказочной стороной , расположенной за тридевять земель от заметаемой снегами Вятки. И, конечно же, я стала учить язык. Учила по книжкам, покупаемым мной для маленького племянничка. Потом книжки взрослели вместе с моим Славчиком.
Позже мне понадобился немецкий - выучила. Потом в училище, где доминировал английский, я усовершенствовала свои школьные знания этого языка. Закончила училище, готовящее кадры для судов загранплавания с красным дипломом. Потом понадобился грузинский - непохожий ни на один, знаемый мной до этого язык. принадлежит к немногочисленной группе картвельских языков. Выучила. Научилась и говорить и писать - выписывать кружево грузинского алфавита. Потом мне надо было понимать датский, польский, итальянский, белорусский, чешский. Стала понимать болгарский,хорватский.Я полагаю, что мой прадед Демид Меньшиков, мой отец - накопили в себе столько знаний в языковедении или просто в лингвистике, что мне они пришли по наследству - от их ДНК.
Я почти уверена в том, что в вашей семье кто-то писал стихи. Или же будут ваши племянники или внуки писать. Каждый род копит в себе какие-то знания. И позже они проявляются в каком-то колене потомков. Если бы мы все писали свое древо семей, связанных до нашего появления родственными узами, где описывали бы увлечения или занятия всех, кто как-то причастен к нашему роду, возможно, мы бы понимали, откуда у одного из нас тяга к стихам, у другого к юриспруденции, а третий - прекрасный лекарь...
А так как нам, вернее, нашим бабушкам-дедушкам, папам и мамам было что скрывать, чтобы не попасть под революционную зачистку, то про своих предков мы можем только гадать на кофейной гуще. Про своего прадеда я накапывала, как валерьянку, выкапывала, как корешочки, воспоминания от случайных людей. То старый дед капнет мне, что и как делал мой прадед. То под рюмочку за самейным столом мамина тетя расскажет, как она в детстве ходила к нему на поденщину. И рассказывала о том, что шибко умный был - как будто насквозь человека видел и очень много знал - так говорили о нем в округе. На нас, сновавших вокруг взрослых, никто не обращал внимания - они говорили, я запоминала. Знаю о нем совсем немного. Папа нам боялся говорить о своей родне. Говорил всегда, что рос сиротой и ничего не помнил. А другие, кто думал, что я мала еще ничего не понимаю, говорил при мне о нем. Говорили, что ходил он за моря. Сначала собирал обозы с товаром и направлял в Архангельск, что бывал он в странах, куда можно добраться из Архангельска.
Может поэтому, что прадед мой ходил по морям, меня тянула стихия воды? И так (случайно, но, вероятно, закономерно) получилось, что я тоже стала осваивать океаны, моря и новые страны, про которые слышала только на уроках географии... Сейчас в одной из стран, куда ходил на нанятых пароходах мой прадед - в Дании живет его пра-правнучка и пра-пра-правнук. Как знать - что ее туда забросило? Случай или провидение? Я тоже обошла все страны Скандинавии. Может это Демид Меньшиков проторил для нас с моей племянницей Анастасией и ее сыном Даниэлом дорогу в те страны. Уверена, что прадед знал не один русский язык. А много больше.
Вот как разобраться, откуда у нас любовь и понимание чего-то одного и неприятие и недопонимание другого? Может от наших предков? От освоенных ими и распределенных выборочно на каждого из нас знаний? Думаю, что мой прадед был "полиглотее", гораздо шире в своих знаниях многих предметов, которые ему были необходимы, чем я. Поэтому не заслуживаю для себя такого звания)))
Его потомки - то есть наша семья Менчиковых (папа в 9 лет поменял в своей метрике пару букв по совету его бабушки, чтобы не убили. Был Меньшиков, стал Менчиков) - мы говорим уже на 16 языках. Некоторые из наших внуков не совсем понимают друг друга. Есть сложности. Потому что родились в разных странах. Но каждый из наших внуков знает минимум два-три языка, максимум - 5
И про языки точно. Когда я начала ездить в Венгрию, думала, что никогда и ни за что не смогу понять этот тарабарский для меня язык. Не владела я финно-угорскими. А вот прошло какое-то время, учила по самоучителю и вскоре стала понимать, как собачка. Только отвечала на венгерскую речь на смеси немецкого и английского, вплетая туда и венгерские слова). Думаю, если бы еще туда поездила, то точно бы начала и говорить. Венгрия красивая страна. Старалась узнать побольше историю, когда рассматривала памятники, улицы, мелькавшие названия городов. К этому исподволь приучил папа. Он любил и историю тоже. У нас дома всегда на полках стояли энциклопедии на разные темы.
Папа покупал репродукции известных картин и развешивал по стенам, заставляя нас запоминать названия и имя художника. Знал он очень много. После того, как убеждался, что мы помним и имена художников и названия картин, он "передвигал" их в сени и цеплял новые. Так было и с книжками. Заставлял запоминать авторов. Так я научилась искать позже книги тех авторов, книги которых мне понравились. А вначале злилась, зачем он меня заставляет запоминать и проверяет еще! А он: "Танька, я разбужу тебя в три часа ночи и спрошу, кто написал книгу про Спартака, а ты мне должна сказать спросонья, что автор Джованьоли и спать дальше" "Пап, по ночам спать надо, а не вспоминать кто и чего понаписывал!" Но это имя со своих лет 9-10 я запомнила на всю оставшуюся жизнь.
Папа очень боялся, что мы маленькие можем чего-то сболтнуть, услышав то, о чем говорит его приходивший иногда дядя, который ушел из города жить в лес на починок. Дорогу туда знал только папа и Толя, наш старший брат. Когда папин дядя приходил в город, чтобы купить соли, муки, сахару, спичек, нас детей выдворяли из дома, чтобы мы не слышали "крамолу", лившуюся горько из уст папиного дяди. У него забрали все, что он создал, построил, что можно было отобрать. Хорошо, что жив остался и ушел в лес. Он все время надеялся на то, что когда-то те, кто отобрал у них то, что они создали и развивали, пропьют, прогуляют, что снова настанет их время... Папа однажды во время визита увидел меня на печи, понял, что я все крамолу услышала, стянул меня оттуда и взяв за плечи, потряхивая на каждом слове, внушал: "Танька-матушка, запомни! Вы - дети рабочих и крестьян, вы дети рабочих и крестьян! Повтори!!! И запомни это! Повторяй про себя рефреном!" Я не знаю, как умерли папины деды и одна из бабушек, знаю, что его мать умерла очень молодой, родив его, она заболела тифом, умерла, когда папе было 6 месяцев. Знаю, что дед Иван Демидович женился после смерти своей молодой жены раз 16, но никого не мог найти, кто бы заменил ему его милую Меланию, в 1953 году был утоплен в проруби в реке Нижний Тагил. Там на Урале жили папины родственники. Другой папин дядя жил в Екатеринбурге, отдал красным свои дома, завод, собрал необходимое белье в саквояж и уехал оттуда в Нижний Тагил. Не мог смотреть, как его дома тут же разграбили и расколотили все, что он бережно собирал-покупал. Переживал, что им плохого сделали хрустальные люстры, зачем их бить? Наша мама мне как-то рассказала, какое красивое споднее белье у него было. Наверх он надевал что попроще, а вот нижнее белье себе оставил то, к чему привык. И просил маму стирать его осторожно. Было шелковое и с тончайшими кружевами. (они с папой тогда, построив дом в Вятке, приехали в Нижний Тагил к отцу, но мама тосковала по дому, по матери, по братьям и сестре, поэтому после смерти папиного отца Ивана Демидовича в его 53 года, они вернулись в Слободской) Мой старший брат помнил тот дом, в котором они жили, пробовал найти кого-то. Не получилось.
Наташа, не знаю, напишу ли я книгу, но стараюсь писать, чтобы хоть что-то осталось в памяти наших детей и внуков об их предках. Потому что старшего брата не стало 12 лет назад. Иринка и Витя мало что помнят. Я, хоть и старше Витя всего на 20 месяцев, но я всегда и все подмечала. Память моя родилась вместе со мной. Хотя Витя тоже многое помнит. Но у него было свое видение. Мы смотрели на мир с разных точек, разных веток. Он скользящим взглядом, я пристальным, собирающим все крохи воспоминаний, которые слышала от кого. У Вити другой склад ума - физико-математический.
Мамина бабушка и мама - это вторая огромная загадка. Бабушка спрятала все корешки о себе. Оставила только имя и отчество. Фамилию, под которой родилась она в повторной метрике изменила, взяв фамилию отчима. И сколько я ее ни спрашивала, никогда она мне ничего не сказала. Я злилась тогда, бабушка, ты не можешь быть на одной фамилии со своей сводной сестрой тетей Саней! Ты была рождена от другого отца. Она Александра Семеновна, а ты Анастасия Яковлевна! Она родилась в Вятке, ты в Сибири или Петербурге. Потом я таки убедилась, что она родилась в Петербурге, они с дедом до войны туда ездили - повидаться с кем-то - это я узнала из шепотков за печкой. Дед, чуть-чуть за 40 под Ленинградом позже попал в окружение. Они ободрали все деревья - ели кору. Его комиссовали и отправили домой умирать. Не стало 9 апреля 1945 года. Никто из ее четверых детей ничего из настоящей правды о своей матери не знал. Бабушка поменяла свой год рождения, место рождения, свою детскую фамилию. Нашла деревню, в которой сгорел весь архив, пошла туда, дождавшись 1948 года и выписала там себе и своим детям новые метрики. Изменила свой возраст. Но я помню, как она мне говорила, что была моложе деда на 5 лет. В метрике и потом в паспорте она написала себе 1902 год, год рождения деда Ивана Егоровича. И потом, за несколько лет до смерти, проговорилась. Женщина))) Когда на ее сокрушения, что она ведь уже и не хозяйка в дому, я ей сказала: "Бабуш, чем тебе плохо, когда тетя Зина взяла в свои руки бразды правления? Тебе уж под 80, а ты все хозяйкой быть хочешь. Ох, как она обиделась, что я прибавила ей пару лет, в то время ей было 78 по паспорту. Она начала мне доказывать, что ей 74й год только. А потом поняв, что проговорилась, махнула рукой и заплакала. Потому что я ей стала считать...
Сложную, очень сложную жизнь им пришлось прожить. Чего только на из век ни припало... Войны, революции, голод, раннее вдовство - горя на их долю - через край...
Папа однажды, когда мне уже было 14 лет, стал немного раскрываться. Позвал однажды к старинной фотографии, прибитой тонким сапожным гвоздиком к деревянной перегородке между кухней и большой комнатой (мы ее называли заборкой). На снимке вытянувшись струной стоял ферзём молодой офицер царской армии. Его фуражка, сдвинутая вбок, чудом держалась на голове. И весь он как будто привязанный за невидимую нить, улыбаясь, вернее, даже не улыбаясь, а сияя внутренним светом, тянулся вверх. Папа показал мне его, попросил пристально посмотреть и запомнить лицо, сказал, как будто знал наперед, что через десяток годочков его не станет, чтобы я запомнила это фото. Что это его дядя. А вот что с ним сталось позже, он мне тогда не сказал. Позже я папу не переспрашивала. Мы все четверо были еще молодыми, когда их с мамой не стало...
Но военная струнка от этого папиного дяди пролегла по нашему роду. Папа боялся идти учиться, потому что потом могли раскопать его происхождение, родословную. Он старался работать там, куда никто не сунется искать какие-либо старинные корни. Но служить в армии ему очень хотелось. Поэтому он работал одно время в наших Красных Казармах - был сверхсрочником. Свою мечту о военной карьере он заставил воплотить нашего младшего брата. Толя бы не прошел по здоровью. Были у него с рождения проблемы с легкими. А Витя был сильным высоким, стройным красавцем. И папа, вопреки желанию Вити быть физиком ядерщиком, заставил его ехать в Омск в высшее танково-командное училище. Витю никто не подталкивал по карьерной лестнице. Сам, своими знаниями, он с красным дипломом закончил ОВТКУ, уехал служить в Польшу, позже, отслужив в Амурском крае, где цивилизацией не пахло, там трагически умерла их дочка, поступил в Академию, после нее попал в Чечню, на его долю припала первая чеченская война. ТО, что он побывал в плену, я узнала не от брата, а от его друзей. Витя слишком порядочен, чтобы что-то говорить о себе. В нем сосредоточены все - ум, честь и совесть всего нашего рода. Особо стоит Честь. Ум - на первом месте.А вернее рядом с Честью. Вите всё досталось в очень полной мере -даже сверх! И добродетелей и горя. В, якобы, мирное время, мой брат побывал во всех горячих точках. Но, каким был Человеком, таким и остался. Мудрым, эрудированным, сильным.
Когда я получила от них телеграмму о гибели Наташеньки, не дожившей до своих двух лет одного месяца и одной недели, я не могла в такое поверить. Спросила Витю, отчего ее не стало. Они мне написали, что воспаление или отек легких. Я ни за что не поверила.
Я знала своего брата с рождения, помнила, как морозным декабрьским днем папа привел маму из роддома с кулечком, свернутым из ватного одеяла, в котором лежал брат, до сих пор фрагмент из прошлого, как застывший кадр хроники - перед глазами папино улыбающееся лицо, наклонившееся над сыном с рефлектором, он старался его согреть синей лампой после морозной улицы. Они с мамой были оба счастливы, потому что до нас с Витей, они потеряли двоих детей-младенцев - одного за другим. Таню и Витю, которые родилсь после Толи. И папа сказал, что у него были и будут Таня и Витя. Вопреки всяким советам бывалых, их имена получили мы с братом.
Мы совсем маленькими спали с Витей в одной кровати, я знала все его мысли, как будто они переливались в мою голову по подушке, пока он спал. Позже, когда он уехал учиться, писал мне письма, добрые, обстоятельные, присылал засушенные сибирские цветы, растущие на танковых полигонах, писал стихи. Я могла читать его письма из училища, потом из мест службы между строк. Я угадывала его настроение не знаю каким чутьем и находила в тех письмах то, о чем мой милый брат и не думал написать. Может между строк укладывались вся его невысказанная грусть, боль? И я, как в детстве, снова угадывала его недомолвки. Мой младший брат был моим другим Я - хорошим, очень добрым, предельно честным и мудрым. Все самое чистое, самое светлое, которое бы должно на нас поделиться пополам, было собрано в Вите, а самое взбалмошное, самое бесоватое, неугомонное, противоречивое было собрано во мне. Как будто черты характера Вити прошли через меня, вперед него родившуюся, как через фильтр, и все непредсказуемое , сумасбродное, заполошное застряло во мне, а все хорошее просочилось в Витю. Поэтому в версию про воспаление легких я не поверила. Хорошо зная своего брата, я не стала давить, не стала бередить их рану. Я ждала. Ждала, когда мой брат переболеет своей утратой, созреет, чтобы рассказать мне, как это все было. И время настало.
Витя поступил в Академию бронетанковых войск и артиллерии в Москву. Тяжело было им обоим. Старшему их сыну было тогда года 3. Вова очень тяжело переживал исчезновение из его жизни сестрички Наташи В Завитинске, через некоторое время после смерти Наташи родился мой второй племянник Сереженька. Надя тряслась над ним, боялась оставить его одного, чтобы ничего не случилось. Они панически боялись за своих детей.
Учась в Москве, каждый выходной мой брат выделял из их скудного бюджета три монетки по 15 копеек и звонил мне. Мы успевали с ним быстро переговорить и ждали связи на следующей неделе. Было, если все еще хорошо помню, 5 марта, солнечный весенний день. На Украине капало с крыш, ноздреватый снег на припеках понемногу таял, обнажая прошлогодний мусор.
Витя закинул все три монетки в автомат переговорного пункта и мы с ним начали говорить. Сказал, что сегодня их дочке исполнилось бы 5 лет. Но она осталась лежать в земле Завитинского кладбища...
Лед на его душе подтаял и мой брат смог говорить о смерти своего ребенка. Я очень осторожно спросила Витю, не смог бы ли он мне рассказать о причине смерти. Потому что я не поверила в то, что он мне сказал.
- Таня, это официальная причина. Так написано в свидетельстве о смерти. Мы всем озвучиваем именно ее. Не хотим никому ничего рассказывать. Теща бы просто не выдержала. Тесть еще крепился. А мать...
Ты же помнишь, я тебе говорил, что там, где я служил, были нечеловеческие условия для существования молодых семей. С нами танкистами в пятиэтажном доме жили и летчики. Летчики , летавшие в Афганистан. (Тогда была война в Афганистане) Они, улетая на задание, просили меня, чтобы я помогал их женам нанашивать из колонки воду на все -3,4,5 этажи, что выше нашего. И я помогал. Надя сама была с детьми. Вове 3, Наташе годик и 10 месяцев.
Когда в наш городок привозили хлеб или какие-то продукты, жены бежали поскорее, чтобы успеть купить. Так наша соседка привела свою трехлетнюю дочку, потому что ей надо было сбегать за хлебом. Надя в туалете вываривала на керогазе белье, готовя в это время на кухне.
Наташа с соседской девочкой играли, они открыли дверь в туалет, и девочка толкнула Наташу на кипящую выварку. Та опрокинулась на Наташу, она от шока села в кипящее варево, расплывшееся по полу. Надя прибежала из кухни... Дальше больница. За 55 километров от нас был ожоговый центр. Но их не отпустили туда. Военврач сказал, что сам будет лечить. У Наташи пошел отек легких. И она умерла. Надя взвыла первобытным оглушающим воем.
Вой разорвал стены военного госпиталя. Мать взвыла нечеловеческим воплем от страшной, непоправимой потери. Сегодня утром была ее девочка, которая уже умела считать, знала некоторые буквы, ее этому учил старший брат Вова, знала стишки и радовала этим маму. Она еще утром мыла ее, одевала-обувала, дышала запахом ее теплого тельца. Кормила... А сейчас перед ней лежало бездыханное в обрывках сваренной детской кожицы незнакомое красное обваренное тело ребенка - тельце ее дочки...
-Наташа, как будто услышала материнский вопль, ожила после клинической смерти. Да ненадолго. Как будто вернулась попрощаться. Попрощаться навеки...
Витя говорил-говорил... Как будто весна своим теплом растопила чуть-чуть тот вечный леденящий панцирь, покрывший его душу. Мы с ним оба плакали. Я боялась нарушить тот мостик доверия, который Витя снова проложил между нами. Бог, видимо, захотел помочь своему Сыну Божьему Виктору освободить душу от тяжкой ноши беды, потери и невозможности переиграть события, монетки каким-то непостижимым образом застряли в автомате и нас не прерывали. Витя рассказал мне все. Как будто прорвало плотину льда и он медленными крыгами(льдинами), скрежеща и стеная, спадал с его души.
Говорил о том, как он поступал в Академию. Как экзаменующие ему не могли поверить в его фундаментальные знания, позже не верили, что он знает устав назубок. Тогда он попросил экзаменатора взять книгу и заставлял его перелистывать страницы в нужных местах, и говорил - говорил- так, как было написано. Где кончалась одна страница и начиналась другая. Он помогал своим солдатам учить устав. Поэтому и сам его выучил назубок. Всегда - с рождения, всё, что бы Витя ни делал . он всегда делал это основательно. Да еще при его-то памяти.
Когда зачитывали списки зачисленных, дойдя до буквы М, Витю попросили подняться. Он уж думал, что все, не захотели по какой-то причине его принять в Академию. Нет. Захотели отметить его, как самого лучшего абитуриента.
После учебы была Чечня, потом после первой войны они переехали в наш город в нашу часть. Дети выросли. Выучились. Сережа поступил в то же училище, которое закончил Витя. Стал офицером. Потомственным военным. Четвертое поколение.
Вова - старший сын - складом ума пошел в Витю. Поступил в университет на факультет, связанный с программированием, с компьютерами. Вова у нас парень, как говорит мой брат, очень своеобразный). С раннего возраста Вова всерьез стал интересоваться компьютерами и их программированием. Лет в 9-10 он просил отца покупать по составленному им списку детали, сам собирал компьютеры и сам писал программы к ним. Это был год 1989-90, когда компьютеры не были на прилавках магазинов, как сейчас.
Чуть позже мы приехали к ним в гости. Выходила замуж наша кузина Лариса. Мы с сестрой и моей дочкой остановились, конечно же, у Вити. Рано утром около 6 часов вижу, сидит наш Вовочка за столом и что-то пишет.
-Вовочка, ты чего так рано встал?
-Да вот, мне надо дописать программу для компьютера. Но папа не позволяет сидеть дольше 9 вечера. Но сказал, что не ограничивает меня во времени утром. Могу вставать, когда захочу. Поэтому я завел будильник на 5 утра и скорее за стол. Я Вам, тетя Таня, не мешаю?
- Ну что ты, Вовочка! Я просто удивилась! Ты точно такой же упертый, как твой папа. Он тоже, когда учился в школе, мог сидеть над олимпиадными задачами до тех пор, пока не найдет решение. Но в отличие от него, наш папа и мама позволяли ему сидеть столько, сколько он сможет выдержать.
Как-то оставил маме записку. "Мама, разбуди меня в школу, я уснул в 5 утра. Мама, я решил!!! Я нашел решение!" Ту задачу ему дали в Кирове в школе юных математиков при пединституте, куда они и несколько его друзей ездили из нашего города. (До этого я туда же ездила. Только в школу юных филологов)
Преподаватель института был впечатлён! Витя решал задачи по математике, физике из "Кванта" Там через этот журнал его заприметили преподаватели из Томска. Туда Витя было наметил ехать поступать на физика ядерщика. Да папа запретил. Не мог ему наш целомудренный отец доходчиво и внятно объяснить, что его сын мог бы стать там, если не молодым трупом, то ранним лысым импотентом. Тогда не было никакой защиты. Никто не думал о здоровье ученых. Думали только чтобы догнать и перегнать. А не о том, чтобы защитить жизни тех умных молодых людей, кто решил посвятить свою жизнь физике или химии, ядерной энергетике или изобретению всяких андронных коллайдеров.
Поэтому папа запретами, нежеланием поддерживать его студенческую жизнь материально, решил судьбу и выбор брата. Он стал Военным. Выйдя в отставку в звании подполковника, на другой день пошел работать по приглашению в администрацию города. Позже его избрали мэром. Через пять лет он прошел на второй срок. Но сделал самоотвод. И из зала заседаний его водитель еле успел довести его до госпиталя, где он пробыл в реанимации долгое время. Не место честному и порядочному человеку на такой должности. Они там очень быстро сгорают. И почти у всех их одинаковый диагноз. Я это слишком поздно поняла... Но, слава Богу, мой любимый брат выкарабкался, выжил. Я его очень люблю. И все его родные и двоюродные сестры - очень любим нашего брата, оставшегося в единственном числе после Толиной смерти. Троя умер на 50й день рождения Вити. И мой милый брат, вместо заздравного юбилейного стола 1 декабря 2005 года поехал на похороны нашего старшего, тоже любимого братика. Было Толе 56 лет.
Спасибо Вам за прочтение. Чего-то меня сегодня повело. Может потому, что у нас длинный выходной. Вчера был день Благодарения. А сегодня 17 лет, как я приехала в Америку. На день Благодарения
У Эльжбеты всегда так празднично! Любой праздник она умеет устроить очень торжественно вкусно и красиво. Я приготовила запеченную картошку, сладкую картошку-пюре и стаффинг - это как сайд-диш для мяса турки. Наполнитель - если перевести. Им раньше наполняли индюшку. А теперь готовят отдельно и подают к мясу. Эльжбета сказала, что она не делает стаффинг. Я принесу, пусть попробует моего. Настины друзья, для которых она однажды приготовила на день Благодарения стол, высоко его оценили))) Пока она возилась с индюшкой в духовке, они его размели за пару секунд и попросили на Рождество такой же сделать.
В такой праздник я прилетела сюда 24 ноября 2000 года. И нас, нашу группу, пригласили к себе американцы на день Благодарения. Как в кино. Красиво убранный дом в ДеМойне, штат Айова, аппетитные запахи свежеприготовленной и уже расставленной еды, все украшено в стиле праздника. Незабываемый день. Позже, когда я уже обжилась в северном предместье Чикаго, я тоже старалась устроить этот праздник для тех, кто только приехал. Как меня принимали с радостью и рассказывали все, что касается этого праздника, так и я стала делать.
И мне дали приз - индюшку, которую надо было забрать в магазине. А если индюшка, то к ней надо и все остальное. Пришлось купить огромную сетку апельсинов - я начиняю внутренность половинками апельсинов и снаружи ими обкладываю птицу. Натираю внутри и снаружи специями и ставлю в духовку. На каждый фунт мяса надо 20 минут духовки. Турка была 16 фунтов, значит 16 х 20 минут - прилично времени. А к турке надо еще и того и другого - короче оставила в магазине 200 долларов - а пошла-то за бесплатной туркой, так мы тут называем индюшку)))
На тот праздник мы с друзьями ехали в Висконсин. Тогда я предложила Насте, чтобы она собрала своих друзей и показала им, как надо отмечать День Благодарения, какой стол, какое оформление, что едят и почему - рассказала ей немного про пилигримов, про то, как им помогли индейцы, как собрали первый урожай и почему именно эти, а не другие продукты были избраны для праздничного стола. Настя и так все это знала, дополнения не помешали.
Пришли у ней молодые люди, у которых тут никого не было. Дети, для меня они все дети - кто в 18-20, кто чуть постарше, сами приехали в Америку, зарабатывали деньги и посылали еще родителям помощь.
Настя постаралась на славу. Сама нарезала обычных для нас салатов, купила сластей, и сделала то, что привычно для американского дня Благодарения. Красиво оформила стол. Я пошила скатерти и салфетки цветов этого праздника. У меня были кольца для салфеток в виде индюшек, дочка расставила на столе малюсенькие тыковки. Раздвинутый стол гостеприимно принял 10 человек.
Парни были в восторге. Некоторые ей сказали, что никогда в жизни не забудут этого ее застолья, что только она им действительно показала, что такое Благодарение. И я рада. Дети - для меня они все дети - отогрели души свои. Нелегко быть в чужой стране, учить язык, найти работу, которая бы и помогала выжить и нравилось на нее ходить. Очень многие дети, приехавшие сюда, постоянно помогают своим родителям посылками и переводами денег. Мне хотелось их как-то поблагодарить. Пусть не сама напрямую, через дочку, через ее желание сделать для своих знакомых и друзей настоящий праздник.
Оставить свой комментарий